KARL OTTO CONRADY
GOETHE
LEBEN UND WERK
Zweiter Band
Summe des Lebens
Athenaum
1985
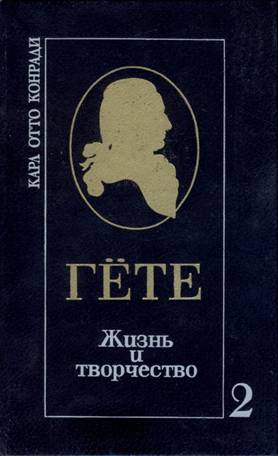
КАРЛ ОТТО КОНРАДИ
ГЁТЕ
Жизнь и творчество
Том 2
Итог жизни
Москва
Радуга
1987

КОНРАДИ К. О.
Гёте. Жизнь и творчество. Т. 2. Итог жизни. Пер. с нем. / Общая редакция А. Гугнина. — М.: Радуга, 1987. — 648 с.
Во втором томе монографии "Гёте. Жизнь и творчество" известный западногерманский литературовед Карл Отто Конради прослеживает жизненный и творческий путь великого классика от событий Французской революции 1789— 1794 гг. и до смерти писателя. Автор обстоятельно интерпретирует не только самые известные произведения Гёте, но и менее значительные, что позволяет ему глубже осветить художественную эволюцию крупнейшего немецкого поэта.
В ТЕНИ ВЕЛИКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Реакция немцев на революционные события во Франции
На эти сенсационные
события 1, вызвавшие
замешательство и потрясение умов, немцы, пребывавшие лишь в роли наблюдателей,
реагировали по-разному. Налицо была вся гамма реакций: от восторженного одобрения
до принципиального неприятия. Между этими двумя полюсами
вмещались другие мнения: одни взвешивали все "за" и все
"против", пытаясь дать дифференцированную оценку событий; другие
размышляли о возможных последствиях случившегося для пестрого сонмища немецких
княжеств, где не могло быть и речи ни о каком-либо общем политическом
волеизъявлении влиятельной буржуазии, ни о способности ее к сплоченным
действиям. К тому же дальнейший ход событий — серия казней,
последовавших в сентябре 1792 года, включая и казнь короля в январе 1793 года,
— отпугнул многих из тех, кто поначалу встретил революцию ликованием. Например,
Клопшток в 1789 году написал оду "Познайте самих себя":
Франция ныне свободна. Столетья прекраснейший подвиг
С Олимпийских вершин воссиял!
Но неужто не в силах твой разум постичь
Происшедшее? Или мрак застилает твой взор?
Если так, то листая Историю мира,
Отыщи в ней родной отголосок,
1 В переводе опущена вводная глава "Ситуация во Франции", рассказывающая о событиях Великой французской буржуазной революции 1789—1794 гг. — Прим. ред.
5
Если сможешь. Веленье Судьбы! Таковы
Наши братья, французы. А мы?
Ах, напрасный вопрос! Вы немы, как рабы, о немцы!
Почему вы молчите? То терпенье
Усталого горя? Иль предвестье больших перемен,
Как затишье пред яростным штормом,
Что швыряет тяжелые тучи,
Превращая их в ливень и град?
Дождь прошел. Легкий воздух чуть дышит. Сбегают
С гор ручейки, и каплет с дерев.
Все встрепенулось, живет и ликует. Гремит соловьями
Роща — им вторит ликующий хор.
Юноши пляшут вокруг сломившего деспотов мужа,
Девы к кормящей матери льнут.
(Перевод С. Тархановой 1)
Однако в 1793 году
поэт, восторженно встретивший революцию, рассуждал уже по-другому. В
стихотворении "Мое заблуждение" он сетовал:
Ах, угасло блаженство мечты златой,
Не сияет мне юной зарей,
И горе камнем на сердце легло
Будто боль отвергнутой страсти.
У жителей немецких
государств не было недостатка в информации из соседней революционной страны.
Газеты и журналы публиковали статьи о событиях в стране "франков" или
"неофранков", как вскоре стали их называть. Публиковались также и
отчеты о дебатах в Национальном собрании, пусть в сокращенном или выхолощенном
цензурой виде. Париж всегда был желанной целью для многих любителей
путешествий; теперь же устных и письменных рассказов всех, кто в эти
знаменательные месяцы и годы находился в Париже или же только что возвратился
оттуда, ждали с особенным интересом. Правда, иные относились к этим рассказам
настороженно, опасаясь, как бы их соотечественники не заразились революционными
идеями. И в самом деле, кое-где вспыхнули волнения, в частности в Саксонии,
Баварии, Мекленбурге и Силезии, однако они не имели сколько-нибудь значительных
последствий: феодальный строй и феодальные
1 В дальнейшем стихотворные переводы, принадлежащие самим переводчикам данной книги, специально не оговариваются. — Прим. ред.
6
привилегии
сохранились. Лишь после того, как французы завоевали немецкие
земли на левом берегу Рейна там имели место серьезные попытки
установления республиканско-демократического строя. Что бы, однако, ни
создавалось под охраной и под нажимом иноземной оккупационной власти, оно никак
не отвечало воле и устремлениям большинства населения 1.
И по эту сторону
Рейна тоже создавались якобинские кружки.
Только
исследования последних лет вырвали из забвения деятельность немецких якобинцев,
неотделимую от предыстории демократии, — из забвения, каковым начиная с XIX века национально-консервативная и
националистическая историография карала все неугодные ей явления. Впрочем, хотя бы походя, здесь необходимо
заметить, что содержание таких понятий, как "якобинство" и
"якобинцы", в приложении к Германии не так-то легко определить. Дело
в том, что многие современники тех событий в полемическом запале, а то и с
целью компрометации порой спешили объявить якобинцем всякого, кто сочувствовал
социальным преобразованиям, поэтому в принципе не отвергал состоявшегося во
Франции переворота. Как всегда в подобных случаях, при этом меньше всего
заботились о нюансах. Безразлично, желал ли кто-либо глубоких реформ или же
мечтал о полной революции, любого тотчас обзывали бранным словом, а именно
"якобинцем". Для адекватной характеристики тогдашней
действительности, однако, необходим дифференцированный подход к ее явлениям.
Реформистски настроенные либералы отстаивали иные пути преобразования общества,
чем сторонники радикальной демократии, — как теоретики, так и практики,
стремившиеся к осуществлению полного народного суверенитета, с привлечением
всех слоев населения, а также к полному устранению существующей системы, если
надо — с помощью насилия. К тому же почти все, кого можно было причислить к
якобинцам, проделали эволюцию, равносильную изменению политических взглядов.
Поэтому целесообразней вести разговор о якобинских периодах и якобинских
публикациях. Авторы этих работ выступали за радикальную
демо-
1 Подробную и объективную картину воздействия Великой Французской революции см.: Жорес Ж. Социалистическая история французской революции. Т. IV. Революция и Европа. М., Прогресс, 1981. — Прим. ред.
7
кратизацию общества,
революцию же, со всеми неизбежными ее последствиями, не только не отрицали
принципиально как средство преобразования общества, но, напротив, сознательно,
с учетом французских событий, включали в свою политическую программу. В
публикациях якобинцев, стало быть, господствовал иной принцип, чем тот, который
в раздумьях об итальянском искусстве был сформулирован Карлом Филиппом Морицем
и Гёте: "Привилегия прекрасного в том и состоит,
что оно не обязано быть полезным". Совсем напротив,
якобинские авторы создавали оперативную политическую литературу для
непосредственного приложения к прозаической действительности, притом в самых
разнообразных формах: в листовках и речах, в стихотворениях и сценических
диалогах, не говоря уже о журнальных публикациях. Это была дидактическая
литература, стремившаяся разъяснить народу, почему он бедствует и каким образом
можно это положение изменить.
Необходимо
учесть, однако, что активных якобинцев в Германии было совсем немного, к тому
же серьезные дискуссии по поводу эпохальных событий во Франции могли иметь
место только среди людей, хорошо разбирающихся в политических проблемах и
достаточно образованных, чтобы читать публикации об идейных и политических
спорах того времени и даже, возможно, самим в них участвовать. В сравнении с общей численностью населения
таких людей было мало. Естественно, Виланд, который еще в
1772 году в своем романе "Золотое зеркало, или Властители Шешиана"
воплотил тему воспитания доброго монарха, как и разумного государственного
устройства, в дальнейшем также продолжал создавать "политическую"
литературу и постоянно снабжал читателей, а стало быть, и веймарские круги,
особенно в своем журнале "Тойчер Меркур", размышлениями о Французской
революции. Рассуждения его по преимуществу носили скептический характер;
чем дальше шла революция, тем серьезнее становились его сомнения: можно ли
вообще считать, что революционные преобразования, вкупе со средствами их
осуществления, способны привести к провозглашенной цели — созданию лучшего,
истинно достойного человека общества? Автор "Золотого зеркала"
неуклонно развивал свое убеждение в том, что реформы в рамках существующей
системы возможны и этих реформ будет достаточно для осуществления поставленной
задачи. Перейти
8
этот предел он
отказывался. К тому же, подобно многим другим, он ссылался на специфику
немецких условий, в которых революционный переворот был бы и невозможен, и
неразумен.
Однако даже
представителям тех кружков, которые жадно впитывали всю поступающую информацию
о Франции и напряженно размышляли о желательной или же отвергаемой ими
государственной и общественной системе, — даже им многое из того, что
происходило у "неофранков", оставалось неясным. Причина
крылась не в недостатке вестей, а в другом — было невероятно сложно разобраться
в том, что действительно творилось во Франции: скачки революции с их явными и
скрытыми пружинами, социальными конфликтами и противоречиями, постоянно
меняющимися группами лидеров и подчас безжалостной борьбой тенденций — все это
наблюдателям из числа современников было столь же трудно охватить и оценить,
как и исследователям более поздних времен. И в Германии тоже
теоретические трактаты и боевые памфлеты, написанные как в защиту, так и против
революции, с первых дней сопровождали волнующие события 1789 года и последующих
лет.
Уже в 1790 году,
иными словами, в ту пору, когда еще невозможно было предвидеть дальнейший ход
развития событий, англичанин Эдмунд Бёрк издал свои "Размышления о
революции во Франции" — основополагающий трактат против изменения всего
сущего революционным путем, который Фридрих Генц сразу же перевел на немецкий
язык. Однако в том же году Иоахим Генрих Кампе в своих "Письмах из Парижа,
написанных во время революции" приветствовал наступление новой эры,
следующим образом выражая надежды ее восторженных сторонников: "Впервые
узрим мы великое государство, где имущество всякого и каждого — священно,
личность — неприкосновенна,
мысли не обложены таможенной пошлиной, вера не нуждается в официальной печати,
а исповедание ее на словах, в писаниях, как и в действиях, осуществляется совершенно свободно и отныне более не подчинено никакому
людскому приговору. В таком государстве нет привилегированных лиц, нет и по
врожденному праву притеснителей народа. Оно не знает никакой аристократии,
кроме аристократии таланта и добродетели, никакой иерархии и никакого
деспотизма. Напротив, в этом государстве все будут равны и смогут занимать
любые должности соответ-
9
ственно своим
заслугам. Повсюду преимущества будут иметь лишь знания, умения и достоинства. Право и справедливость в этом государстве будут осуществляться на
основе всеобщего равенства и невзирая на
лица и притом бесплатно, и
каждый, пусть самый бедный, земледелец не только для виду, как это делается в
других странах, но и на деле будет
представлен в законодательном собрании, и, стало быть, всякий и каждый, даже
самый бедный, земледелец станет соправителем и созаконодателем своего отечества".
В многочисленных
социально-критических публикациях тех лет, вроде вышеупомянутых, авторы
занимали прямо противоположные позиции или же пытались подвергнуть вдумчивому и
дифференцированному рассмотрению отдельные проблемы. В этих публикациях по
понятным причинам повторялись одни и те же главные вопросы: что следует
понимать под свободой и равенством? Каким образом можно неопровержимо
обосновать и конкретизировать по содержанию права человека, олицетворяющие
собой главное требование революции? Как далеко может и должен простираться
народный суверенитет? Следует ли в угоду ему полностью отменить все привилегии,
даруемые происхождением и традиционным правом? Как обстоит дело с законностью
применения насилия в ходе революции и как увязать допущение насилия с
провозглашением нового "государства, в котором право и справедливость
будут осуществляться на основе всеобщего равенства и невзирая на лица"
(Кампе)? Сентябрьские убийства 1792 года, казнь короля в 1793 году, гибель
тысяч и тысяч людей под ножом гильотины — все эти кровавые последствия
революции должны были смущать наблюдателей и вызывать споры. Как и всегда в разгаре
тех или иных исторических событий, когда им неизбежно сопутствуют убийства
людей, человеческие жертвы, споры вращались вокруг главного — вопроса об
исторической необходимости подобных действий, возможно способной оправдать весь
этот ужас и жестокость. Георг Форстер, под влиянием политических событий своего
времени из либерала превратившийся в активного якобинца, хоть и не свободного
от сомнений, утверждал, что ответственность за жестокие действия революционных
сил несет деспотический абсолютистский режим. В своих "Парижских
очерках" (1793) он писал: "Действия, совершаемые под игом деспотизма,
могут быть весьма схожи с теми, которые наблюдаются в ходе республиканской
революции,
10
причем в последнем случае
в них зачастую проявляются бесчувственность и жестокость, в деспотиях искусно
скрываемые под напускной мягкостью. Однако различие между этими действиями
огромно уже хотя бы потому, что во время революции их порождают совершенно иные
силы и общественное мнение накладывает на них совершенно иную печать.
Несправедливость перестает восприниматься как нечто возмутительное,
насильственное, как проявление произвола, когда общественное мнение народа — а
ведь всевластным судьей в последней инстанции является именно оно — следует
закону необходимости и любой поступок, или приказ, или важная мера обусловлены
этим законом" 1.
Сколь ни
проблематично сбрасывать со счета умерших и убитых со ссылкой на
"совершенно иные силы", все же честность требовала раньше и требует
теперь, чтобы, указывая на жертвы революции, мы в то же время не забывали о
жертвах феодализма. Готфрид Зёйме, неизменно настаивавший на критически
дифференцированном подходе ко всем явлениям, в своих "Апокрифах"
(1806—1807) лаконично заметил: "Сколько шумят о Французской революции и ее зверствах! Сулла, вступив в Рим, за один день
сотворил больше зла, чем было сотворено за время всей революции".
Совершенно очевидно, что, упоминая Суллу, он имел в виду не одну лишь
античность.
Примечательно, что
противники и защитники революции в своих государственно-теоретических и
общественно-политических трактатах уже тогда взаимно упрекали друг друга в
неправомерных ссылках на естественное право. Те, кто отстаивал сохранение
определенной устоявшейся системы строя с ее различными взаимосвязями и
вариантами, верили, что опираются на естественное право в той же мере, как и
сторонники новых принципов свободы и равенства и их последствий. Однако мы
знаем теперь, что ссылки на естественное право используются для обоснования самых
различных концепций и притязаний, и делались подобные ссылки неоднократно.
Вопрос о человеческой природе, с которой должно согласовываться устройство
общества и государства, остается предметом неослабных раздумий и принципиальных
1 Цит. по книге: Немецкие демократы XVIII века. Шубарт. Форстер. Зёйме. М., ГИХЛ, 1956, с. 359. — Здесь и далее примечания переводчиков.
11
споров. При этом
спорящие стороны сплошь и рядом попадают в порочный круг: желаемое выдается за
природу человека и всего мира, а уж затем из определенного таким образом
"естественного" миропорядка делаются те или иные выводы. Осознание
обрисованной выше проблемы аргументации, базирующейся на естественном праве, ни
в коей мере не умаляет ни престижа, ни неувядающего значения прав человека,
провозглашенных в Северной Америке в XVIII веке. Оно лишь предохраняет от заблуждения, когда идеи эти, которым
надлежит быть важными указателями на пути к прогрессу, пытаются
"подстраховать" аргументами, выводимыми из характера конечной цели.
Тайный советник — отнюдь не сторонник революции
Иной читатель
сочтет, что предшествующая глава — совершенно излишнее отклонение от темы,
имеющее весьма малое касательство к жизни и творчеству Гёте. Однако нужно
отчетливо представлять себе те давние беспокойные годы, если мы хотим дать
верную оценку высказываниям поэта о Французской революции и, как он сам
утверждал, "безграничным усилиям поэтически овладеть, в его причинах и
следствиях, этим ужаснейшим из всех событий" 1.
Разумеется, Гёте,
министр абсолютистского государства, внимательно следил за событиями во
Франции. Странным образом, однако, в его письмах того времени, по крайней мере
в тех из них, что сохранились до сей поры, он почти не распространялся на эту
тему. Можно сослаться лишь на одну-единственную фразу в письме от 3 марта 1790
года, адресованном Фрицу Якоби: "Что Французская революция была революцией
и для меня, ты можешь себе представить". Иными словами: зачеркнуты все
прежние выводы из собственных открытий и раздумий. Случившегося он предвидеть
не мог. Неслыханное событие понуждало его к новым раздумьям. В своих попытках
истолкования человека и природы он отныне не мог его не учитывать. Это был
длительный и сложный процесс.
1 Здесь и далее статья Гёте "Значительный стимул от одного-единственного меткого слова" (1823) цитируется по книге: Лихтенштадт В. О. Гёте. Борьба за реалистическое мировоззрение. Петербург, 1920, с. 492.
12
В письмах Гёте к
Карлу Августу периода 1789— 1790 гг. ничего не говорится о революции, хотя оба
— и поэт и герцог — постоянно касались в своей переписке также и политических
вопросов. О многом говорится в этих письмах — о фрагменте
"Фауста" и "Тассо", о строительстве дворца и веймарского
театра, о "горнорудных заботах" в Ильменау и прокладке водопровода в
Йене, о естественнонаучных исследованиях Гёте и об угрозе конфликта между
Пруссией и Австрией. В письме от 6 февраля 1790 года к Карлу Августу, который в
ту пору находился в Берлине, где вел переговоры в связи с надвигающейся угрозой
войны, Гёте высказывал следующее пожелание: "Желаю Вам благополучно
завершить Ваши дела и привезти нам подтверждение возлюбленного мира. Поскольку
целью войны может быть только мир, то воину весьма подобает заключить да и
сберечь мир даже без войны".
В письме из Венеции
к Шарлотте фон Кальб (от 30 апреля
Подавляющее
большинство писем, которые Гёте в период с весны 1792 по март 1797 года
адресовал своему герцогу, потеряно, за исключением немногих посланий чисто
служебного содержания. Впрочем, на протяжении многих недель 1792—1793 годов
переписка и в самом деле была излишней, поскольку Гёте сопровождал герцога в
походе союзнических войск против революционной Франции и участвовал в осаде
Майнца. Можно предположить, что в утраченных письмах поэт несколько подробнее
характеризовал текущие события, хоть порой и ленился писать, недаром Карл
Август иногда корил его за эту леность, да Гёте и сам — также и в письмах к
другим адресатам — признавал за собой такое свойство. В письме от 13 января
1791 года он называл себя "в высшей мере ленивым сочинителем писем",
а в письме от 17 октября 1791 года напоминал, что его "нелюбовь к писанию
писем" известна. (Мы же ныне, напротив, удивлены обилием его писем, ведь
одна лишь переписка занимает в "Веймарском издании" 50 томов.) Зато
герцог беспрестанно затрагивал в своих письмах
13
политические и
военные вопросы, и притом не стеснялся в выражениях, когда дело касалось
принципиальных проблем: как-никак, будучи абсолютным монархом, он не хотел
подрыва строя, на котором зиждилась его власть. Герцог не сомневался, что
адресат разделяет его взгляды. Он твердо рассчитывал, что Гёте окажет
необходимое сдерживающее влияние на веймарское общество, где в оценке революции
наблюдался "весьма большой разлад" (письмо от 27 декабря
Герцог обрушился на
Георга Форстера, который, как мы знаем, при неблагоприятном стечении
обстоятельств и без достаточной поддержки со стороны населения выступил в
оккупированном Майнце как один из учредителей самой первой и недолговечной
республики на немецкой земле. 17 марта 1793 года впервые собрались ее депутаты,
которые спустя четыре дня вынесли решение о присоединении к Французской
республике, что еще и сегодня побуждает кое-кого из историков приклеивать
майнцской республике уничижительный ярлык "сепаратистской". ''Форстер
14
и компания
в Майнце доказывают, — писал Карл Август, —
насколько сильно сочувствие революции действует на людей их толка, притягательная сила тех событий
толкает их на путь чернейшей неблагодарности и самых что ни на есть
бессмысленных предприятий". Подданным надлежит быть благодарными, а не
разоблачать произвол и гнет монархистской власти. (Издатель переписки Гёте с
Карлом Августом в 1915 году к тому же задним числом удостоил борца за
республиканскую свободу Форстера еще и такой уничижительной характеристики:
"Оказывал в Рейнской области сильное и зловредное влияние".)
Веймарский герцог, не сомневавшийся в экспансионистских устремлениях революционной
Франции, отныне почитал счастьем, что началась война, и готов был на любые
меры, чтобы предотвратить распространение революции. Из лагеря под Мариенборном
близ Майнца Карл Август благодарил Гердера за присылку второго тома "Писем
о поощрении гуманности". С полной убежденностью, что он воюет за правое
дело, герцог не преминул сопроводить благодарность язвительным замечанием:
письма, мол, застали его "отнюдь не за самым гуманным занятием",
однако же он стремится к тому, "чтобы смести с немецкой земли французские
зверства. А ведь это, должно быть, тоже вклад в Ваши гуманные устремления,
милый Гердер, не так ли?"
Словом, в дошедших
до нас письмах Гёте редко и скупо высказывается о Французской революции. Точно
так же и в заметках о походе 1792 года и об осаде Майнца, которые он посылал на
родину, почти нет упоминаний на этот счет. Поэту ничего не нужно было объяснять
своим адресатам: и без того они знали, что он не сторонник революции. Гёте тоже
считал, что необходимо укротить "взбесившихся франков" (письмо к
Якоби от 17 апреля
15
не миловать ни
одного француза" (23 марта
Уже десять лет
подряд занимая ответственный пост и ведая важными государственными делами, Гёте
не стал писать ни теоретического трактата, ни какого-либо политического эссе по
вопросу о революции, каких в ту пору появлялось великое множество. Хоть он впоследствии,
в 1823 году, и подчеркивал, как уже указывалось, свои "безграничные усилия
поэтически овладеть, в его причинах и следствиях, этим ужаснейшим из всех
событий", все же неизвестно, действительно ли поэт предпринял глубокий
анализ общественно-исторических условий. Гёте усвоил несколько основных фактов,
которыми объяснял случившееся и из которых сделал выводы в смысле желательного
устройства общества. Монархи и их подданные, аристократия и бюргеры должны
сплотиться воедино, всем вместе надлежит стремиться к добру и в процессе
неспешного, осмотрительного развития осуществлять эволюционным путем
своевременные реформы в рамках существующего строя.
Этой же концепции
Гёте придерживался и в сфере реальной политики. Но в сложной системе
собственного миросозерцания и толкования истории он должен был отвести и
революции подобающее ей место. В сущности, он поставил ее на один уровень со
стихийными природными бедствиями, хаосом, бунтом элементов — недаром
впоследствии в работе "Опыт учения об эрозии" (1825), в разделе
"Обуздание и развязывание элементов", он следующим образом
характеризовал ее: "Тому, что мы называем элементами, всегда присуще
стремление со всем свойственным ему буйством и дикостью вырваться из узды, это
очевидно. Но коль скоро человек вступил во владение землей и обязан владение
это сохранить, он должен приготовиться к сопротивлению и не терять
бдительности". Элементы, как и порождаемый ими хаос, равно присущи природе
— стоит только их развязать. Такое же место занимают в истории человечества войны
и революции. Однако подобную хаотическую фазу всегда можно перевести в новую —
созидательную,
16
которая впоследствии
даже может оказаться плодотворной. И соответствующие строфы в "Германе и
Доротее" могут быть также отнесены к Французской революции:
Рушатся наисильнейших держав вековые устои.
Древних владений лишен господин старинный, и с другом
Друг разлучен, так пускай и любовь расстается с любовью...
Золото и серебро меняют чекан стародавний,
Все в небывалом движенье, как будто и впрямь мирозданье
В хаос желает вернуться, чтоб в облике новом воспрянуть.
(Перевод Д. Бродского и В. Бугаевского — 1, 583) 1
После 1789 года Гёте
часто прибегал к словесным образам, в которых исторические конвульсии того
времени метафорически представлялись как стихийные природные бедствия.
Землетрясение, пожар, наводнение — вот такой видится поэту война в Италии (из
письма к Шиллеру от 14 октября
А во
"Внебрачной дочери" (1803), стремясь наглядно представить ужасы
революции, поэт также нагромождает метафоры из ряда явлений природы: и молния
тут, и огонь, и потоп, и буйство элементов. При всей выразительности подобной
метафорики, безусловно занимающей известное место в широком спектре способов
истолкования мира, она все же мало помогает постижению реальных политических
связей и событий на определенном отрезке истории.
Быть противником
революции — судьба отнюдь не предназначала Гёте такой роли, совсем напротив.
Как воспевал он свободное от всяких правил творчество; какой бунт духа явил во
"Франкфуртских ученых известиях"; как впечатляюще изобразил могучее,
пусть тщетное самоуправство Гёца; как гордо провозгласил: "Я создаю людей,
/ Леплю их / По своему подобью" (пер. В. Левика — 1, 90); какую острую критику дворянства дал в
"Вертере". Словом, никак нельзя было ожидать, что поэт окажется на
стороне защитников всего сущего, в лучшем случае готовых к осторожным реформам.
Но в 1789 году Гёте уже не был прежним молодым человеком, который вос-
1 Здесь и далее ссылки в круглых скобках арабскими цифрами даются на следующее издание: Гёте И. В. Собрание сочинений в десяти томах. М., Художественная литература, 1975 1980. Первая цифра означает том, вторая — страницу названного издания. — Прим. ред.
17
клицал: "Войти
в суть предмета, схватить ее — вот смысл всякого мастерства!" За плечами у
него была вереница кризисов, глубоко подорвавших его уверенность в себе. Внешне
все как будто шло наилучшим образом: поэт так и не изведал нужды, но в душе
успел изведать страдание. Не раз охватывало его отчаяние, много лет подряд
терзался он колебаниями, неуверенностью в себе, смятением чувств, не зная, что
же в конечном счете с ним будет. Средствами на жизнь он располагал, но вопрос
его жизненного самоосуществления оставался непроясненным. Сколько раз бежал он
от судьбы — в частности, из Франкфурта в Веймар, запутавшись в отношениях с
Лили Шёнеман! Потом было десятилетие, когда поэт пробовал свои силы на
политическом и административном поприще, были взлеты и падения, успехи и
разочарования, строгая самодисциплина и сомнения, веселое общение с людьми и
одиночество, долгие часы, отданные искусству, и странная любовь: любимая была
для него в этом союзе будто сестра, а чувственность — под запретом. И вдруг
после такого десятилетия бегство в Италию — попытка познать и обрести самого
себя, и снова — неутомимые поиски истинно прочного, нерушимого, каких-то
главных закономерностей, которые он надеялся выявить в двух областях: в природе
и в искусстве. На год он снова вернулся в Тюрингию, занялся естественнонаучными
исследованиями, работал над завершением издания своих сочинений, обрел наконец
прочное счастье в любви, на этот раз и чувственной тоже, — и тут грянул 1789
год с необыкновенными вестями из Парижа. Поэт окончательно обосновался в
Веймаре и отныне почитал этот край своим отечеством.
Теперь он не мог
отказаться от обретенного ценой стольких поисков, от работы, которую взял на
себя в первое веймарское десятилетие, став министром веймарского герцога, не
мог быть сторонником революции, способной выбить из-под его ног почву, на
которой он обосновался с таким трудом. Но в то же время не мог он и отречься от
надежд на реформы — надежд, которые сам поселял в умах; разумеется, речь шла о
реформах в строго установленных пределах. Гёте должен был выбирать между
революцией и реакцией, между тотальным переворотом и тупым цеплянием за старое.
Подобно многим другим, он хотел избрать некий "третий путь", точнее
было бы сказать (поскольку он не участвовал в текущих политических делах, а
лишь выступал в роли наблюдателя, на крайний случай — кон-
18
сультанта) — он стремился
к нему.
В конечном счете он
усвоил убеждения, которые заимствовал у Юстуса Мёзера. К теории и практике
революции также применимы были выводы Мёзера, какие тот противопоставлял
тенденциям просвещенного абсолютизма: централистский рационализм, стремящийся
подчинить все сущее определенному теоретическому принципу, нивелирует, мало
того — умерщвляет живое многообразие реальности, выкристаллизовавшееся за
долгий исторический срок. Еще в 1772 году в "Патриотических
фантазиях", в статье "Современное стремление к общим законам и
распоряжениям угрожает самой обыкновенной свободе", можно было прочитать,
что получить "всеобщие своды законов" не отвечает "истинному
духу природы, выказывающей свое богатство в многообразии", а расчищает
"путь для деспотизма, пытающегося уложить все сущее в русло немногих
правил и потому утрачивающее богатство разнообразия". "Философские
теории подрывают все первоначальные соглашения, все привилегии и свободы, все
условия и права давности тем, что обязанности правителей и подданных, как и
вообще любые общественные права, они выводят из одного-единственного ключевого
принципа. Стремясь главенствовать во что бы то ни стало, они рассматривают
любое традиционно согласованное и давнее ограничение исключительно как
препятствие, которое можно отбросить со своего пути с помощью пинка или
какого-либо принципиального вывода".
Соответственно
Мёзер, поддерживая позицию Бёрка, далее упрекал революционеров в том, что
замысел их слишком уж прост: нельзя выравнивать все сущее в согласии с
одной-единственной идеей, пусть даже идеей прав человека. Монтескьё, мол,
утверждал, "с полным на то основанием, что эти простые и уникальные идеи
составляют прямой путь к монархистскому (а стало быть, и к демократическому)
деспотизму" ("Когда и каким образом может нация изменить свою
конституцию?").
Поэтические ответы
Эпиграммы и революционные драмы
Гёте не раз
случалось высказывать односторонние суждения о Французской революции. И
подчеркнутое почтение, какое он невозмутимо выказывал феода-
19
лам и вообще людям
высокого звания на словах и всем своим поведением, также должно было раздражать
критически настроенных современников и вызывать возмущение последующих
поколений. Между тем злой ярлык "княжеский прислужник" очень скоро
пришлось признать всего-навсего легковесным оскорблением, и у старого Гёте были
все основания негодовать.
Оглядываясь на
прошлое, поэт в 1823 году писал, что пытался "поэтически овладеть"
Французской революцией. "Поэтически овладеть" — стало быть, овладеть
не в теоретическом трактате, а таким способом, который творчески охватывает
все, что составляет "причины и следствия" Французской революции,
чтобы наглядно воплотить их в чувственных образах, персонажах, драматическом
действии. Однако сама по себе попытка высветить в революционном действе некую
модель движения истории и поведения человека в нем и поэтически, образно
воплотить то и другое, — сама по себе эта попытка не могла быть удачной,
учитывая многослойность исторической ситуации, многоликой и противоречивой.
Художественно отобразить эту ситуацию, как и сложный путь ее развития, было
предельно трудно, по крайней мере со столь близкой дистанции, как в смысле
наблюдения, так и оценки. Говоря о своем старании "поэтически
овладеть" революцией, Гёте исходил из той начальной предпосылки, что само
его созерцание уже есть мышление, а мышление — созерцание. Применительно к
Французской революции, однако, этот принцип не дал благоприятных плодов. Все
замеченное и обобщенное им не было увидено достаточно проницательным глазом.
Правда, прежде небывалая тотальная политизация французского общества — стало
быть, вовлечение в политический процесс почти всех областей жизни, как и слоев
населения, с их подчас взаимоисключающими интересами и неприятиями того или
иного, — политизация эта невероятно затрудняла саму возможность увидеть, что же
в действительности происходило в стране.
Принципиальное
отношение Гёте к Французской революции не менялось — он никогда не был ее
сторонником. Однако его высказывания о ней относятся к разным периодам его
жизни, сплошь и рядом далеко отстоящим друг от друга во времени. Когда спустя
много десятилетий он письменно или устно высказывался о том, что переживал,
думал, понимал в 1789
20
году, во время
похода 1792 года или же при осаде Майнца в 1793 году, тут почти невозможно
проверить, верны ли его утверждения, или же в суждения его привнесены отзвуки
раздумий последующих лет. "Кампания во Франции" была написана уже в
начале 20-х годов XIX
века, точно так же, как и "Осада Майнца". И автобиографическая книга
"Анналы", увидевшая свет лишь в 1830 году, с подзаголовком:
"Тетради дней и лет как дополнение к моим прочим автобиографическим
признаниям", в последнем прижизненном издании сочинений Гёте, предлагала
читателю обзор его жизненного пути и дум, написанный рукой престарелого автора.
Выше уже приводилось
— из письма от 3 марта 1790 года — скупое замечание Гёте о том, что
революция-де революция и для него тоже; спустя неделю поэт снова отправился на
юг. Он сам предложил поехать в Италию, чтобы там встретиться с матерью герцога
Анной Амалией и затем сопровождать ее в обратном путешествии на родину. Почти
два месяца — с 31 марта по 22 мая — пришлось ему дожидаться герцогини в
Венеции, и душевное состояние его все это время было крайне неустойчивым —
совсем не таким, как в дни первой поездки в Италию. Здесь были созданы
"Венецианские эпиграммы", содержавшие наблюдения, раздумья, но также
и острую критику многих явлений, частично в двустишиях, как, впрочем, и в
"Римских элегиях". Отдельные стихотворения, впечатляющие своей
афористичностью, были посвящены событиям во Франции. Автор эпиграмм всячески
подчеркивал свое неприятие революции и свою антипатию к ее сторонникам.
"Поборникам ярым свободы", утверждал он, нельзя доверять: ими движет
одна лишь корысть. "Глупость и ложь пустодум печатью духа отметит. / Можно
без пробного их камня и золотом счесть" 1
(1, 207).
Примерно так же
иронизировали и в стане безоговорочных контрреволюционеров над тем, кто объявил
войну старым порядкам и отрицал их законность. Примечательно, как Гёте расширил
одну из своих эпиграмм после того, как во Франции "толпа" показала
себя действующим субъектом. В варианте 1790 года, в шиллеровском
"Альманахе муз" 1796 года, эпиграмма звучала так:
1 Здесь и далее "Венецианские эпиграммы" цитируются в переводе С. Ошерова.
21
Франция нам показала пример, подражанья не ждущий,
А все же о нем не забудьте, запомните этот пример!
Однако в варианте
1800 года, в новом собрании сочинений Гёте, та же эпиграмма приняла следующий
вид:
Франции горький удел пусть обдумают сильные мира;
Впрочем, обдумать его маленьким людям нужней.
Сильных убили — но кто для толпы остался защитой?
Против толпы? И толпа стала тираном толпы.
(1,207)
Подобная критика
толпы была не только реакцией на текущие события. Гёте в принципе отказывал
"толпе" в праве принимать решения, от которых может зависеть благо
или, напротив, беда какого-либо сообщества, — по крайней мере исходя из
тогдашнего уровня знаний, образования и опыта масс. "Наука
властвования", осуществление правления, на взгляд поэта — удел немногих.
Отсюда понятно, что выдвинутое демократами требование народовластия не вызывало
у него сочувствия, при том, что и у герцога, как и вообще у господствующего
слоя, он тоже не видел ни должного стремления, ни способности руководить
государством мудро, со знанием дела. Поэтому в своих эпиграммах Гёте обращался
с критикой и предостережениями как к той, так и к другой стороне. Строкам
насчет "пустодумов" и их "лжи" он предпослал две другие:
"Часто чеканят князья / Свой сиятельный профиль на меди, / Чуть лишь ее
посребрив. / Верит обманутый люд!" (1, 207).
Отнюдь не только на
одних революционеров, не говоря уже о "толпе", возлагал Гёте вину за
"злосчастнейшее из событий". Пусть "сильные мира сего"
задумаются над "Франции горьким уделом", потому что их собственное
пагубное правление способно спровоцировать переворот. А всякому, кто презирает
"сброд" потому только, что своим поведением чернь доказывает,
насколько легко манипулировать ею, веймарский министр делает вот какое
внушение:
"Мы ли не правы, скажи? Без обмана возможно ли с чернью?
Сам погляди, до чего дик и разнуздан народ!"
Те, что обмануты грубо, всегда неуклюжи и дики;
Честными будьте и так сделайте диких — людьми!
(1, 207)
22
Конечно,
"Венецианские эпиграммы" Гёте — это всего-навсего изящные остроты. В
последующие годы Гёте вновь поднимает тему революции в ряде пьес и решает ее в
соответствии со своим взглядом на этот предмет, стало быть, снова перед нами
критика так называемых поборников ярых свободы и мечтателей, но и призыв к
власть имущим неустанно заботиться о своих подданных. Если будет такая забота,
полагал Гёте, даже в условиях иерархического сословного строя возможно избежать
революций. Потому что он не сомневался: именно разложение прежнего режима
Франции предопределило его гибель. Во всяком случае, впоследствии он
неоднократно подчеркивал, что еще в 1785 году был глубоко потрясен
небезызвестной историей с ожерельем и рассматривал ее как дурное
предзнаменование. В своих "Анналах" Гёте записал о 1789 годе
следующее: "Стоило мне только снова обосноваться в веймарской жизни,
привыкнуть к тамошним условиям и втянуться в мои дела, исследования и
литературные занятия, как разразилась французская революция, приковавшая к себе
внимание всего мира. Еще в 1785 году история с ожерельем произвела на меня
неизгладимое впечатление. В разверзшейся бездне безнравственности этого города,
двора и государства мне виделись призраки самых чудовищных последствий, от коих
видений я долгое время не мог избавиться, причем я вел себя так странно, что
друзья, в кругу которых я пребывал на лоне природы, когда до нас дошла первая
весть о случившемся, только много позже, после того как революция уже
разразилась, признались мне, что в ту пору я казался им просто безумным".
Несомненно, в
подобное толкование событий привнесена оценка из более поздних времен. Среди
документов 1785 года нет ничего, подтверждающего эту версию. Лишь после того,
как разразилась революция, стало возможно рассматривать историю с ожерельем в
столь широком ракурсе. Правда, скандал этот в свое время произвел большое
впечатление на общественность, бесчисленными сообщениями о нем пестрели
страницы газет. История эта такова: парижские ювелиры изготовили украшение
неслыханной дороговизны — оно стоило один миллион шестьсот тысяч ливров. Кто
мог заинтересоваться подобным украшением? Кто мог позволить себе его купить?
Королева не выразила такого желания, и никакого другого покупателя тоже не
предвиделось. В дело это, одна-
23
ко, вмешалась
обманщица, называвшаяся маркизой де ля Мотт: она внушила кардиналу Рогану, что
он сможет вновь обрести утраченное благоволение королевы Марии Антуанетты,
если, взяв на себя роль посредника, приобретет для нее ожерелье. В одну из
ночей "королева" приняла кардинала на предмет обсуждения вопроса, и
эта встреча рассеяла последние его сомнения. Свидание, однако, инсценировала
маркиза, кардинала обманули: роль королевы сыграла другая молодая женщина,
письмо Марии Антуанетты также было подделано. Обманутый кардинал, стремясь
поднять свои акции при дворе, купил ожерелье и отдал его обманщице,
рассчитывая, что королева, согласно обещанию, выплатит ему в рассрочку
затраченную сумму. Но тщетно дожидался он второго взноса; когда же части
разодранного на куски ожерелья обнаружили в Англии, все тут и открылось.
На судебном
процессе, состоявшемся в 1786 году, выявилось, насколько хитроумно была
задумана афера. Разумеется, критически мыслящие наблюдатели поняли, что весь
этот инцидент симптоматичен для "ancien regime" 1. В сущности, ничего из ряда вон выходящего в
этом инциденте не было: аналогичные случаи мошенничества в разное время имели
место и при других дворах. Словом, все эти хитросплетения и махинации никак не
могли служить основанием для пророческих предсказаний революционного
переворота.
Возможно, одновременно
с вестью об истории с ожерельем Гёте получил и новые сообщения о происках
Калиостро 2 — этого, без
сомнения, известнейшего и у многих вызывавшего восхищение продувного
авантюриста, мошенника и колдовских дел мастера XVIII века (ему, кстати, посвящен фрагмент романа
Шиллера "Духовидец", относящийся к 1787 году). Письменные и устные
рассказы о нем еще при жизни превратили Калиостро в своего рода легендарную
фигуру европейского масштаба, и если один из рассказывавших о нем допускал
всего лишь намеки на необыкновенные обстоятельства, то другой
1 Старый строй (франц.).
2 Алессандро Калиостро (наст. имя Джузеппе Бальзамо, 1743—1795) — итальянский авантюрист, выдававший себя за алхимика и заклинателя духов; пользовался поддержкой масонов.
24
непременно приукрашивал
рассказанное на свой лад да еще придумывал кое-что от себя.
Правда, навряд ли
Калиостро был как-то замешан в истории с ожерельем. Возможно, в 1785 году Гёте
случилось узнать что-то новое об этом чудодее из сообщений из Парижа — в ту
пору обстоятельные письменные рассказы имели хождение при княжеских дворах в
Веймаре и в Готе: в частности, Мельхиор Гримм пустил в оборот свою "Correspondance
litteraire" 1. Однако
все эти новости могли быть для поэта лишь вариациями на заведомо известную
тему. Еще в 1781 году в переписке с Лафатером он обменивался мыслями насчет
этого субъекта, вызывавшего у одних восторг, у других — подозрения. Цюрихский
богослов странным образом был необыкновенно высокого мнения о Калиостро, даже
восхвалял его как некоего "парацельского обожателя звезд", как
"персонифицированную силу". Гёте, напротив, относился к чудодею
скептически. Уже в письме от 22 июня 1781 года поэт указывал на
непосредственную связь "фокусов Калиостро" с очевидным для Гёте
разложением моральной и политической атмосферы в окружающем его мире. (Это
письмо написано за год до того, как герцогский казначей фон Кальб из-за
сомнительного непорядка в делах, находившихся в его ведении, был вынужден уйти
с должности главного советника герцога по финансовым вопросам.) "Что касается
тайного искусства Калиостро, то я весьма недоверчиво отношусь ко всем этим
россказням... Многочисленные следы, точнее, сведения указывают на существование
широко разветвленной лжи, скрывающейся во мраке, о коей ты, видимо, даже не
подозреваешь.
Поверь мне, наш
нравственный и политический мир заминирован подземными ходами, подвалами,
клоаками, как любой большой город, об общем благе коего никто не печется, как и
об условиях жизни его обитателей. Зато тот, кто уже кое-что прослышал об этом,
почти не удивится, узнав, что тут проваливалась почва, там из оврага вдруг
повалил дым, а еще откуда-то вдруг послышались таинственные голоса. Поверь мне,
под землей творится в точности то же, что и на поверхности, и если кто днем,
под открытым небом, не способен совладать с духами, тот и в полночь не вызовет
их ни в какой склеп..." (из письма Лафатеру от 22 июня
1 Литературная переписка (франц.).
25
Когда Гёте посетил
Палермо, до него дошел слух, будто Калиостро — уроженец этого города и настоящее
его имя — Джузеппе Бальзамо. Поэт пошел по его следам, пытаясь выявить семейные
обстоятельства авантюриста, которые сам Калиостро сознательно маскировал.
Подробный отчет об этом расследовании Гёте поместил не только в более поздней
публикации, а именно в "Итальянском путешествии", но и поспешил
опубликовать его еще в 1792 году в первом томе своего нового собрания сочинений
в издании Унгера. Он озаглавил этот отчет "Родословная Жозефа Бальзамо по
прозванию Калиостро". Этого "мага" поэт считал носителем
порочного мистицизма и бессовестного оглупления, способного лишь побуждать
своих поклонников к суевериям и сеять пагубные заблуждения в умах завороженных
людей. К тому же человек, якобы владеющий искусством колдовства, по суждению
Гёте, должен был поддерживать связь с тайными орденами, которые исподволь
повсюду осуществляли свои происки и провоцировали волнения. "Век
Просвещения" отнюдь не был столь просвещенным, как бы того многим
хотелось, и в нем тоже имелись свои закоулки, в которых культивировались
странные и загадочные идеи, имелись и потаенные ходы, откуда выползали тайны,
овеянные ароматом приключений и опьяняющие разум доверчивой публики.
Во время своего
итальянского путешествия Гёте начал писать оперу-буфф об обманщике и обманутых,
о его пособниках и о тех, кого он ловко водил за нос. Поэт хотел дать ей
название "Мистифицированные", опера должна была стать плодом его
сотрудничества с композитором Кристофом Кайзером, но работу эту он не завершил.
Впоследствии, уже в Веймаре, он переделал ее в комедию "Великий
Кофта", которую закончил в сентябре 1791 года. В письме к Фрицу Якоби от 1
июня 1781 года Гёте, сообщив другу о публикации "Родословной
Калиостро", заметил: "Больно смотреть, как люди алчут чудес ради того
только, чтобы упорствовать в своей глупости и пошлости и тем защититься от
власти человеческого разума и рассудка".
В комедии
"Великий Кофта" обрели сценическое воплощение и история с ожерельем,
и махинации некоего "графа" (Калиостро), который стремился побудить
светских дам и господ к вступлению в ложу Великого Кофты и обставить это
вступлением фантастическим церемониалом. Как провели каноника,
26
ищущего благоволения
двора, как обставили мошенничества в истории с ожерельем — все это показано в
пьесе и в значительной мере отражает истинные происшествия в афере с
бриллиантовым ожерельем. Однако в отличие от той реальной истории в гётевской
пьесе замыслы мошенников своевременно разоблачаются. И швейцарским гвардейцам
нужно лишь немного терпения, чтобы задержать всю компанию, включая самого графа
(перед этим как раз объявившего всем, что он и есть Великий Кофта).
Линия
Кофты-Калиостро хоть и переплетена здесь с историей ожерелья, однако одно
недостаточно тесно увязано с другим и связь эта лишена непререкаемой логики.
Точно так же и обрисовка персонажей не может по-настоящему увлечь ни зрителя,
ни читателя, да и вообще все, что тут выведено на сцену и кое-как приведено к
счастливому концу, в сущности, трудно назвать "комедией". Самое
легкое, конечно, попросту приклеить этой пьесе ярлык "неудачной". И
все же нельзя пройти мимо кое-каких примечательных обстоятельств, которые
позволят по достоинству оценить это странное произведение. Как-никак Гёте в
1792 году открывает этой пьесой первый том своего собрания "новых
сочинений". Стало быть, спустя три года после начала революции он счел
необходимым напечатать на самом видном месте пьесу почти документального
свойства — ведь прототипы ее персонажей могли быть легко опознаны каждым.
Публике тех областей, где (еще) не было революции, Гёте таким образом показал в
сценическом действе, какие дела могут твориться в обществе, к которому
применимы слова маркизы из этой пьесы: "Люди во все времена предпочитали
сумерки ясному дню, а ведь именно в сумерках являются призраки" (4, 362).
Желая убедительно доказать верность этих слов, Гёте ввел в свою пьесу графа
(Калиостро) и придумал для него титул: "Великий Кофта". Этот персонаж
как раз и есть тот самый призрак, который порожден сумерками и обретает
возможность бесчинствовать во времена, когда люди стремятся бежать "от
диктата человеческого разума и рассудка" (из письма к Якоби от 1 июня
Обозначение
"комедия", впрочем, не столь удивительно, как это может показаться на
первый взгляд.
27
Разумеется, аферы и
мошенничества могут заслужить название комедийных элементов; так же и персонажи
отдельными своими чертами восходят к арсеналу комедии характеров; правда,
согласно более позднему авторскому комментарию, Гёте, проклиная обманщиков,
"старался усмотреть забавную сторону в поведении этих чудовищ" (9,
397), однако сюжет "Великого Кофты" веселым никак не назовешь. Нет
даже нужды обращаться к более поздним теориям Шиллера и Гёте насчет комедии,
чтобы осознать специфический характер "комедийности" в этой пьесе,
написанной в 1791 году. Уже сам по себе тот факт, что на протяжении всей пьесы
лица высокого звания выставляются напоказ в весьма сомнительных обстоятельствах,
— уже одно это причисляет "Великого Кофту" к жанру комедии. Еще
сравнительно недавно считалось, что лиц высокого звания надлежит выводить лишь
в серьезной драме, трагедии, каковая одна им приличествует, а разного рода
мошеннические проделки, затеваемые только ради денег, могут быть изображены
исключительно в комедии, где виновные — люди низкого звания. Нарушение этой
традиции, как и разоблачение представителей аристократии, было актом большой
критической смелости со стороны Гёте. В очерке "Кампания во Франции"
он также рассказал, как в Веймаре играли эту пьесу и как всех напугал ее
"страшный и вместе с тем пошлый сюжет", так как тайные союзы сочли
себя неуважительно затронутыми, наиболее представительная часть публики
осталась недовольна спектаклем. И здесь снова, как и в "Анналах",
автор очерка протягивает логическую нить от истории с ожерельем к Французской
революции. Стало быть, он оценивал свою пьесу как своего рода диагноз недуга,
могущего иметь роковые исторические последствия. На протяжении многих лет,
вспоминал Гёте в "Кампании", он "проклинал дерзких обманщиков и
мнимых энтузиастов, с омерзением удивляясь ослеплению достойных людей,
поддавшихся явному шарлатанству". А после того, как свершилась революция
1789 года, "прямые и косвенные последствия этой дури, — писал он, —
предстали передо мной в качестве преступлений и полупреступлений, в их
совокупности вполне способных сокрушить самый прекрасный в мире трон".
Пьеса "Великий Кофта" сценически воплощает и выставляет на осмеяние
эти махинации, с тем чтобы общество наконец бросило на себя (критический)
взгляд. Короче, эта пьеса — предостережение, смысл которого — убе-
28
речь от краха старый
порядок, поставленный под угрозу.
Правда, Гёте
действовал осмотрительно. Разоблачив коррупцию, он все же вывел ее за пределы
самого двора. Точно так же он оградил от возможной критики ближайшее окружение
властителя. В таком контексте, казалось, радикальный переворот легко можно
предотвратить. Опознать истинные движущие силы революции в подобном
изображении, однако, невозможно. Справедливости ради следует все же напомнить —
возражая критике, оперирующей вышеприведенными или сходными аргументами: от
пьесы, завершенной осенью 1791 года, то есть спустя два года после лета 1789
года, не приходится ожидать полного охвата исторического значения французских
событий.
Если происшествия,
легшие в основу сюжета "Великого Кофты", предшествовали Французской
революции, то другие драматические опыты Гёте имеют к ней уже самое прямое
отношение. Речь идет о тех пьесах и фрагментах, которые с известным на то
основанием именуют "революционными драмами". Это "Гражданин
генерал", "Мятежные", "Девушка из Оберкирха". Все они
свидетельствуют о тщетном стремлении Гёте дать адекватное сценическое
воплощение революционных событий. Может, ему не давалось литературное решение
темы? Вряд ли, хотя и в чисто художественном отношении пьесы ныне
представляются нам "слабыми". Тщетность гётевских усилий была
предопределена уже тем, что поэт — со всей очевидностью — не охватывал в полной
мере многослойность исторического процесса. Гёте стремился лишь сберечь, на
крайний случай реформировать все старое, достойное сохранения и предотвратить
любой насильственный переворот, а значит, мог лишь частично осознать то, что
творилось во Франции. Истинное значение таких лозунгов, как Свобода, Равенство,
Братство, степень нищеты и угнетения, их породивших, — все это оставалось для
поэта непостижимым, он мыслил иными категориями и сам никогда не знал
притеснений, если не считать кое-каких обид по части придворного церемониала.
Нелепо было бы предполагать, будто Гёте в принципе отвергал Свободу, Равенство,
Братство и желал для народа прямо противоположного. Однако претворение принципа
свободы в жизнь — что бы ни понимали под этим разные ее адепты — он не связывал
с существованием тех или иных государственных и общественных форм, способ-
29
ных эту свободу
гарантировать. Главное, полагал поэт, — чтобы исключалась деспотическая
тирания. Первоисточником непорядка ему виделись не какие-то
общественно-политические структуры, а люди. Именно в силу ненадежности,
неразумия, непоследовательности "толпы" он считал необходимым
укреплять традиционные, развитые и привычные структуры. Этим структурам
соответственно присущи разные уровни индивидуальной свободы, и отдельно взятому
человеку остается лишь принять отведенную ему дозу свободы (с сопутствующими ей
ограничениями). Такая структура ясна и наглядна, полагал Гёте, тогда как распад
этой системы, согласно его опасениям, должен привести к безудержному
столкновению и борьбе всех частных интересов. Лишь немногим людям, на его
взгляд, дано понять, что есть человеческое благо и каким путем надо его
умножать. Разумеется, и то и другое составляет прямой долг государя (и волей
неведомых сил таково, должно быть, и есть его предназначение), но тот же долг вменен
в обязанность всякому, кто по рождению или силой обстоятельств оказался в
привилегированном положении.
В этих условиях
правительствам не следовало бы тупо цепляться за уже существующее, а при
необходимости улучшений самим принимать напрашивающиеся меры. Равенство же
наличествует в подобной многоступенчатой структуре лишь постольку, поскольку
каждый на своем месте должен выполнять "необходимое" или такового
добиваться, в первую очередь сам государь и привилегированная знать. Только
потому, что правление самого Карла Августа было "непрестанным
служением" долгу, поэта не оскорбляла служба у герцога, подчеркивал Гёте в
1825 году в беседе с Эккерманом (27 апреля
1 Гёте И. В. Собрание сочинений в тринадцати томах. Юбилейное издание. М.—Л., ГИХЛ, 1932—1949. Т. XII, с. 141. — Здесь и далее ссылки на данное издание даются в тексте, римская цифра означает том. Ссылки на первый том даются в квадратных скобках. — Прим. ред.
30
В
"революционных драмах" Гёте брал под прицел такие явления, которые
уже имели или могли иметь место также и по эту сторону Рейна — под влиянием
революции во Франции. И поэт выставлял их на посмешище как некие уродливые
отклонения от желанной нормы. В конце апреля 1793 года он за несколько дней
написал одноактную пьесу "Гражданин генерал". Это была всего-навсего
обработка — на предмет актуализации сюжета — французской комедии "Два
билета", с успехом шедшей на веймарской сцене. Комический герой этой
комедии — Шнапс, — казалось, просто был создан для того, чтобы Гёте
"перекроил" его в смехотворного псевдореволюционера. Этот гётевский
Шнапс пытается внушить Мэртену, добропорядочному крестьянину, взволнованному
событиями тех лет, будто французские якобинцы назначили его — Шнапса — "революционным
генералом". Попытки "генерала" привлечь Мэртена на сторону
революции изобличают мнимого героя освободительной борьбы как темную личность,
одного из тех, кто всегда помышляет лишь о собственной выгоде. Разыгрывая
"революционное действо", он походя запускает руку в кухонные шкафы
Мэртена: главное — отменно закусить. Но к счастью, в дело своевременно
вмешивается Йорге, зять Мэртена. Привлеченный шумом, в дом заходит судья,
который — да и могло ли быть иначе? — подозревает всех присутствующих в происках
и готов их сурово за это покарать. Но вот в доме появляется помещик: он ведет
себя достойно и мудро, как надлежало бы вести себя всем правителям, учит автор
этого фарса. Прежде всего необходимо примирять противоречия (при сохранении
существующего соотношения власти) ; отвращать народ от политических идей (в
конце концов, Германия — не Франция), не налагать на подданных чрезмерно
строгой кары, способной спровоцировать волнения. Эпилог пьесы изобилует
изречениями — из уст помещика, при чтении которых мы, дети сегодняшнего дня,
лишь изумляемся, что автор не вкладывал в них иронии, а в том самом 1793 году
всерьез рассматривал их как исчерпывающий ответ на поставленные временем
вопросы:
Помещик. Нам ведь нечего опасаться. Дети, любите друг друга, возделывайте вашу
землю и будьте хорошими хозяевами. [...]
А вы, старина,
поступите весьма похвально, если употребите ваше искусство предсказывать погоду
и знание здешней почвы на то, чтобы вовремя сеять и
31
вовремя убирать урожай.
Предоставьте чужим странам самим о себе заботиться, а политический небосклон
разглядывайте в крайнем случае по воскресеньям и праздникам.
Мэртен. Пожалуй, так оно будет лучше.
Помещик. Пусть каждый начнет с самого себя — тут ему найдется немало дел. И да
будет он благодарен за каждый ниспосланный ему мирный день: заботясь о
благоденствии своем и своих близких, он тем самым послужит и благу общему.
[...] Поспешные приказы, чрезмерные кары лишь сеют зло. В стране, где монарх ни
от кого не таится, где все сословия с уважением относятся друг к другу, где
никому не мешают развивать полезные склонности, где торжествуют разумные
суждения и знания, — там не может возникнуть никаких партий. Мы вольны
интересоваться всем, что происходит на белом свете, но на нас не должны влиять
чужие смуты, даже если они охватили целые страны. Будем жить в спокойствии и
будем радоваться тому, что над нами ясное небо, а не зловещие грозовые тучи,
которые ничего не принесут, кроме безмерного урона" (пер.
Н. Бунина — 4, 449).
В эпилоге Шнапс
разоблачается как субъект, на смех курам вмешавшийся в государственные дела,
никоим образом его не касающиеся. К тому же единственное, что движет им,
видимо, всего лишь примитивная алчность, желание захватить чужую собственность.
Правда, эгоизм, нежелание думать о всеобщем благе Гёте осуждал и у
представителей привилегированного слоя. В одном из своих дневников периода
середины 90-х годов Гёте кратко записал следующие мысли: "Главная ошибка —
когда привилегированный представитель государства делает или, напротив, не
делает ради собственной выгоды или выгоды другого привилегированного или
непривилегированного лица что-либо такое, что не направлено в то же время на
благо всего государства.
Эта ошибка может
быть совершена повсюду.
Где совершается она
реже всего?
Последовательность —
высший закон государства.
Государство станет
не намного лучше, если все получат доступ к государственным должностям, потому
что все, и особенно лица низкого звания, готовы совершить главную
государственную ошибку".
Если Гёте в пьесе
"Гражданин генерал" вложил в уста Помещику филиппику против
"партий", то это
32
лишь его вклад в
дискуссию, которая в ту пору велась чрезвычайно резко.
Знатоки
государственного права, философы, экономисты, правители, но также и бунтари —
словом, все, кто задумывался над вопросом, каким образом, с помощью каких
государственных форм и учреждений можно выявить и претворить в жизнь
всенародную волю, — участвовали в споре о целесообразности существования
партий. Коротко напомним здесь о следующем. В 1789 году, когда во Франции
третье сословие учредило Национальное собрание, оно смотрело на него как на
единое представительство общенародных интересов и аксиоматических идей.
Революционеры, как и все им сочувствующие, сами сожалели о том, что вскоре в нем
образовались группировки, выдвигавшие разные программы и требования. Термин
"фракция", появившийся позднее, поначалу употреблялся исключительно в
негативном смысле. Журнал "Дер гениус дер цайт" ("Дух
времени") прямо заявлял: "Все клубы и братства, преследующие
политические цели, приносят вред" (февраль
Зерном спора о
целесообразности образования партий являлся вопрос о том, каким образом
определить, в чем состоит всеобщий интерес государства и его граждан, и
учитывать его в политике. Конечно, можно было, да и сейчас нетрудно, сослаться
на "всеобщую волю" народа ("volonte generale" Руссо), утверждая, будто воля эта известна и
остается лишь способствовать ее претворению в жизнь. Но как узнать, в чем эта
воля состоит? И можно ли вообще это узнать? Суммирование индивидуальных
устремлений всех людей (этой "volonte de tous") со всей очевидностью к цели не приведет:
обнаружится лишь многообразие противоречивых, взаимоисключающих мнений и
интересов. А способ подтверждения верности того или иного решения, якобы
направленного на всеобщее благо, простым арифметическим большинством голосов в
ту пору не принимался в расчет большинством людей. Настолько серьезную
озабоченность вызывала партийная раздробленность и связанная с ней борьба
интересов, что многие готовы были признать монарха гарантом общегосударственного
интереса, который следовало безоговорочно блюсти и охранять.
33
В веймарском
"Журнале роскоши и мод" ("Журнал дес луксус унд дер моден")
в феврале 1792 года появилась статья под ироническим заголовком: "Новый
словарь революционной моды". В разделе "Государство" там
говорится: "Под "государством" я понимаю общественное благо с
тех пор, как слово "республика" стали употреблять в ином смысле.
Государство — предмет заботы всего народа. Государственный интерес — интерес
всего общества. [...] Такая форма правления, при которой верховный орган
состоит из отдельных частей — из лиц, стремящихся использовать свой временный
престиж в собственных частных интересах, — ошибочна, ведь ясно, что в целом
люди не слишком-то склонны выполнять то, что могут выполнить, а значит, будут злоупотреблять своим
положением. При монархической форме правления народу угрожает такая опасность
со стороны министров правителя, а в республиках та же опасность угрожает нации
со стороны членов самого верховного органа. Но все же в монархии легче
предотвратить и умерить эту опасность, чем в республике. [...] Ведь в монархии
верховная власть неделима, поскольку она осуществляется монархом, в республике
же, напротив, верховный орган расчленен на части. Поэтому в последнем случае
высший интерес государства постоянно ослабляется столкновением частных
интересов членов верховного органа, к тому же индивидуальные интересы этих
людей сплошь и рядом прямо противоречат интересам государства, чего никак не
может быть в монархии".
По всей вероятности,
Гёте разделял изложенную выше точку зрения. Филиппика Помещика против
"партий", как и запись в дневнике поэта, полностью совпадают с
позицией автора статьи.
В 1793 году Гёте
начал писать еще и другую "революционную драму", которая так и
осталась фрагментом: поэт завершил лишь несколько сцен. Впоследствии Гёте
включил эту незаконченную пьесу — "Мятежные" — в собрание своих
сочинений, дополнив комедию перечнем недостающих сцен и снабдив ее уникальным —
для него — подзаголовком: "Политическая драма". Здесь снова на сцену
выводится "поборник ярый свободы", кичливый, болтливый, верный
преемник бахвалов из комедии барокко, а именно хирург Бреме фон Бременфельд
("Не зовись я Бреме,
34
не заслужи я
прозвища Бременфельд, если через недолгое время все не переменится" 1. — III,
528). Драматург снова показывает, как из Франции в Германию заносятся опасные
идеи. Снова авторская ирония обрушивается на людей, воображающих, что у себя на
родине должны непременно копировать все, что произошло по ту сторону Рейна
("... когда надо пустить кровь, очистить желудок, поставить банки — это
стоит в календаре, и тут я знаю, чем руководствоваться, но о том, когда пришла
пора взбунтоваться, — это, полагаю, гораздо труднее решить". — III, 535). Снова со сцены звучит утверждение, будто
все, кто кокетничает с идеей бунта, всего лишь следуют собственным
эгоистическим устремлениям ("Так много их борется за дело свободы,
всеобщего равенства только ради того, чтобы выдвинуться, только чтобы добиться
влияния каким бы то ни было способом". — III, 545—546). Однако в "Мятежных"
противная сторона показана уже не только в карикатурном виде. В этой пьесе Гёте
дозволяет магистру сказать графине, возвратившейся из Парижа, такие слова:
"Как часто я завидовал вам: счастью присутствовать там, где совершались
величайшие события, какие только видел мир, быть очевидцем радостного
возбуждения, которое охватило великую нацию, когда она впервые почувствовала
себя свободною, избавленною от оков, которые она долго носила, так долго, что
это тяжелое, чуждое бремя стало как бы членом ее несчастного, больного
тела" (III,
543).
Скудное действие
вращается вокруг вопроса о приятии или отказе от барщины и других тягот, каких
требуют от крестьян господа феодалы, а крестьяне отказываются их выполнять.
Из-за этого идет долгая, безнадежная тяжба: есть ведь на этот счет давнее
соглашение, на которое теперь ссылаются подданные. Но вот Бреме, указывая на
французский пример, призывает крестьян к открытому бунту.
Однако все кончается
хорошо, и действие завершается "ко всеобщему удовольствию". Зря
только волновались крестьяне. Господа феодалы выказали либерализм и власть свою
осуществляли по-человечески, тем более что в принципе эта власть никем не
оспаривалась, а подданные лояльно и честно исполняли свой долг (хотя прав им от
этого нисколько
1 Здесь и далее пьеса "Мятежные" цитируется в переводе И. М. Гревса.
35
не прибавилось) —
словом, все происходило так, как, на взгляд Гёте, и должно быть. Швейцарский
писатель и литературовед Адольф Мушг, взявшись в 1970 году обработать и дописать
пьесу Гёте "Мятежные", пересмотрел этот эпилог и иронически
подчеркнул иллюзорность политического мира. В пьесе Гёте, однако, графиня,
побывав во Франции, набралась там ума: "Прежде я относилась к нему легче
(к судебному процессу с крестьянами. — С. Т.), когда видела, что мы несправедливо
пользуемся своими владельческими правами. Я думала: ну что же, так устроено —
кто владеет, тот и прав. Но когда я убедилась, как легко нарастает
несправедливость из поколения в поколение, как великодушные действия по большей
части проявляются лишь в отдельных личностях и только своекорыстие передается
по наследству, когда я собственными глазами увидела, что человеческая природа
до последней степени пала и принизилась, но никак не может быть раздавлена и
уничтожена совсем, — тут я твердо решила сама строго воздерживаться от всякого
действия, которое мне представляется несправедливым, и всегда громко
высказывать свое мнение о таких поступках между своими в обществе, при дворе, в
городе. Я не хочу больше молчать ни перед какой неправдой, не буду переносить
никакой низости под прикрытием высокой фразы, даже если меня будут поносить
ненавистным именем демократки" (III,
547—548).
Если Гёте разит
стрелами критики и иронии "апостолов свободы", то вышеприведенные фразы
графини обращены к правящим кругам — это призыв к правителям вести себя так,
чтобы у подданных не возникало причин для революции. Однако надворный советник
из бюргеров в проницательности не уступает графине: если она преисполнена деятельного сочувствия к людям,
которые ниже ее в сословном ранге, то он, со своей стороны, признает заслуги
"высшего сословия в государстве": "Всякий может правильно судить
или порицать только свое сословие. Ко всякому осуждению, направленному вверх и
вниз, примешиваются посторонние побуждения или мелочные придирки — можно быть
судимыми только равными себе. Но именно потому, что я бюргер и мыслю таковым
остаться, я признаю большой вес высшего сословия в государстве и имею основания
его ценить, потому что я беспощаден к мелкому сутяжничеству, к слепой
ненависти, которая вырастает только из себя-
36
любивого эгоизма,
претенциозно борется с претензиями, делается формальной, имея дело с
формальностями, и, не вникая в сущность дела, видит только призраки там, где
можно бы усмотреть прочное счастье. В самом деле! Если надо ценить всякие
преимущества: здоровье, красоту, молодость, богатство, ум, таланты, климат, —
почему же не признавать за благо происхождение от ряда храбрых, прославленных,
благородных предков? Это я буду утверждать везде, где могу высказать свое
мнение, даже если мне присвоят ненавистное имя аристократа!" (III, 548— 549).
Параллелизм этих
высказываний графини и надворного советника, особенно заключительных фраз, ясно
показывает, что Гёте искал третий путь; вместо альтернативы господство
аристократии или буржуазии он предлагал третий вариант: сотрудничество обоих
сословий. Подобное сотрудничество на основе осуществленной сверху реформы
отвечало общественно-политическому идеалу Гёте. Непременным условием
претворения в жизнь этого идеала ему представлялось взаимное уважение обоих
сословий.
Замысел "драмы
в пяти действиях" под названием "Девушка из Оберкирха" воплощен
поэтом лишь частично: в 1795—1796 годах Гёте написал две сцены, и на этом дело
кончилось. Действие пьесы должно было разыгрываться в Страсбурге, иными словами
— в области, охваченной революцией. Фабула: один из местных баронов открывает
графине-тетушке свое намерение жениться на девушке низшего сословия — по любви,
но также из хитроумных политических соображений. Предметом спора в пьесе
становится вопрос: разумен ли подобный поступок и как должны вести себя
аристократы по нынешним временам? Спор этот прерывается, однако, посредине
второго явления. Краткий план всех пяти актов позволяет понять, что Гёте задумал
драму, героиня которой, некая девушка Мария из Оберкирха, будучи вовлечена в
водоворот революционных событий, не оправдывает надежд власть имущих и в
конечном счете погибает. И все же, как ни догадливы филологи, любые соображения
насчет дальнейшего построения этой драмы остаются лишь в рамках предположений.
Не приходится, однако, сомневаться в том, что и в этой пьесе автор собирался
подвергнуть строгому суду "массы" и "ужасных якобинцев",
"алчущих крови всякого и каждого".
37
Вера в третий путь
Разумеется,
"революционными драмами" тема Французской революции в творчестве Гёте
не исчерпывалась. Она занимала его всю жизнь. В собрании новелл "Разговоры
немецких беженцев" (1795), как и в эпической поэме "Герман и
Доротея" (1797), поэт опять же непосредственно затрагивал современные ему
события. Так же и в драме "Внебрачная дочь" (1803) фоном, несомненно,
служит революция, как бы мы ни толковали авторский замысел. В целом же почти
невозможно охватить все следы, какие начиная с 90-х годов оставило в мыслях и
творчестве Гёте это событие, поистине всемирно-исторического масштаба.
"Поэтически овладеть, в его причинах и следствиях, этим ужаснейшим из всех
событий" значило ответить на вызов истории творчески, на основе
собственных концепций и собственного художественного истолкования проблемы
личности и общества.
В старости, из
многолетнего отдаления от этих событий, Гёте неоднократно высказывался о
Французской революции, как и о революции вообще, исходя при этом уже из строго
сформировавшихся взглядов. В очерке "Кампания во Франции"
(опубликованном в
Хотя в этом
автобиографическом рассказе о своем участии в провалившемся походе во Францию в
1792 году Гёте, как уже указывалось, проклинал "злосчастный государственный
переворот" (9, 353) во Франции, он не скупился и на критические замечания
об эмигрантах, которые покидали родину, улепетывая в глубь Германии. Эти люди,
рассказывали ему, вели себя так же заносчиво и спесиво, как прежде.
В своих
"Разговорах с Гёте" Эккерман приводит ряд высказываний
принципиального характера, которые старый Гёте, кое-кем презираемый как
"княжеский прислужник", считал необходимым сделать. В беседе,
состоявшейся 4 января 1824 года, Гёте сознательно завел разговор о своей пьесе
"Мятежные", заявив, что в какой-то мере можно рассматривать ее
38
как "выражение
его политического кредо тех времен". Из своего пребывания во Франции
графиня сделала вывод, что "народ можно подавлять, но подавить его нельзя,
и еще, что восстание низших классов — результат несправедливости
высших" 1. Затем Гёте
привел уже цитировавшиеся слова графини.
"Я считал, —
продолжал Гёте, — что подобный образ мыслей, безусловно, заслуживает уважения.
Я и сам так думал и думаю до сих пор. [...]
Другом Французской
революции я не мог быть, что правда, то правда, ибо ужасы ее происходили
слишком близко и возмущали меня ежедневно и ежечасно, а благодетельные ее
последствия тогда еще невозможно было видеть. И еще: не мог я оставаться
равнодушным к тому, что в Германии пытались искусственно вызывать события, которые во Франции были
следствием великой необходимости.
Я также не
сочувствовал произволу власть имущих и всегда был убежден, что ответственность
за революции падает не на народ, а на правительства. Революции невозможны, если
правительства всегда справедливы, всегда бдительны, если они своевременными
реформами предупреждают недовольство, а не противятся до тех пор, пока таковые
не будут насильственно вырваны народом" (Эккерман, 469—470).
Сейчас трудно
установить, какие "благотворные последствия" революции имел в виду
Гёте. Может быть, устранение власти носителей коррупции и произвола? Или
принятие нового свода законов — "Гражданского кодекса"
(наполеоновского), гарантирующего всем гражданам личную свободу и равенство
перед лицом закона? А может быть, укрепление экономического могущества имущих
слоев буржуазии и расширение рамок их деятельности? Как бы то ни было, Гёте
давно признал Французскую революцию фактом истории. И насчет того, кто повинен
в том, что революция разразилась, у него тоже было свое, твердое мнение:
правительство допускало несправедливости и не осуществило "своевременных
реформ". Правда, столь решительно возложив вину за свершившееся на
правителей Франции, Гёте тем самым еще не ответил на главный вопрос — о "справедливости"
и
1 Здесь и далее беседы Гёте с Эккерманом цитируются по изданию: Эккерман И. П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. Перевод Н. Ман. М., Художественная литература, 1981. — Прим. ред.
39
приемлемости самой
формы правления и общественного строя, существовавших в дореволюционной
Франции. Из той же беседы с Эккерманом становится ясно, что Гёте в принципе
даже допускал возможность преобразования общественно-политической системы при
условии, что оно не будет осуществлено насильственно-революционным путем. Он,
однако, не сказал, кто мог бы осуществить подобное преобразование. Гёте
категорически возражал против того, чтобы его именовали "другом
существующего порядка". Разумеется, если "существующий порядок"
разумен и справедлив, он ничего не имеет против такой характеристики, говорил
поэт. "Но так как наряду со справедливым и разумным всегда существует
много дурного, несправедливого и несовершенного, то "друг существующего
порядка" почти всегда значит "друг устарелого и дурного"
(Эккерман, 470).
Время, однако,
непрестанно идет вперед, и "каждые пятьдесят лет дела человеческие
претерпевают изменения, и то, что было едва ли не совершенным в 1800 году, в
1850-м может оказаться никуда не годным" (там же).
Отрицание революции у
Гёте — следствие его отвращения к революционному насилию и его непредсказуемым
последствиям. По словам того же Эккермана, поэт высказался на этот счет
следующим образом: "Разумеется, я не могу назвать себя другом революции
черни, которая под вывеской общественного блага пускается на грабежи, убийства,
поджоги и под вывеской общественного блага преследует лишь низкие эгоистические
цели. Этим людям я не друг, так же как не друг какому-нибудь Людовику XV. Я ненавижу всякий насильственный переворот,
ибо он разрушает столько же хорошего, сколько и создает. Ненавижу тех, которые
его совершают, равно как и тех, которые вызвали его. Но разве поэтому я не друг
народу? Разве справедливый человек может думать иначе, чем думаю я?"
(Эккерман, 490).
Опять же Гёте осуждает
не только мятежников, прибегших к насилию, но в равной мере и тех, кто своими
неразумными, несправедливыми действиями спровоцировал революцию. Поэт снова и
снова возвращается к модели социальной гармонии, в условиях которой возможны и
спокойное развитие, и "своевременные реформы". Правда, при этом вновь
оставлен в стороне главный вопрос: те, кто "вызвал" насильственный
переворот, имеют ли они законное
40
право осуществлять
свое господство и управлять страной?
Допустим, что власть
имущие, действуя в строгом согласии с законом, пекутся об общем благе и, стало быть,
соблюдают все нормы действующего права (другой вопрос — откуда оно
проистекает), все же это еще не решает вопроса о законности писаного права и существующей структуры
власти. Иными словами, вопрос стоит так: удовлетворяет ли то и другое
требованиям, проистекающим из прав человека, в том виде, в каком они были
осознаны впоследствии (о содержании этих прав, кстати, никогда не смолкают
споры, поскольку беспрерывно наслаиваются все новые и новые обоснования).
Конечно, только безоговорочные адепты позитивного могут отмахнуться от этой
проблемы как от некоего образчика изощренной казуистики, а все же она весьма
мало волновала Гёте. Ему достаточно было тогда, что герцог его — не тиран и
готов служить интересам всего герцогства. А уж вопрос о том, законно ли вообще
(и по сей день) положение, при котором какой-нибудь один человек, по воле
случая родившийся князем, имеет последнее слово во всех делах и никому не
обязан отчетом, — этот вопрос, по-видимому, больше уже не повергал в пучину
сомнений и отчаяния поэта, некогда сложившего гимн Прометею. Возможно, что
именно Французская революция, с ее фазами насилия и террора, как раз и укрепила
Гёте в приверженности к устаревшему строю. Так, в разговоре с Эккерманом в тот
же день, 27 апреля 1825 года, он защищался от упреков тех, кто назвал его
"княжеским прислужником", с помощью таких аргументов, которые
оставляют за скобками вопрос о законности самой формы княжеского правления:
"Разве служу тирану, деспоту? Служу владыке, который за счет народа
удовлетворяет свои прихоти? Такие владыки и такие времена, слава богу, давно
остались позади. [...] А что сам он (великий герцог) имел от высокого своего
положения — только труд и тяготы! Разве его дом, его стол и одежда лучше, чем у
любого из его зажиточных подданных? [...] Его владычество — чем оно было все
это время, как не служением? Служением великим целям, служением на благо своего
народа! И если уж меня сделали слугой, то в утешение себе скажу: по крайней
мере я служу тому, кто сам слуга общего блага" (Эккерман, 490—491).
41
ХУДОЖНИК, УЧЕНЫЙ, ВОЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ.
НАЧАЛО ДЕВЯНОСТЫХ ГОДОВ
Снова — Италия
Не прошло и двух лет
со дня возвращения Гёте в Веймар, как он снова отправился в Италию. Он выехал
навстречу герцогине-матери Анне Амалии и на обратном пути из Италии должен был
провезти герцогиню через северную область страны. 13 марта 1790 года он
пустился в путь со своим слугой Паулем Гётце и в последний день марта прибыл в
Венецию. Там он стал ждать герцогиню, и это ожидание затянулось на недели.
Герцогиня-мать прибыла в Венецию лишь 6 мая, в сопровождении искусствоведа
Генриха Мейера и художника Фрица Бури. Следовало ожидать, что эти недели в
Италии станут для Гёте счастливым отдохновением — поэт сможет снова осмотреть
город, наблюдать за повседневной жизнью его обитателей, проверить впечатления,
накопленные здесь же осенью 1786 года. Но странным образом счастья под южным
небом на этот раз не оказалось. Ничего огорчительного, правда, не произошло, да
и в городе за минувшие три года ничего не изменилось. Но теперь, при повторном
посещении города, поэт многое видел другими глазами. "Итальянское
настроение", о котором он долго мечтал и часто упоминал в своих письмах,
не посетило его на этот раз. Может, зря он так торопливо вызвался сопровождать
путешествующую герцогиню — ведь ради этой поездки пришлось оставить Кристиану и
Августа, родившегося в декабре прошлого года. "На этот раз я неохотно
покидаю свой дом", — писал он Гердеру 12 марта 1790 года, за день до отъезда.
Не лучше ли было использовать время затянувшегося ожидания для
естественнонаучных исследований,
42
которыми он так
увлеченно занимался в Веймаре? "...Вообще же я должен по секрету
признаться Вам, что в эту поездку моей любви к Италии был нанесен смертельный удар.
Не то что мне в каком-то смысле пришлось скверно, да и как бы это могло
случиться? — но первый цветок тяготения и любопытства осыпался; я все больше
становлюсь Шмельфонгом 1. Сюда
же присоединяется моя тоска по оставленному Эротикону и по маленькому спеленатому
существу, которых я, так же как и все, что принадлежит мне, покорнейше
рекомендую Вашему благоволению", — писал Гёте герцогу Карлу Августу 3
апреля 1790 года (XII,
358).
До самого
возвращения в Веймар Гёте пребывал во власти этого настроения. "Нисколько
не вошел я в круг итальянской жизни", — признался он 28 мая в письме к
Гердеру из Мантуи. Отчетливее прежнего видел он теперь бедственное положение
народа: "Учит молитве нужда — в Италии этому учат. / Путник туда поспешит
— и нищету там найдет".
Край, что сейчас я покинул, — Италия: пыль еще вьется,
Путник, куда ни ступи, будет обсчитан везде.
Будешь напрасно искать ты хоть где-то немецкую честность:
Жизнь хоть ключом и кипит, нету порядка ни в чем.
Каждый здесь сам за себя, все не верят другим, все спесивы,
Да и правитель любой думает лишь о себе.
Чудо-страна! Но увы! Фаустины уж здесь не нашел я...
С болью покинул я край — но не Италию, нет!
(1, 198)
"Жизнь, кипящая
ключом" — как Гёте наслаждался, как восхищался ею всего лишь несколько лет
назад, но теперь, спустя год после штурма Бастилии в Париже, он склонен ее
осуждать. Мы, однако, теперь не сочувствуем этой критике, на такие понятия, как
"немецкая честность" или "немецкий порядок", нам просто
нельзя ссылаться после всего того, что подставлялось под них, — тем более для
осуждения других народов и другого образа жизни.
Стихотворение,
приведенное выше, — одна из эпиграмм, созданных поэтом в 1790 году во время
пребывания в Италии. 9 июля он извещает Кнебеля: Мой
1 Шмельфонг — постоянно все критикующий путешественник из романа Лоуренса Стерна "Сентиментальное путешествие".
43
Libellus Epigrammatum 1 уже завершен; в свое
время ты его увидишь, но пока я еще не могу с ним расстаться". По возвращении домой к этим эпиграммам
прибавились и другие все в том же роде. В 1791 году избранные эпиграммы были
уже опубликованы в "Немецком ежемесячнике". Затем 104 эпиграммы
появились в "Альманахе муз" за 1796 год, издаваемом Шиллером;
некоторые из них позднее были переработаны для публикации в собрании сочинений
"Новые произведения" ("Neue Schriften", 7-й том, 1800). И снова, как в "Римских
элегиях", далеко не все написанное могло быть преподнесено публике.
Слишком уж смелыми, дерзкими, откровенными оказались многие из этих
стихотворений. Сохраняя размер античных двустиший (как и в "Римских
элегиях"), эти эпиграммы, то афористично лаконичные, то развернутые в
стихотворение описательного типа, изобиловали меткими наблюдениями и
воинственными обличениями, деликатными эротическими намеками и откровенно чувственными
картинами.
То, что я дерзок бывал, не диво. Но ведают боги —
Да и не только они — верность и скромность мою.
(1, 210)
У римского поэта
Марциала, наставника европейских поэтов — сочинителей эпиграмм, мы находим
сходное: пеструю смесь тем и меткую остроту высказываний. Автор
"Венецианских эпиграмм" позволил себе без смущения, в полный голос,
рассказывать об увиденном, о том, что занимало его или, наоборот, раздражало,
напрашивалось на критику или, напротив, пробуждало в нем восхищение. Когда же
он обращался к собственной жизни, тут одновременно проявлялась и скромность, и
уверенность в своих силах. Вслед за эпиграммой — ранним свидетельством его
скептического отношения к родному языку (как и "Многое я испытал") —
появилась другая, в которой поэт энергично защищает свое пристрастие к
естественнонаучным исследованиям, и наконец — третья, непосредственно к ней
примыкающая, — полемический выпад против Ньютона.
Что от меня хотела судьба? Вопрос этот дерзок:
Ведь у нее к большинству нет притязаний больших,
1 Книжечка эпиграмм (лат.).
44
Верно, ей удалось бы создать поэта, когда бы
В этом немецкий язык ей не поставил препон.
(1, 210)
"Что ты творишь? То ботаникой ты, то оптикой занят!
Нежные трогать сердца — счастья не больше ли в том?"
Нежные эти сердца! Любой писака их тронет.
Счастьем да будет моим тронуть, Природа, тебя!
(1, 210)
1790 год; в это
время Гёте, учтя противоречивый опыт первого веймарского десятилетия, с
согласия герцога отказался от предложенного ему высокого поста, как и от
обширных задач в области политической и административной. Зато он сохранил
возможность широкой беспрепятственной деятельности в сфере искусства и науки,
даже взял на себя некоторые официальные функции в этой сфере. Как член Совета
он по-прежнему располагал солидной, представительной должностью. И по-прежнему
он мог по любому поводу сказать свое слово; как и в прошлом, герцог и его
чиновники обращались к нему за советами, порой не будучи в состоянии обойтись
без них. После кризиса 1786 года Гёте бежал в Италию, но скоро он нашел и
очертил для себя свой, строго определенный круг задач, который счел для себя
подходящим, коль скоро жизнь свободного художника слова его не устраивала, и
эта деятельность спасла его от разочарований, даже от отчаяния. Застраховав
себя таким образом, Гёте, словно стремясь продемонстрировать самосознание
поэта, взял себе право в своих эпиграммах свободно критиковать то, что ему
претило, выносить всякому явлению суровый приговор. Многообразна тематика
эпиграмм, но в иных поэт попросту благодарит "богов" за все, что они
ему "даровали", за все, чего он достиг в жизни (№ 34). Хотя
соотносить поэтическое высказывание с жизнью поэта следует всегда осторожно,
все же в венецианских двустишиях непосредственная связь содержания их с жизнью,
делами и мыслями Гёте настолько очевидна и так легко поддается проверке, что в
данном случае сомнения излишни.
Уже упоминались
содержащиеся в эпиграммах нападки на демагогов и апостолов свободы. И церковь,
и символы веры также подверглись насмешкам поэта:
Был я всегда терпелив ко многим вещам неприятным,
Тяготы твердо сносил, верный завету богов.
45
Только четыре предмета мне гаже змеи ядовитой:
Дым табачный, клопы, запах чесночный и +.
(1, 209)
В числе
неопубликованных стихотворений осталось такое:
Гроб господний открыт! Чудо! Воскрес наш Спаситель!
Кто вам поверит, шельмы? Вы же его унесли!
Но не только
критику, иронию и насмешку вкладывал в свои эпиграммы поэт. В заданный
стихотворный размер он включил и моментальные зарисовки, размышления об
искусстве и поэзии, мысли о далекой возлюбленной. Двенадцать эпиграмм — №37—48
— составили маленькое поэтическое собрание, посвященное очаровательной юной
уличной акробатке Беттине, этой второй Миньоне. Она принадлежала к одной из
трупп странствующих артистов, которые показывали свое искусство на улицах и
площадях Венеции. Праздных гуляк, фланирующих по городу, Беттина очаровывала
своей ловкостью, невинным лукавством и неосознанной эротичностью. В ответ на
воображаемый упрек — "тему найди поумней" — поэт следующим образом
заключает этот стихотворный цикл:
Ну, а пока я пою Беттину, нас тянет друг к другу,
Ибо от века сродни были фигляр и поэт.
(1, 206)
В 1800 году Гёте
добавил к "Венецианским эпиграммам" два примечательных — и притом
более длинных стихотворения: в первом он благодарил богов за их дары и просил
новых благ; во втором — прославлял своего герцога. Сколько раз поэты
преподносили своим "богам" стихи с выражением пожеланий и надежд! То
же и здесь, но поначалу поэт просит у богов лишь самое элементарное для жизни,
"пять естественных благ": "дом ему дайте уютный, и стол
повкуснее, и вина", "дайте пристойный костюм и друзей для приятной
беседы, на ночь — подружку, чтоб ей был он желанен и мил". Но дальше поэт
перечисляет все то, что необходимо ему для дела его жизни: знание древних и
новых языков — "дайте мне ясным постичь чувством искусства людей, дайте
почет у народа, у власть имущих — влиянье". И в заключение поэт благодарит
богов:
46
Впрочем, спасибо вам, боги! Меня вы уж раньше успели
Сделать счастливым, послав самый прекрасный ваш дар.
(1, 203)
Но, оказывается, в
первую очередь поэт должен был благодарить человека, героя следующей эпиграммы,
прославляющей веймарского герцога — покровителя и друга Гёте. Стихотворение было
написано еще в 1789 году и подчеркнуто названо "Хвалебным
стихотворением" (письмо Гёте Карлу Августу от 10 мая
Да, средь немецких князей мой князь не из самых великих,
Княжество тесно его и небогата казна;
Но если б каждый, как он, вовне и внутри свои силы
Тратил, то праздником жизнь немца средь немцев была б.
Впрочем, зачем я славлю того, кого славят деянья?
Да и подкупной моя может казаться хвала,
Ибо дал он мне то, что нечасто великие дарят:
Дружбу, доверье, досуг, дом, и угодья, и сад.
Всем я обязан ему: ведь я во многом нуждался,
Но добывать не умел — истый поэт! — ничего.
Хвалит Европа меня, но что дала мне Европа?
Я дорогою ценой сам за стих заплатил.
47
Немцы мне подражают, охотно читают французы;
Лондон! Принял как друг гостя смятенного ты.
Только что пользы мне в том, что даже китаец
Вертеров пишет и Лотт кистью на хрупком стекле?
Ни короли обо мне, ни кесари знать не желают,
Он лишь один для меня Август и мой Меценат.
(1, 203—204)
В первых строчках
стихотворения сдержанно восхваляется деятельность Карла Августа в канун 1790
года по созданию союза немецких княжеств; ненавязчиво напоминает он об обязанностях,
которые ожидают герцога внутри собственной страны. Многозначительно повторяя
выражения "внутри" и "вовне", поэт и восхваляет образ жизни
герцога, и побуждает его к деятельности: вдох и выдох, систола и диастола — вот
его основной принцип. С почтением, но без раболепия, с благодарностью, но и с
сознанием собственной роли — так Гёте обосновал в этом стихотворении свой выбор
в пользу Веймара, который стал для него "любимой родиной" (в письме
Ф. Якоби от 10 декабря
В силезском военном лагере
Уже через месяц
после возвращения из второго итальянского путешествия Гёте пришлось снова
собраться в путь. Герцог, в качестве прусского командира, отбыл в конце мая в Силезию,
где Пруссия скон-
48
центрировала войска:
она желала продемонстрировать Австрии свою военную мощь. Военный конфликт,
однако, удалось предотвратить: 27 июля 1790 года обе державы подписали в
Райхенбахе конвенцию о зонах влияния. Таким образом, союз княжеств, за который,
как мы знаем, усиленно ратовал Карл Август, утратил свое значение.
Гёте не старался
уклониться от участия в этом походе: "кроме некоторых тягот", он
ожидал от него "много удовольствия и пользы". "Герцог призвал
меня в Силезию, где, вместо камней и цветов, я обнаружу в полях солдат"
(из письма Кнебелю, 9 июля
Зелен домика пол, солнце светит сквозь стены,
Над полотняной крышей резвая птичка поет.
Конным строем взлетаем мы на силезские горы,
И на Богемии земли алчным взором глядим.
Но впереди — никого: ни врага там нет, ни врагини —
Коли нас Марс обманул, принеси, Купидон, нам войну.
(Из письма Гердеру от 21 августа
Возможно, Купидон и
впрямь поразил поэта. По некоторым данным, там, в Силезии, Гёте серьезно
увлекся Генриеттой фон Лютвиц, которой в ту пору шел двадцать первый год, и
собирался на ней жениться. И это несмотря на то, что два года тому назад
соединил свою жизнь с Кристианой! Однако отец Генриетты Ганс Вольф барон фон
Лютвиц, которому, кроме замка Хартлиб близ Бреславля, принадлежали еще четыре
других поместья, не дал на этот брак своего согласия: на его взгляд, Гёте, как
сыну франкфуртского бюргера, недоставало аристократического происхождения. Об этом
"приключении" Гёте никогда никому не рассказывал. Впервые об этих
матримониальных намерениях поэта упомянул в 1835 году брат Генриетты — Эрнст —
в своей биографической книге о бароне Шукмане. И если это сообщение
соответствует действительности, то жизненный союз Гёте с Кристианой Вульпиус
уже предстает перед нами в совершенно ином свете.
49
Во время пребывания
в Силезии Гёте имел возможность продолжать свои научные и искусствоведческие
труды. "Среди всей этой кутерьмы я начал писать мою статью о строении
животных и одновременно — чтобы не потонуть в абстракции — принялся сочинять
комическую оперу" (из письма к Фрицу фон Штейну от 31 августа
Еще в Венеции,
рассматривая как-то раз череп животного, Гёте высказал предположение, что
"все кости черепа сформировались из видоизменившихся позвонков". В
этом направлении шли его анатомические исследования с момента
"открытия" межчелюстной кости у человека. Он подчеркивает: "Я
был полностью уверен в том, что всем животным присущи общие признаки,
видоизмененные в зависимости от типа". Гёте стремился познать основные
закономерности развития.
Новые впечатления
захватили поэта в Бреславле — этот город, насчитывавший 55000 жителей, в ту
пору мог показаться на редкость крупным — и не только одному Гёте. В те дни
город был переполнен военными, дипломатами, наблюдателями и их свитой. В
приемах, встречах, развлечениях не было недостатка, но и здесь Гёте умел
уединиться и сосредоточиться на своей работе. 11 августа, в день прибытия
прусского короля Фридриха Вильгельма II,
во дворце был устроен необыкновенно пышный прием со всем непременным
церемониалом. Гёте присутствовал на этом приеме. И уж верно, не один барон фон
Шукман поначалу не узнал приближенного веймарского герцога. «Я уви-
50
дел цветной кафтан —
поверх костюма — и над этим заурядным костюмом совершенно незаурядное лицо.
Долго и безуспешно расспрашивал я всех, желая узнать имя этого человека, и
наконец слышу: "Гёте!"» Так писал Шукман, верховный судья города
Бреславля, а позднее — министр внутренних дел Пруссии. Между ним и Гёте
установились дружеские взаимоотношения, хотя поэт тщетно пытался уговорить
этого усердного чиновника перейти на службу в Веймар. Их переписка продолжалась
вплоть до 1826 года.
Из Бреславля Карл
Август и Гёте нередко выезжали в ближние и отдаленные окрестности, где
использовали время, в частности, также для знакомства с горнорудными
предприятиями. Оба по-прежнему не оставляли мысли восстановить собственные
рудники в Ильменау. В Тарновице Гёте имел возможность целыми днями разъезжать и
осматривать поля открытых горных разработок, наблюдать, каким образом велась
здесь работа. Здесь же, на территории рудников, изумленному поэту довелось
увидеть первую на континенте паровую машину. Еще из Бреславля он писал своему
коллеге Фойгту в Веймар: "В Тарновице я утешился насчет судьбы Ильменау;
здесь людям придется поднимать значительно большую массу воды, правда с меньшей
глубины, и все же они надеются добиться своего. Работают два пожарных насоса,
собираются установить еще один; к тому же — еще конный ворот, который
откачивает воду из четырех шахт. [...] Силезские горнорудные разработки
представляют большой интерес" (из письма от 12 сентября
От просвещенья вдали, у самых границ государства
Кто вам поможет сокровища выдавать на-гора?
Только разум и честность — вот ключи к тем богатствам
И к сокровищам всем, какие прячет земля.
Путешественники
добрались до Кракова, Ченстохова, Велички; восточнее этих мест Гёте никогда не
случалось бывать.
На обратном пути из
Бреславля, начавшемся 19 сентября, он сделал вылазку в Исполиновы горы, и
ранним утром 22 сентября поднялся на снежную вершину; на посещение Дрездена
также осталась еще целая не-
51
деля. Наконец 6
октября Гёте вернулся в Веймар, в охотничий домик на Мариенштрассе, к своей
маленькой семье ("которая вовсе не похожа на святое семейство" — из
письма к Карлу Августу от 18 апреля
В шутку и всерьез.
Директор придворного театра
В Веймаре Гёте
интенсивно продолжал свои естественнонаучные занятия, которые увлекли его
настолько, что, казалось, он перестал серьезно относиться к поэзии. Еще в июле
1790 года он признавался Кнебелю: "Душу мою больше, чем когда-либо раньше,
влечет к естественным наукам, и меня лишь удивляет, что в прозаической Германии
над моей головой по-прежнему вьется облачко поэзии" (9 июля
В
"Анналах" к 1791 году мы находим следующее признание: "Чтобы,
однако, не оторваться от поэзии и искусства, я с удовольствием взял на себя
руководство придворным театром". Так началась деятельность Гёте на посту
генерального директора Веймарского театра, продолжавшаяся более четверти века,
вплоть до 1817 года, осуществляемая, хоть Гёте и не получал
52
за нее никакого
специального вознаграждения, с поразительной осмотрительностью и энергией.
Гёте, а впоследствии вместе с ним и Шиллер обеспечили веймарской сцене ведущее
положение среди немецкоязычных театров того времени. Первенство это было
достигнуто постановками, стилевые особенности которых нам еще предстоит
описать.
В 1756 году молодая
герцогская чета — Анна Амалия и Эрнст Август Константин — учредили придворный
театр, в котором играла труппа Деббелина. Однако уже в 1758 году, после ранней
смерти герцога и по причине финансовых трудностей, театр перестал существовать.
Начиная с 1767 года при дворе время от времени появлялись труппы актеров, а с
1771 года там играла труппа Зейлера во главе с выдающимся актером Конрадом
Экгофом. Двор давал театру ежегодную дотацию в 10000 талеров. Экгоф был
замечательным артистом, играл в разных труппах; как никто другой до него,
заботился о систематической подготовке актеров и с этой целью создал в Шверине
академию, способную преподать артистам "грамматику актерского
мастерства". Экгоф отвергал нарочито театральные позы и напыщенную декламацию,
зато требовал от актеров — и сам показывал пример — естественности в поведении,
речи и жестах, приближения театра к реальности. Противоположных взглядов
придерживался Фридрих Людвиг Шрёдер, в 1774 году возглавивший Гамбургский
национальный театр и способствовавший сценическому торжеству сторонников
"Бури и натиска": исполнители должны были показывать гениальное,
неповторимое, ярко характерное и впечатляюще доносить это до зрителей.
Пожар, случившийся в
веймарском дворце 6 мая 1774 года, неожиданно положил конец ангажементу труппы
Экгофа — Зейлера. Тем самым завершилась и театральная эпоха, о которой с
одобрением писал Виланд в "Тойчер Меркур". Лишившись своего театра,
актеры вскоре нашли пристанище в Готе, где в 1775 году был основан придворный
театр — первый в Германии театр, в котором артисты считались придворными
служащими и получали твердое жалованье. Заведующим литературной частью театра
стал Фридрих Вильгельм Готтер, давний знакомый Гёте по Вецлару, одновременно
секретарь придворной канцелярии и драматург, еще в 1773 году возглавивший
любительскую труппу.
В Веймаре с 1775
года при дворе существовала
53
любительская труппа,
для которой очень много сделал Гёте; в какой-то мере она спасала положение,
хотя, конечно, не могла заменить настоящий театр. К тому же зрители попадали на
спектакль исключительно по пригласительным билетам. В 1784 году наконец были
ангажированы профессиональные актеры, и вплоть до 1791 года труппа Джузеппе
Белломо играла в Доме редутов и комедии, построенном придворным егерем Антоном
Георгом Гауптманом, подвизавшимся также в роли строительного подрядчика. Здесь
соорудили постоянную сцену, тогда как прежде — после дворцового пожара 1774
года — в Доме редутов на Эспланаде играли любители и сцену то заново
отстраивали, то разбирали на части. Веймарский театр работал в помещении нового
Дома комедии вплоть до ночи с 21 на 22 марта 1825 года, когда дом этот был
полностью уничтожен пожаром.
Решение Карла
Августа создать у себя придворный театр было порождено рядом причин. Правда,
труппа Белломо, ежемесячно получавшая дотацию в 320 талеров, стремилась и к
созданию хорошего репертуара, и к постановке качественных спектаклей; труппа
даже отваживалась ставить оперы Глюка и Моцарта. Однако растущие требования
публики она была не в силах удовлетворить. Герцог считал также, что
целесообразнее самому нанимать актеров. Разумеется, важную роль сыграло желание
герцога иметь собственный придворный театр. Впечатлял не только пример Готы; во
второй половине XVIII
века в ряде городов — Гамбурге, Мангейме, Дрездене, Берлине, Кёнигсберге, Вене
— были созданы неплохие немецкоязычные ансамбли, подвизавшиеся при разных
дворах и в своем репертуаре отдававшие предпочтение опере. Стало быть, Карл
Август расторг контракт с Белломо и выкупил у него право постановки пьес в
летнем театре популярного в ту пору курорта Лаухштедт. Все
финансово-хозяйственные вопросы он поручил уладить асессору Францу Кирмсу.
Вскоре, однако, герцог понял, что вынужден будет вникать во все дела театра, а
значит, нужно подыскать человека с именем и положением, который возьмет на себя
заботу о новом придворном театре. Ни о ком, кроме Гёте, не могло быть и речи.
Позднее в "Анналах" Гёте писал, что "с удовольствием"
принялся за выполнение новой задачи; в свое время, однако, он отзывался на этот
счет более сдержанно: "Я неспешно приступаю к делу; может, из этого все же
что-то получится и для
54
меня, и для публики.
По крайней мере это заставит меня внимательно изучить новую область и ежегодно
писать две-три пьесы, пригодные для сцены. Остальное приложится" (письмо
Якоби, 20 марта
Однако пьес он
писать не стал. Странным образом, после "Гражданина генерала" Гёте не
завершил ни одной пьесы, которая была бы пригодна для постановки.
"Внебрачная дочь" так и осталась фрагментом, полный же текст
"Фауста" далеко вышел за рамки обычного произведения для сцены. По
крайней мере автор этой "драмы для мирового театра", вторую часть
которой он оставил потомкам в "зашифрованном" виде, меньше всего
думал о требованиях сцены и привычках публики. Даже такие комедии, как
"Палеофрон и Неотерпа", "Пандора" или "Эпименид",
— все что угодно, но только не "пригодные для сцены" пьесы, о которых
Гёте мечтал в 1791 году.
Быть может, при
длительном соприкосновении с повседневной практикой театра Гёте почувствовал, что
тесного пространства сцены и короткого театрального вечера ему мало для
художественного воплощения проблем, которые его волновали: в чем сущность
человека и его развития, эволюции всего живого, форм общественного
сосуществования и деятельного содружества? Словом, взяв на себя руководство
театром, Гёте не стал "человеком театра", то есть плодовитым
драматургом, а превратился в директора, который вынужден был заботиться обо
всем, что так или иначе касалось повседневной жизни сцены. Постановку своих
собственных пьес он охотно поручал другим, даже когда догадывался, что конечный
результат радости ему не доставит. В статье "О немецком театре"
(1815) можно прочитать о судьбе некоторых его драм, как и о том, что,
редактируя "Эгмонта", Шиллер "проявил настоящую жестокость".
Гёте с юных лет
интересовался театром. Во Франкфурте и в Лейпциге видел множество спектаклей.
Как драматург и в недавнем прошлом spiritus rector 1 Веймарского
любительского театра, к тому же и сам порой выходящий на подмостки, поэт принес
с собой разносторонний опыт в дело, которое ему поручили. О том, как сам Гёте
определял объем задач, на него возложенных, можно судить по
"Перечню", в 1808 году представленному им герцогу для "срочного
утверждения". В это время у поэта возникли серьезные разно-
1 Здесь: главное лицо (лат.).
55
гласия с герцогом в
вопросах театра. Среди пунктов, касающихся "нового устройства театра"
и в большинстве своем закреплявших общепринятые правила, был и такой:
"Тайный советник фон Гёте обеспечивает художественное руководство
спектаклями единолично и на основе неограниченных полномочий". В
специальном приложении Гёте пояснил: "Под художественным руководством
следует разуметь : чтение и оценку пьес. Утверждение пьес к постановке.
Редактирование, сокращение, переделку отдельных мест. Распределение ролей.
Проведение репетиций за столом. Репетирование — при необходимости — ролей с
отдельными актерами. Посещение сценических репетиций, в особенности
генеральных. Утверждение оформления, включая костюмы и реквизит. Изготовление новых
декораций к постановке. А также все прочее, что еще может оказаться
необходимым, дабы оживить и улучшить постановку пьесы" (приложение к
письму К. Г. Фойгту, 11 декабря
Оставим в стороне
вопрос о том, что в 1808 году речь шла также и о плане разделения оперных и
драматических спектаклей, — все, что относилось к театру, входило в компетенцию
Гёте: составление репертуара, приспособление пьес к постановке на сцене,
инсценировки, репетиции, сценические декорации, а также наем актеров. Он же
заботился об образовании актеров, о совершенствовании их актерского мастерства,
следил за их поведением в театре и вне его и требовал от них любовного,
серьезного отношения к своему ремеслу. Этими же мерами он одновременно поднимал
престиж актерской профессии в обществе, в целом не склонном ее уважать: многие
в ту пору смотрели на артистов как на своего рода бродяг, о вольных нравах
которых, мешая правду с ложью, судачили без конца.
Чисто
администраторские обязанности в Веймарском театре по-прежнему исполнял Франц
Кирмс. Веймарские документы свидетельствуют, сколько хлопот должно было выпасть
на его долю в театре, вынужденном строго экономить отпущенные ему средства и
выезжать на гастроли ради денежного обеспечения зимнего сезона.
Актеры получали
скудное жалованье. В первые годы директорства Гёте максимальная недельная плата
не превышала восьми-девяти талеров. Впрочем, в воспоминаниях Эдуарда Генаста
(1797—1866) можно найти замечание, что при таком жалованье береж-
56
ливый человек мог
прожить в Веймаре вполне сносно. Генаст, впоследствии долго служивший в
Придворном театре, ссылался на слова своего отца Антона Генаста (1765—1831),
артиста придворной труппы времен директорства Гёте. Генасту случалось также
заниматься режиссурой, и Гёте настолько ценил его, что на время своего
отсутствия охотно поручал ему художественное руководство театром. Генрих
Беккер, также игравший в труппе придворного театра с 1791 года по контракту и
получавший еженедельное жалованье в сумме 5 талеров и 6 грошей, жаловался в
1804 году в письме к Кирмсу: "Да, если бы не Гёте с Шиллером и не Вы,
господин надворный советник, благо вы все стояли у кормила, я бы первым бежал
отсюда. Что может удержать человека в Веймаре: большого жалованья не получишь,
люди здесь необщительны, бедность на каждом шагу, куда ни глянь, и энтузиазма
тоже не встретишь: сколько мы ни стараемся — редко видим благодарность. Что же
остается делать актеру, когда весь заработок уходит на одежду и необходимое
пропитание? Господи, что за жалкая жизнь!.."
Сведения о денежных
окладах былых времен мало что способны поведать нам сегодня: голые цифры не
дают представления об истинной ценности денег. Чрезвычайно трудно сопоставить,
даже ориентировочно, эти оклады с нынешней покупательной способностью денег.
Денежные суммы в системе экономики с преобладанием продуктов сельского
хозяйства и ремесла можно лишь очень приблизительно сравнивать с суммами в
современной валюте — валюте современного индустриального общества с совершенно
иными формами производства и потребления. Кроме того, во времена Гёте
параллельно курсировали разные деньги: например, саксонские и прусские талеры,
котировавшиеся несколько ниже рейхсталеров; один рейхсгульден соответствовал
0,52 или 0,59 талера, а саксонский гульден равнялся 2/3 талера. Таким образом,
любые сопоставления денежных сумм допустимы лишь с известными оговорками.
Несколько лет тому назад историк Рольф Энгельзинг предложил: "Следует
считать один талер равным двум гульденам, в свою очередь равным 30 немецким
маркам 1975 года" ("Нойе рундшау", 87, 1976, с. 126). В то же
время Доротея Кун, издательница переписки между Гёте и Коттой, подчеркивала (в
57
один талер
соответствует 40 современным немецким маркам, нельзя считать абсолютно верным.
Тем не менее даже приблизительные значения денежных сумм все же могут дать
ориентировочное представление о размерах тогдашних доходов и гонораров. Весьма
полезно в этих целях сопоставить доходы разных людей того времени: "В 1820
году Гёте, исполняя должность министра, получал годовое жалованье 3100 талеров;
лейб-медик Хушке — 2900 талеров; сын Гёте Август, в чине советника, — 800
талеров ; писарь Йон — 78 талеров; слуга Гёте Штадельман — 65 талеров в год (к
чему порой прибавлялись разной стоимости подарки)" (Д. Кун).
Что же фактически
можно было приобрести на эти деньги? Чтобы ответить на этот вопрос, следовало
бы составить длинный список цен на разные товары тех лет, но притом не
забывать, что и в прошлом цены подвергались значительным колебаниям: случались
инфляции, как и повышение цен, особенно после неурожаев.
Когда Гёте вступил в
свою новую должность, многие стороны театральной работы находились в плачевном
состоянии. Труппа придворного театра насчитывала 16 человек, многие из которых
прежде служили у Белломо. Актеры должны были исполнять также и вокальные
партии, что разумелось само собой, и никто из актеров не мог претендовать на
определенные роли. Актеры происходили из различных областей, часто говорили на
плохом немецком языке с резкими признаками того или иного диалекта, и никто из
них не проходил суровой школы обучения сценической речи. Неудивительно поэтому,
что два первых раздела "Правил для актеров", которые Гёте
сформулировал в сотрудничестве с некоторыми из артистов ("Анналы" к
1803 году), были соответственно озаглавлены: "Диалект" и
"Дикция".
§ 1. Когда в ткань
трагического монолога вторгается провинциализм, этим обезображивается даже
самое лучшее поэтическое произведение и оскорбляется слух зрителя. Поэтому
каждому готовящемуся стать актером необходимо прежде всего освободиться от всех
ошибок диалекта и добиться чистого, совершенного произношения. Провинциализмам
не место на сцене! [...]
§ 3. Как в музыке
основой всякого дальнейшего художественного исполнения является правильное,
точное и чистое воспроизведение каждого отдельного
58
звука, так и в
искусстве актера основой читки и декламации является чистое и совершенное
произношение каждого отдельного слова.
(10, 285—286)
Еще в
"Прологе" к пьесе Ифланда "Охотники", зарисовке сельских
нравов, представлением которой 7 мая 1791 года ознаменовалось открытие
придворного театра, Гёте объяснял публике:
Мы лишь совсем недавно собрались
Со всех концов Германии сюда
И вместе дружно начинаем путь
К далекой цели, и мечтаем мы
Когда-нибудь благую цель достигнуть...
(Перевод А. Гугнина)
Бдительно и
тщательно следил Гёте за разучиванием каждой новой пьесы. Работа начиналась с
репетиций за столом, во время которых "отрабатывался" текст,
проверялись и закреплялись произношение, выразительность, интонация. Уже на
этой стадии уделялось также внимание жесту. К моменту генеральной репетиции
актеры должны были твердо знать свои роли, с тем чтобы место и передвижение
каждого исполнителя на сцене было заранее точно определено. Гёте бережно
учитывал индивидуальные способности каждого артиста, но оставался непреклонным
в своих требованиях. Иногда он сам показывал актерам, какой ему виделась та или
иная роль. Примечателен случай на репетиций "Короля Иоанна" Шекспира
(премьера спектакля состоялась 29 ноября 1791 года), когда Гёте в первой сцене
четвертого акта выхватил из рук камергера Хьюберта железный прут, которым тот
должен был ослепить принца Артура, и так стремительно набросился на игравшую
принца Артура юную актрису Кристиану Нойман, что та от страха лишилась чувств.
Театр вынужден был
ставить множество пьес — требовалась частая смена спектаклей. На каждом
представлении присутствовало 500 зрителей, более половины которых составляли
обладатели абонементов — стало быть, любители театра в Веймаре и ближайшей
округе за короткое время успевали пересмотреть весь репертуар. Конечно, должны
были пройти годы прежде, чем сформировался "веймарский стиль",
который нельзя правильно оценить в отрыве от теоретических основ
"классического периода".
При всей своей
заботе об актерах директор фон
59
Гёте требовал
строгого соблюдения дисциплины и, случалось, единовластно принимал крутые меры
(не только по отношению к артистам, но и по отношению к публике и критикам).
Так, молодую актрису, без разрешения отправившуюся на гастроли, он посадил под
домашний арест, да еще потребовал, чтобы она из своих средств оплатила
часового, поставленного у ее дома. Гёте принципиально возражал против женитьбы
и соответственно замужества актеров и актрис, опасаясь новых финансовых
претензий к администрации, как и беременностей, мешающих нормальной работе
труппы. К тому же Гёте был убежден, что публика отдает предпочтение холостым
актерам: "Зритель хочет получить не только эстетическое и нравственное, но
также и эмоциональное наслаждение. Невинная девушка, непорочный юноша в
соответствующих ролях вызывают у публики особые чувства, их игра трогает сердца
и умы по-иному, чем игра актеров, о которых известно совсем другое".
В самом деле,
придворный актер Дени в 1809 году добился разрешения на брак лишь после
многократного обращения к герцогу вопреки сопротивлению Гёте и Кирмса (в 1800
году герцог издал указ, согласно которому все состоящие на службе при дворе
должны были испрашивать дозволения на женитьбу). Все эти сведения достаточно противоречивы
— известно, что знаменитая Кристиана Нойман, которую обессмертила гётевская
элегия "Эфросина", в 1793 году, пятнадцати лет от роду, вышла замуж
за актера Генриха Беккера.
Приняв пост
директора театра, Гёте отнюдь не пытался сразу создать новый репертуар, в корне
отличавшийся от программы времен Белломо. Он не мог на это отважиться хотя бы
по чисто финансовым соображениям. Две трети текущих расходов надлежало
покрывать за счет сборов от спектаклей, стало быть, две трети спектаклей
текущего репертуара (при наличии накоплений от гастролей в Лаухштедте или
где-либо еще) должны были обеспечивать аншлаг. Лишь треть спектаклей Гёте мог
посвятить сложным пьесам, не заботясь об их успехе у публики. Поэтому
развлекательные пьесы, зарисовки нравов и семейной жизни, зингшпили сохранялись
в репертуаре наравне с драмами Шекспира и операми Моцарта. Гёте избрал, таким
образом, смешанную программу, соединявшую в себе и развлекательные спектакли, и
взыскательное искусство. При всех обстоятельствах, в пределах каж-
60
дого жанра,
ставились лишь "хорошие" пьесы. Как ни стремился Гёте к воспитанию
публики, все же он не пытался высокомерно игнорировать вкусы зрителей, дабы
превратить театр в орудие интеллектуального и общественно-политического
воспитания. В годы его директорства — с 1791 по
Обеспечив таким
образом публике и развлечение и удовольствие, Гёте одновременно получил
возможность показать на веймарской сцене лучшие произведения своего времени и
мировой литературы. Звездный час Веймарского театра наступил, когда Гёте и
Шиллер вместе посвятили себя театру и в сезон 1798— 1799 гг. осуществили
постановку трилогии о Валленштейне. Случались в Веймаре, разумеется, и неудачи,
каковых столь же невозможно было избежать, как и в любом другом театре мира.
Гёте не всегда удачно выбирал пьесы — о чем свидетельствовали спектакли 1802
года по пьесам "Ион" Августа Вильгельма Шлегеля и "Аларкос"
Фридриха Шлегеля. Поэт также не всегда находил к пьесе верный режиссерский
подход, о чем свидетельствует слабая постановка комедии Клейста "Разбитый
кувшин" в 1808 году, когда Гёте разделил пьесу на 3 акта, тем самым
разрушив ее структуру, и к тому же неудачно распределил роли.
В том самом письме
от 20 марта 1791 года к Фрицу Якоби, в котором Гёте сообщал, что принял пост
"генерального директора театра", упомянуты также
61
и другие занятия
поэта. Он продолжал "наблюдения над всеми царствами природы, применяя все
хитроумные приемы", дарованные его уму, "чтобы постигнуть общие
законы организации живых существ". Этой фразой Гёте как бы подвел общий
знаменатель под все свои разносторонние интересы в сфере изучения природы.
Работу "О строении животных", которую он предполагал завершить к
пасхе, пришлось отложить на целый год, чтобы дать ей окончательно созреть. Но и
этой работы ему было мало. Больших затрат времени требовали и дворцовая
строительная комиссия, и комиссия водных сооружений — последняя осталась в
ведении Гёте и после итальянского путешествия, как часть дорожно-строительного
дела. Кроме того, летом поэт взялся за осуществление своей "старой идеи"
— о создании научного общества. "Мы действительно могли бы собственными
силами, да еще объединившись с Йеной, сделать очень многое, если бы обрели
место для регулярных встреч", — писал Гёте герцогу Карлу Августу 1 июля
1791 года. Несколькими днями позже уже был разработан устав общества,
регламентировавший характер и порядок проведения ежемесячных собраний. Каждый
член общества должен был внести свою лепту. Представить "статьи на темы
науки, искусства, истории; выдержки из личной литературной переписки и новых интересных
работ или же короткие стихотворения и рассказы; возможна также демонстрация
физических и химических опытов и т. д." (§ 2). Уже 5 июля Гёте, Фойгт,
Виланд, Бертух, Гердер, Кнебель, книготорговец Боде и придворный аптекарь
Буххольц подписали этот устав. Так родилось "Общество Пятницы"
обязанное своим названием дню заседаний. Этот интеллектуальный круг общения,
который в дальнейшем еще расширился, был крайне необходим Гёте: здесь мог он
рассказывать о своих естественнонаучных исследованиях и услышать мнение коллег.
В своем вступительном слове на первом заседании общества 9 сентября 1791 года
поэт говорил о назначении нового общества и высказал при этом интересные мысли.
Принято считать, говорил он, что поэтам и художникам всего легче создавать свои
творения в уединении. Но это самообман. Что стало бы с ними, если бы они
игнорировали произведения всех времен и народов и если бы забывали о людях,
которым адресуют свои творения? То же и в науке. При этом неизбежны научные
споры, но "ведь и спор тоже уже общение, а не одиночество;
62
также и нас здесь
столкновение мнений выведет на верную дорогу". Особую благодарность,
продолжал далее Гёте, заслужило книгопечатание, сделавшее возможным широкое
распространение идей, "но прекрасную пользу, а с ней и величайшее
удовлетворение приносит нам также живое общение с образованнейшими людьми, как
и душевность этого общения".
Уже на первом
заседании общества Гёте сделал сообщение о своих оптических опытах. Как того и
требовал устав, доклады на заседаниях общества отличались большим
разнообразием, однако собрания общества прекратились в 1797 году. Директор
гимназии Беттигер, впервые присоединившийся к обществу в ноябре 1791 года,
начал записывать все, что происходило на его заседаниях, и сделался таким
образом летописцем "Общества Пятницы". С полным на то основанием
отмечал Беттигер атмосферу непринужденности, царившую в обществе даже тогда,
когда на заседании присутствовали герцог и другие члены герцогского семейства.
По крайней мере здесь царило равноправие, и председательствующим мог быть
избран каждый. В 1795 году в своем докладе "О разнообразных аспектах
местной деятельности" Гёте дал компетентный обзор работы культурных и
научных учреждений герцогства: Веймар представлял сам себя.
В походе 1792 года
В 1792 и 1793 годах
Гёте снова пришлось покинуть Веймар на длительный срок. Герцог хотел, чтобы
поэт сопровождал его в австро-прусском походе против революционной Франции, а
также при осаде Майнца. Уезжать из Веймара на срок от начала августа до конца
октября 1792 года Гёте было не очень-то удобно. В самом разгаре были работы по
перестройке и оборудованию дома на Фрауэнплане, куда Гёте перебрался из своего
"охотничьего домика" в июне и где прожил до конца жизни. Однако с
ноября предыдущего года в доме семейства Гёте поселился швейцарский
искусствовед и художник Генрих Мейер. Он взял на себя хлопоты об устройстве
нового жилища, так что отсутствующий хозяин уже мог не тревожиться об этом.
Гёте познакомился с Мейером в Риме благодаря случаю. В 1786 году в День всех
святых поэт любовался во дворце Квиринале картиной, на которой был изображен
святой Георгий, побеждающий дракона. Никто,
63
однако, не мог ему
назвать имя художника, написавшего ее. "Тут выступил вперед скромный
человек, до сих пор хранивший молчание, и разъяснил мне, что передо мной — одно
из лучших произведений венецианского мастера Порденоне" ("Итальянское
путешествие", 3 ноября
Иоганн Генрих Мейер
родился в 1760 году в городе Стефа у Цюрихского озера. Рано выявились его
художественные способности, уже в родном городке мальчик учился рисованию, а в
1778—1781 годах продолжал обучение в Цюрихе у Иоганна Генриха Фюссли. Должно
быть, именно здесь он впервые услышал о Винкельмане, о его искусствоведческих и
теоретических трудах и примкнул к течению, превозносящему античность в
искусстве, ко всем тем, для кого не было ничего совершеннее творений древних,
описанных и истолкованных с заметной примесью идеализации этим пророком
неоклассицизма. В Риме Мейер самозабвенно изучал шедевры античных художников и
Рафаэля, каковые считал единственно значительными и ценными, увлеченно
занимался самообразованием и с трудом зарабатывал себе на жизнь продажей
рисунков, а также работой гида туристов-иностранцев. Все это время он
поддерживал тесную связь с колонией немецких художников, с которой был связан и
Гёте даже после своего отъезда из Италии. Первое письмо Мейера, адресованное
Гёте, датировано 22 июля 1788 года; это многостраничное послание отправлено из
Неаполя — Мейер сообщает в нем о разных художественных событиях, о своих
впечатлениях от поездки в Неаполь, описывает далее разные произведения
искусства и притом критически анализирует картину Тишбейна. А заканчивается
письмо просьбой и заверением: "Разрешите мне быть исполнителем всех мелких
поручений, которые Вы пожелали бы дать мне в любой точке Италии, где я могу
оказаться. При моей любви к Вам мне ничего не трудно для Вас сделать".
Это письмо можно
рассматривать как пролог к беседам и переписке, которые продолжались вплоть до
1832 года. Генрих Мейер, самоучка, обладавший даром острой наблюдательности,
сделался информатором, экспертом и советником Гёте в вопросах живописи и
скульптуры, скоро поэт уже не мог обходиться
64
без него, и они
остались на всю жизнь верными друзьями. Правда, швейцарец при всех
обстоятельствах строго и неуклонно придерживался раз и навсегда усвоенных
художественных норм: только античность и духовно связанное с ней Возрождение
породили истинное искусство; только они — мерило и образец. Однако в этих
пределах он проявлял тонкий вкус и разборчивость, вследствие чего Веймар
удостоил его уважительного, хоть и слегка насмешливого, титула "Кунстмейер"
(Kunstmeyer,
то есть "Мейер от
искусства").
21 августа 1789 года
Гёте послал ему письмо, которое решающим образом определило судьбу этого
человека. Гёте предлагал Мейеру еще два года пожить в Италии и обещал ему на
все это время материальную поддержку. А уж потом, писал Гёте, "приезжайте
к нам. О деньгах на дорогу я позабочусь, как и о том, чтобы Вы обрели здесь
такое положение, которое отвечало бы Вашей натуре. Большого жалованья я не могу
Вам обещать, но все необходимое вы будете иметь. [...] Коль скоро мы так
сблизились, то и должны шагать по жизни рядом".
В мае 1790 года
друзья снова встретились в Венеции; но Мейера потянуло на родину, и он
отправился в Стефу, где потом долго приходил в себя после болезни. Наконец в
ноябре 1791 года он прибыл в Веймар и поселился в мансарде гётевского дома, где
и прожил до 1802 года, когда наконец построил собственный дом. У него сложились
добрые отношения с Кристианой Вульпиус, и хозяин дома, отбывая в амплуа
наблюдателя в военный поход, мог уже меньше тревожиться за свою маленькую
семью.
В апреле 1792 года
гость написал картину, на которой изображена Кристиана с маленьким Августом на
руках. Картина по понятным причинам полюбилась Гёте, работа эта — откровенное
подражание Madonna della Sedia Рафаэля.
Стало быть, Генрих
Мейер, который в 1795 году сделался также профессором института живописи, по
договоренности с Гёте взял на себя заботы по отделке дома поэта на Фрауэнплане.
При этом в доме, естественно, возобладал римско-классический стиль. Жан Поль,
временами наезжавший в Веймар, как-то раз, "охваченный робостью",
впервые посетил этот дом, о чем впоследствии рассказал в письме Г. К. Отто от
18 июня 1796 года: "Его дом вызывает изумление — единственный в Веймаре
дом в итальянском вкусе,
65
с этакими
лестницами, целый пантеон картин и статуй, леденящий страх сжимает грудь".
Долгие годы друзья
продолжали собирать предметы искусства и копии известных шедевров, которыми
Гёте стремился себя окружить. Некоторые работы принадлежали также кисти самого
Мейера: так, он расписал лестничный плафон пятью цветами радуги согласно
"учению о цвете", выполнил картины над дверьми в комнатах Юноны и
Урбино, а также акварельную копию "Свадьбы Альдобрандино". Просторная
служебная квартира тайного советника предоставляла достаточно места и для жизни
семьи Гёте, и для его частных занятий и служебной деятельности, как и для
представительства, а также для размещения книг, научной аппаратуры и постоянно
растущего собрания минералов, монет, гравюр, гемм, скульптур. После совместного
похода и осады Майнца герцог подарил этот дом своему другу, а в 1807 году,
после военных неурядиц 1806 года, официально переписал его на имя Гёте (см.
письма Гёте Карлу Августу от 25 декабря
Война европейских
держав против французов, в которой Карл Август принял участие на правах
прусского "генерала-герцога веймарского", была войной за сохранение
монархического принципа правления. После неудавшегося бегства Людовика XVI Австрия и Пруссия в августе 1791 года в
Пилльницкой декларации сделали провокационное заявление: если к ним
присоединятся другие державы, они выступят в защиту "монархического
правительства, равно гарантирующего права суверена и интересы нации".
Одновременно Франц II
предъявил конкретные требования: Франция должна вернуть конфискованное ею в
Эльзасе имущество немецких князей и папы и провести у себя в стране реформы с
учетом существующего в европейских странах государственного устройства. В
апреле 1792 года французы объявили Австрии и Пруссии войну. Жирондисты были
рады этой войне еще и потому, что борьба против внешнего врага отвлекала народ
от внутренних трудностей и могла укрепить революционную солидарность.
Продвижение союзных
войск проходило довольно вяло. Карл Август в начале июня выступил со своим
полком, окруженный великолепной свитой — от тай-
66
ного секретаря до
кухонного персонала. Сюзерен выступал в поход на старый манер. Тем не менее он
был озабочен создавшимся положением больше других, уверенных в скорой победе
над соседней страной, переживавшей трудный процесс переустройства. Еще из
Ашерслебена герцог 29 апреля 1792 года писал своей матери: мол, только бы силы
небесные сохранили мир! Когда же войска по ту сторону границы стали быстро
продвигаться вперед, его тоже охватил воинственный пыл. Монарх крошечного
государства, еще не втянутого в войну, он нисколько не сомневался в
необходимости укротить французских революционеров, как и в важности этой
победы.
Гёте выехал к
герцогу несколькими месяцами позже. В августе он снова встретился со своей
матерью во Франкфурте и с ее помощью выслал Кристиане посылку с разного рода
"вещичками". В Майнце он встретил знакомых; кое-кто из них
придерживался совершенно иных политических взглядов, чем веймарский тайный
советник Гёте. Впоследствии в своей "Кампании во Франции" Гёте
напишет: "Два вечера провел я в приятном общении с Губерами, с
Земмерингами, Форстерами и прочими друзьями. [...] Благодушные шутки,
намекавшие на давние ученью дискуссии и философские потасовки, поддерживали в
нас безмятежное веселье. О политике мы не говорили. Все понимали, что нужно
щадить друг друга. Мои друзья не слишком скрывали свои республиканские
убеждения, а ведь я спешил пристать к союзной армии, которая как раз собиралась
покончить с такими умонастроениями и с вытекавшими из них последствиями"
(9, 244).
За этими фразами
стоит многое. Известно, что несколько месяцев спустя Георг Форстер решительно
перешел от идей к политическим действиям: он стал одним из руководителей
майнцских якобинцев. Посланный ими в Париж с предложением о присоединении
Майнца к Французской республике, он скоро умер там (в 1794 году), удрученный
жестокостями революции. Ученый и библиотекарь, состоявший на службе у
майнцского курфюрста, Форстер пытался осуществить создание республики на базе
демократии — задачу эту, плод многолетних критических наблюдений и раздумий, он
считал непреложной. Конечно, он понимал, что подобный переворот был
преждевременным для Германии, что и в Майнце были допущены кое-какие бездумные
и неуклюжие шаги, даже и в Париже
67
он не закрывал глаза
на противоречия между высокой теорией и отрезвляющей действительностью. И тем
не менее он писал жене 8 апреля 1793 года: "Я все еще твердо придерживаюсь
моих принципов, однако лишь редкие люди сохраняют им верность". А тремя
днями раньше в его письме прозвучал крик души: "Ты сделал наконец выбор —
все, что есть у тебя, даже жизнь, поставил на карту, и ты продолжаешь игру — до
выигрыша или проигрыша! Неужто только на словах умирать за принципы, а не на
деле?" В его работе "Революционные события в Майнце", оставшейся
в набросках, эти принципы отражены в серии вопросов и заключительном ответе:
"Значит, существуют две породы людей? Наглые властители и несчастные рабы?
И одни видят, чувствуют, страдают и наслаждаются иначе, чем другие? У одних
есть обязанности, а другие следуют лишь своему необузданному произволу? Разве
добродетель и справедливость, разум и истина существуют лишь для тиранов и
никогда — против них? Неужели природа мерит своих детей двойной меркой, а для
вас, о жертвы суровой жестокости, она выбирает фальшивую? Нет! Божество не
может так противоречить себе в своих деяниях" 1.
Форстер (1754—1794)
рано стал знаменитым в Европе благодаря своему "Путешествию вокруг света в
1772—1775 годах" — описанию второго кругосветного путешествия Джеймса
Кука, в котором участвовал, сопровождая своего отца. Он преподавал
естественнонаучные дисциплины в Касселе и Вильне, а с 1788 года занял должность
хранителя библиотеки в Майнце. Его объемистый путевой дневник "Очерки
Нижнего Рейна, Брабанта, Фландрии, Голландии, Англии и Франции в апреле, мае и
июне 1790 года" (1791— 1794) — образец немецкого эссе. Проницательный
наблюдатель, он метко охарактеризовал политические, культурные, экономические
условия увиденных им стран, однако ничто еще не выдавало в авторе этого очерка
убежденного якобинца, каким он стал вскоре. Гёте был знаком с этим почтенным
путешественником и натуралистом многие годы, дважды посещал его в Касселе: в
1779 и 1783 годах (в пору, когда работал над статьей о межчелюстной кости). В
1785 году Форстер приезжал в Веймар и навещал Гёте в его доме; следующий
контакт имел место лишь в 1791 году,
1 Немецкие демократы XVIII века. Шубарт. Форстер. Зёйме. М., 1956, с. 351.
68
когда Гёте получил
форстеровский перевод индийской драмы "Шакунтала" и послал ему через
общего друга Фрица Якоби восторженную эпиграмму (см. письмо к Фрицу Якоби от 1
июня
Спустя почти три
десятилетия из-под пера Гёте вышла "Кампания во Франции", но здесь мы
находим лишь шутливые замечания, пронизанные дружески-безмятежной интонацией.
Замечания эти не оскорбительны, хоть и не замалчивают разногласий; однако мы
ничего не узнаем из них об идейном пути и духовной эволюции Форстера. Слишком
чужда была Гёте последовательность и решительность интеллигента, ставшего
революционером, — он не мог ни понять ее, ни оценить по достоинству.
В маленькой карете,
подаренной ему герцогом и прозванной им "креслицем" — умелым возницей
ее был слуга поэта Пауль Гётце (который возил его в той же карете в Венецию и
Силезию), — Гёте ехал по скверным дорогам под нескончаемым дождем и нагнал
своего повелителя в прусском лагере под Лонгви. Обстрел и падение Вердена 2
сентября он наблюдал с самого близкого расстояния. Затем продвижение союзных
армий замедлилось. Гёте считал себя наблюдателем происходящего, в котором он не
принимал непосредственного участия; ни планировать каких-либо мер, ни
действовать он не должен был — такая роль его устраивала. 10 сентября, находясь
"у ворот Вердена", он писал своему коллеге Фойгту в Веймар:
"Необыкновенно интересно присутствовать там, где ничто из происходящего не
может оставить человека равнодушным. Возможность увидеть с близкого расстояния
военные действия под командованием такого крупного полководца и одновременно
лучше узнать французов — это ли не увлечет даже праздного наблюдателя! А на
основе происходящего пытаться предсказать то, что произойдет, при том временами
69
заглядывая в карту,
— прекрасное занятие для ума. Так много надо увидеть, что занятие затягивается
надолго".
Автор этих строк еще
верил в "эпоху нашего вступления в Париж"; для Кристианы, писал он,
он пришлет оттуда "всякой всячины" (из письма Кристиане Вульпиус от
10 сентября
70
Я читаю французских
писателей, каких в иное время и не узнал бы, и использую время как могу. Все
было бы по-другому при хорошей погоде: можно было бы многое предпринять, больше
людей видеть. А так день-деньской не покидаешь палатку".
Из Вердена Гёте 10
октября жаловался в письме к Фойгту: "За эти шесть недель мы перенесли и
увидели больше тягот, нужды, забот, бед и опасностей, чем за всю нашу
жизнь". К этому письму, адресованному члену веймарского тайного
консилиума, поэт сделал короткую приписку, содержащую трезвую, если не сказать
— безнадежную, оценку ситуации. Он-де огорчен тем, что "Тайный совет
поторопился объявить эту войну имперской войной. Мы (то есть Веймарское
герцогство, как тоже участвующее в военных действиях. — К.
К.), стало быть, вместе со
всем стадом мчимся к погибели". (Кстати, Карл Август не согласился с этим
предложением своего Совета и настаивал на дальнейшем обсуждении вопроса в
рейхстаге.) Далее в письме Гёте следует почти циничная фраза: "Европе
нужна тридцатилетняя война, чтобы она наконец поняла, что же предписывал ей
разум в 1792 году". Что же, на взгляд Гёте, предписывал разум? Об этом мы
можем только догадываться. Отвергал ли он теперь интервенцию европейских
монархов? Может быть, он считал: следовало стремиться лишь к тому, чтобы
революция не выходила за пределы Франции и ее искры не перекинулись в другие
страны? Так или иначе, эта фраза заключала в себе уничтожающий приговор
политике правящих кругов в 1792 году. Гётеведам, как и историкам, канонада под
Вальми памятна еще и потому, что в тот вечер 20 сентября 1792 года, в кругу
охваченных смятением офицеров, Гёте спросили, что же он думает о создавшемся
положении, и он будто бы пророчески сказал следующее: "Здесь и сегодня
начинается новая эра мировой истории, и вы можете сказать, что были тому
свидетелями". Никто, кроме самого Гёте, не упоминает об этом высказывании.
Почти через тридцать лет после того памятного вечера поэт сам процитировал себя
в очерке "Кампания во Франции". Эти воспоминания увидели свет в 1822
году вместе с заметками "Об осаде Майнца" в отдельном томе
автобиографических записок, которые автор сознательно связал с "Поэзией и
правдой". Артиллерийская дуэль при Вальми отнюдь не имела того решающего
значения для дальнейшего хода войны, тем более для "ми-
71
ровой истории",
какое приписывал ей Гёте в своих воспоминаниях. Остается неясным, почему в
своих автобиографических заметках Гёте привел это высказывание, которое
впоследствии многократно цитировалось. В 1820 году, работая над очерком
"Кампания во Франции", он ради оживления своих воспоминаний обращался
к свидетельствам и воспоминаниям других авторов, в том числе и к рукописному
дневнику камергера веймарского герцога, и к опубликованным в 1809 году воспоминаниям
барона фон Массенбаха, участвовавшего в кампании 1792 года в чине майора. В
1806 году — после поражения прусской армии под Йеной и Ауэрштедтом — против
барона, как обер-квартирмейстера герцога Гогенлоэ, были выдвинуты серьезные
обвинения. Возможно, Массенбах потому объявил день артиллерийской дуэли при
Вальми — 20 сентября 1792 года — "важнейшим днем столетия", что
стремился отвлечь внимание современников от сокрушительного поражения 14
октября 1806 года, предопределившего закат прусской армии. Не исключено, что
именно мемуары Массенбаха побудили Гёте сформулировать это свое высказывание,
которое, однако, может и должно быть отнесено лишь ко всему злосчастному
военному походу в целом.
Новеллистический
метод повествования в очерке "Кампания во Франции" обусловил
появление в нем коротких драматических сцен. Возможно, это обстоятельство ввело
автора поздних автобиографических заметок в искушение ошибочно придать одному
из частных эпизодов ("свершившееся неслыханное событие" — так позднее
определил новеллу Гёте в беседе с Эккерманом 29 января 1827 года. — Эккерман,
215 1) неадекватно глубокий
смысл. Настолько важное значение придавал этому своему высказыванию Гёте, что
впоследствии, теперь уже в "Осаде Майнца", вновь вложил его в уста
офицеров, якобы вспомнивших его "пророчество", — недаром
"французы в своем новом календаре ведут отсчет с этого дня". Однако
это поэтическое толкование не подтверждается историей. Введение нового
календаря во Франции с 22 сентября 1792 года, спустя два дня после Вальми,
всерьез никак не может быть связано со знаменитой канонадой, как, впрочем, и
решение об упразднении королевской власти, принятое 21 сентября.
1 В цитируемом издании высказывание Гёте ошибочно датируется 25 января. — Прим. ред.
72
Странным образом до
сей поры постоянно ссылаются на определенные строки из письма Гёте Кнебелю от
27 сентября 1792 года в доказательство того, что сразу же после Вальми поэт
осознал значение этого дня: "За этот месяц я многое узнал, этот образцовый
поход на долгое время дал мне пищу для размышлений. Я рад, что видел все
собственными глазами; в будущем, когда заговорят об этой важной эпохе, я по
праву смогу сказать: et quorum pars minima fui" 1.
Ho в этих фразах совершенно
иной смысл, чем в известном высказывании Гёте. Они относятся к "этому
образцовому походу" как таковому, подчеркивая чуть измененной литературной
цитатой (Вергилий, "Энеида") "стороннюю" позицию
наблюдателя. В "Энеиде" Эней, повествуя о страданиях Трои, уверяет,
что принимал самое большое участие в войне ("et quorum pars magna
fui"). Затем Гёте в этом
письме говорит только о себе — пророчество же его было обращено ко всем.
В 1820 году, когда
Гёте составил автобиографический очерк о своем участии в походе 1792 года и
осаде Майнца, он по-прежнему говорил о себе как о стороннем наблюдателе. Азарт
наступления не увлек и не захватил его. Уже в первом отрывке очерка,
датированном 23 августа 1792 года, содержится замечание: "Я не был так
озлоблен, как прочие, стремившиеся прорваться во Францию..." (9, 248).
Гёте описывал
обстоятельства, какими он их видел, и рассказывал о событиях, в которых
принимал участие. С большим мастерством Гёте скомпоновал этот очерк,
оглядываясь назад на давние события, на некогда увиденное и пережитое, и сделал
его литературным произведением. Сталкивая противоположности, он порой создавал
тревожные картины, словно бы задним числом смакуя странные контрасты тех лет; о
многих деталях он рассказывал так, что сразу раскрывалось их символическое
значение. Гёте вспоминал, например, "глубоко трагическую "сцену",
когда на глазах у беспомощно озиравшихся пастухов умерщвлялись отары овец. Или
другую — "французско-пейзанских, идиллически-гомеровских" нравов в
Сиври, хоть и находящемся во вражеской стране. В очерке ощущается и ирония
рассказчика; он сталкивает противоположности и многого недоговаривает: пусть
читатель сам догадывается о его отношении к
1 И я был того малой частицей (лат.).
73
происходящему. Гёте
писал: "...война — преддверие смерти — уравнивает всех людей" (9,
270), и тут же поведал, как случилось, что он "решил оставить свою карету
и четверку лошадей, отобранных по реквизиции", и сесть на коня, чтобы
верхом встретить непогоду и ветер. А вслед за этим (не без уместного здесь —
или неуместного — эмоционального перехода: "Блажен, чьей душою владеет
возвышенная страсть") он рассказал, как "феномен цвета",
открывшийся ему в воронке с родниковой водой, все время занимал его настолько,
что он тогда же "продиктовал Фогелю (он в этом путешествии проявил себя
исполнительным секретарем) конспект своих мыслей..." (9, 271), еще и
поныне на рукописи сохранились следы дождя.
Свои интересы
натуралиста, которым он продолжал отдаваться и в дни войны, поэт сознательно
противопоставлял военным событиям. Все то бессмысленное и ужасное, что ему довелось
увидеть, вызывало у него изумление и подавленность. Временами он сдабривал
повествование анекдотическими, новеллистически заостренными вставками; взять, к
примеру, хотя бы эпизод с маркитанткой, напоминающей брехтовскую матушку Кураж.
Никогда больше Гёте не подвергал себя, притом сознательно, такой опасности, как
во время этого похода. Он желал на собственном опыте испытать, что же
представляет собой пьянящее чувство "лихорадки боя"; он смотрел, как
рядом с ним падали ядра, и играл своей жизнью — если это действительно было так
(ни в одном письме об этом не говорится). Засим эффектно следует сцена
знаменитого гётевского "пророчества". Рассказ о наступлении, а затем
— об отступлении союзных войск Гёте многозначительно обрамляет заметками о
монументе близ Игеля 1 —
древнеримском памятнике. Долговечность этого монумента — творения древних
мастеров — воспринималась поэтом как своего рода залог постоянства бытия в
противоположность сумятице и невзгодам этих недель "невзрачной
действительности", в изображениях монумента властвовал дух античности, дух
"доподлинной жизни".
Разумеется, автор
автобиографического очерка, лишь условно сохраняя форму дневника, старался
следовать принципу, сформулированному им в эпилоге "Кампании во
Франции": "Напротив, писатель должен в силу его призвания быть и
оставаться беспри-
1 Сооружен ок.
74
страстным и
объективным, стремясь проникнуть в психологию, в образ мыслей и в суть
обстоятельств обеих сторон..." (9, 401).
Конечно, он
критиковал поведение многих французских эмигрантов, радовался стилю жизни
простых французов и сожалел об их участи. Но никогда он не оставлял сомнений
насчет того, на чьей стороне ему видится историческая правота. Главной бедой он
считал "происшедший во Франции злосчастный государственный
переворот", а "воодушевленная идеями революции масса населения",
если появится такая и на немецкой земле, должна быть излечена от этой
губительной заразы соответствующими усилиями правителей (в законности их власти
Гёте не сомневался), которые неизменно должны быть направлены на всеобщее
благо, на поддержание порядка и обеспечение спокойного развития страны. Решив
записать свои военные мемуары, Гёте изучил обширный документальный материал, но
в очерке даже бегло не стал упоминать противоречащие его собственным взглядам
политические воззрения радикальных демократов того времени, а напрасно —
декларированная непредвзятость позиции от этого бы лишь выиграла.
Отступление союзных
войск позволило французам продвинуться далеко на восток. Теперь революционные
войска требовали утверждения "естественных границ". Пали города
Шпеер, Вормс, Майнц. В октябре 1792 года был также оккупирован Франкфурт. Из
Люксембурга Гёте направился в Трир, где несколько дней наслаждался покоем и
заботливым уходом, что позволило ему привести в порядок и сберечь кое-что из
того, что было обработано поэтом в самое беспокойно-сумбурное время. "Я
частию выправлял, частию заново излагал мои хроматические заметки, изрядно
пополнил и уточнил мою таблицу цветов" (9, 331), — в том же очерке
сообщает Гёте. И там, в Трире, снова обратился к заметкам о монументе близ
Игеля, который произвел на него такое огромное впечатление еще в ту пору, когда
поэт ехал на фронт. В старости Гёте вторично описал его.
Через Пемпельфорт и Мюнстер — назад в Веймар
Гёте хотел вернуться
в Тюрингию через Франкфурт, Но этому помешало наступление французских войск.
Вместо этого последовало плавание по Мозелю и Рей-
75
ну в Дюссельдорф,
скрашенное впечатлениями от прекрасной окружающей природы, но также и
насыщенное разного рода приключениями и помехами. По прибытии в Дюссельдорф
Гёте тотчас выехал в Пемпельфорт к Якоби, где провел несколько недель (с 6
ноября по 4 декабря). Дружба Гёте с Фридрихом Генрихом Якоби знала в прошлом
взлеты и падения, и эти недели стали приятным интермеццо в их отношениях,
отмеченных сердечной близостью и взаимной терпимостью. После долгих недель
войны потянулись спокойные дни нескончаемых бесед, неторопливого обмена
суждениями по вопросам литературы, искусства и философии, и притом с неизменным
вниманием к личным особенностям собеседника. Забыта была злая выходка Гёте: в
1779 году в парке Эттерсберг, раздраженный назойливой сентиментальностью и
кокетливым прекраснодушием Якоби как автора романа "Вольдемар", поэт
прибил эту книгу к стволу дуба. Якоби пришел от этого поступка в негодование,
но Гёте только в 1782 году попросил у него прощения. В 1784 году Якоби посетил
Веймар. В 1785 году друзья обменялись своими — весьма различными — мнениями о
Спинозе. Это было еще до итальянского путешествия. А теперь, в 1792 году, за
плечами гостя, прибывшего с театра военных действий в гостеприимный приют муз и
философии в Пемпельфорте, лежали годы впечатляющих событий.
"Я много лет не
встречался с моими друзьями. Они оставались верны раз избранному пути, тогда
как мне выпал жребий пройти через целый ряд искушений и испытаний и множество
разнородных видов деятельности, так что я, ни в чем не изменяя своей сути, все
же стал совсем другим человеком, давним друзьям моим ничуть не знакомым"
(9, 352) — так охарактеризовал Гёте эту особую ситуацию в "Необходимом
отступлении" ("Кампания во Франции"). Далее следует рассказ о
неделях, проведенных в Дюссельдорфе; было очевидно, что поэту навсегда
запомнился дом Якоби — "гостеприимнейший из домов". Но из этого
рассказа уже видно, что в пору, когда старый Гёте диктовал свои воспоминания,
взаимопонимание с другом былых лет давно сделалось невозможным. После появления
в 1811 году труда Якоби "О божественных предметах и их откровении", в
котором проводилось строгое разграничение между Природой и Богом, как
существом, которое дано узнать лишь в сверхъестественных проявлениях,
расхождения во
76
взглядах между Гёте
и Якоби уже невозможно было примирить. Но по крайней мере сохранилось взаимное
уважение и бережное отношение друг к другу. Сразу же после отъезда из
Дюссельдорфа в 1792 году Гёте написал Якоби письмо, в котором еще звучала такая
интонация: "Твой образ и образы твоих близких, которые я увожу с собой,
неизгладимы в памяти моей, а зрелость нашей дружбы для меня высшая услада"
(письмо от 10 декабря
1 У Конради "Путешествие сыновей Мегапрацона". — Прим. ред.
77
единственного
мнения, которое торчит у них в голове, "словно ось, вокруг которой
вертится слепое безумие". Также и острова, возникающие в романе, и
различные условия жизни на них читатель мог бы сопоставить с реалиями своего
времени. И Гёте скоро заметил, что в этом жанре назидательно-сатирической и
вместе с тем развлекательной литературы не может добиться успеха.
Скоро Гёте
направился дальше на север — в Мюнстер (в Вестфалии) и по пути заглянул к тому
самому Фридриху Виктору Леберехту Плессингу, с которым познакомился в
Вернигероде в 1777 году, когда путешествовал по Гарцу. Теперь Плессинг, в
звании профессора, преподавал философию в Дуйсбурге. Разумеется, тогдашний
визит к Плессингу — достаточный повод, чтобы теперь включить в
"Кампанию" рассказ об истоках загадочного стихотворения:
Но кто там бредет?
Исчезает в чащобе тропа...
(Перевод Е. Витковского — 9, 369)
В Мюнстере Гёте посетил
нескольких знакомых, католическую веру которых он никоим образом не разделял,
однако они произвели на него большое впечатление своим совершенно особенным
благочестием и достойной жизненной позицией. Среди них был Франц фон
Фюрстенберг, в прошлом министр Кёльнского архиепископа и курфюршества в
Мюнстерской округе, известный как просвещенный церковник своего времени. Он
энергично добивался реформы системы народного образования и тем самым —
улучшения экономического и политического положения страны. Общественность
высоко оценила его усилия по созданию нового распорядка школьного обучения, а в
1773 году его трудами был основан Мюнстерский университет. От нидерландского
философа Франса Гемстергейса об этом узнала княгиня Амалия Голицына, супруга
русского посла в Нидерландах. Пережив разочарование в браке, она в 1780 году
уехала в Вестфалию, чтобы там продолжить образование двух своих детей.
Мюнстерский кружок, сознательно избравший своим кредо католическую веру, при
всем том стремился также не порывать связи с людьми, придерживавшимися иных
убеждений. Терпимость считалась необходимым элементом католического гуманизма,
но все же мюнстерцы не мирились с мыслью,
78
что всякому читателю
должна быть доступна любая книга. Главный викарий фон Фюрстенберг в 1802 году
запретил ряд изданий, которые с позиций католицизма считал вредными, в их числе
"Римские элегии" и "Рейнеке-лис" (в то время как сцены из
"Ифигении" были включены в школьную хрестоматию). Одно слово —
цензура, какая случалась в те времена и в других местах.
Хорошие
взаимоотношения установились у мюнстерцев с Фридрихом Якоби из Дюссельдорфа,
который в свою очередь поддерживал контакты с Веймаром — с Гаманом, Матиасом
Клаудиусом и эмкендорферовским кружком в Голштинии. Известную роль в этом
сближении сыграл культ дружбы, процветавший в XVIII веке и позволявший также передавать письма
друзей третьим лицам и таким образом заводить новые дружеские связи. В сентябре
1785 года княгиня Голицына вместе с Францем фон Фюрстенбергом и Франсом Гемстергейсом
посетила Веймар. Однако знакомство с Гёте благополучно развилось лишь после
преодоления начальных трудностей. "Между Голицыной и нами как-то не
складываются отношения. Право, не знаю, может, ей среди нас не место. С
мужчинами дело обстоит несколько лучше. [...] Но пусть уж все идет, как идет,
не будем забегать вперед. В конце концов увидим, что из этого выйдет", —
писал Гёте Шарлотте фон Штейн 21—22 сентября 1785 года. Вскоре, однако, уже в
письме от 26 сентября, Гёте мог сообщить Якоби: "Под конец все у нас
сладилось, и я был бы рад, если бы это продлилось еще недели две". В своем
очерке "Кампания во Франции" Гёте выразительно описал эти дни своего
пребывания в Мюнстере (с 7 по 10 декабря 1792 года): "Говорить о духовной жизни
княгини нельзя без искренней любви и благоговения. Она рано постигла умом и
сердцем, что высшее светское общество нам ничего дать не может, что надо уйти в
себя, в свой сокровенный внутренний мир, чтобы вместе с кругом ближайших
единомышленников проникнуть в смысл времени и вечности. Эта двойная задача
всегда ею владела. Высшей идеей, выдвинутой ее временем, она почитала возврат к
природе; здесь нельзя не вспомнить о максимах Руссо касательно гражданской
жизни и воспитания детей. [...] Так обстояло дело с преходящим временем; что же
касается вечности, бытия извечно грядущего, то княгиня без труда проникала в
эту выспреннюю сферу с помощью присущего ей
79
религиозного
чувства, которое свято подтверждало и твердо обещало все то, чему нас учит и на
что призывает нас уповать догматическое вероучение. [...] Роль прекрасной
посредницы между этими двумя мирами исполняла благотворительность — кроткое
порождение сурового аскетизма. Жизнь княгини и людей ее круга была сплошь
заполнена религиозными упражнениями и добрыми делами" (9, 378).
О Франсе
Гемстергейсе, друге княгини Голицыной, умершем в 1790 году, поэт вспоминает
здесь в выражениях, показывающих сходство и различие в восприятии прекрасного у
голландского философа и у Гёте: если у Гемстергейса это восприятие чисто
созерцательное, то поэта прекрасное вдохновляет на собственное творчество:
"Прекрасное и та радость, которая от него исходит, — так говорил
Гемстергейс, — объясняется тем, что оно, прекрасное, дает нам возможность
отчетливо видеть и постигать в едином мире великое множество представлений. Я
бы выразился иначе: прекрасным мы признаем то, когда видим закономерно
возникшее порождение жизни в состоянии величайшего напряжения всех ее
творческих сил, а значит, и в ее совершенстве. Порываясь ее воспроизвести, мы и
сами ощущаем в себе полноту жизни и прилив высокой дееспособности. По сути,
здесь высказывается — и им и мною — одна и та же мысль, только что разными
людьми" (9, 380).
Само собой, в
мюнстерском кружке много говорили о Гамане, этом "северном маге".
Ведь могила покойного, скончавшегося здесь в 1788 году в доме княгини,
находилась в уголке сада Голицыной, по осени стоявшего без листьев. Как
лютеранин, Гаман не мог быть похоронен на церковном кладбище в Мюнстере; во
избежание осложнений католичка Амалия Голицына позаботилась о вечном приюте для
него в своей усадьбе.
При всех их
расхождениях в вопросах веры собеседники упорно избегали резких споров.
Напротив, они старались по достоинству оценить разные формы человеческого
самоосуществления, направленные на поддержку и поощрение всего того, что на
благо, на пользу людям. На базе вот такого гуманизма можно было сблизиться и,
пожалуй, даже понять друг друга, не разделяя, однако, ни веры, ни взглядов
другой стороны. После дней, проведенных в "Мюнстерском кружке", Гёте
говорил, что его неизменно влечет к тем истинно католическим натурам, которые
находят удов-
80
летворение в твердой
вере своей и надежде, живут в мире с собой и с другими и творят добро не в силу
каких-то соображений, а лишь потому, что это само собой разумеется и этого
хочет бог. Поэт всегда относился к таким натурам с глубоким уважением, но чуть
ли не впервые в жизни испытал это чувство при знакомстве с княгиней Голицыной и
кругом ее друзей.
И все же не стоит
замалчивать расхождения. В дни пребывания в Мюнстере в 1792 году Гёте сумел
отлично приспособиться к обстоятельствам. Например, он так увлеченно описал
праздник тела господня в Риме, "что некоторые слушатели этого рассказа
тихо спрашивали, не католик ли Гёте" (из письма Ф. Якоби к Гёте от 7
апреля
Поползли сплетни,
что Гёте сознательно прикидывается набожным, но княгиня Голицына благородно
смягчила эти толки, заявив, что в поведении гостя усматривает лишь "мягкую
деликатность", которую ей никак не хотелось бы называть притворством (из
письма княгини к Гёте от 23 января
Впоследствии в
"Кампании во Франции" он так обрисовал свое прощание с Мюнстером:
"Мы затронули во время последней нашей беседы и важнейшие вопросы
касательно смысла жизни, а также наших религиозных убеждений. Я — кротко и
миролюбиво повторив мой давний символ веры, она — высказав надежду встретиться
со мной, если не здесь, на земле, так в потустороннем мире" (9, 387). Это
сформулировано очень осторожно. Зато его высказывания тех лет совершенно
недвусмысленны. Веру в Иисуса он называл "сказкой о Христе" (из
письма к Гердеру от 4 сентября
81
деса
противопоставлял свое "решительное язычество" (из письма Ф. Якоби от
7 июля
У ворот Майнца
В декабре Гёте снова
вернулся в Веймар. Отсюда ему пришлось тотчас же сообщить матери во Франкфурт
свое решение по важному личному вопросу. Дело в том, что во Франкфурте умер
дядя Гёте — главный судья Текстор — и поэту предложили занять в своем родном
городе должность члена городского совета. Госпожа фон Гёте сообщила сыну об
этом в своем письме, которое застало его "в сумятице войны". 24
декабря 1792 года Гёте в ответном письме матери сформулировал свой отказ:
веймарский герцог столько лет жаловал его своим расположением, что со стороны
поэта было бы "величайшей неблагодарностью покинуть свой пост теперь,
когда государство особенно нуждается в верных слугах" (XII, 367). Таким образом, Гёте вторично сделал
выбор в пользу Веймара.
В 1817 году он
отказался также от своего франкфуртского права гражданства, на сей раз из
соображений финансового порядка. После Венского конгресса разрешили вывоз
имущества из города без уплаты так называемого "десятого пфеннига" —
при условии отказа от городского гражданства. Не надо было в таком случае
платить и подоходный налог, введенный незадолго до этого. А ведь начиная с 1806
года Гёте и без того вынужден был вносить крупные суммы. По форме Франкфурт
корректно реагировал на заявление своего прославленного гражданина, живущего в
Тюрингии, но в чисто юридическом смысле повел
82
себя холодно и
отчужденно, а чуть позже городской совет не преминул придраться к нему по
одному ипотечному делу. Франкфуртцы долго не могли простить "самому
великому своему сыну" этот его отказ от права гражданства. Не удостоили
они его и звания почетного гражданина города, а в 1829 году, раздраженный
долгими проволочками и нанесенными ему обидами, он уже не захотел его от них
принять. Городскому архитектору Гиолетту памятник был установлен раньше, чем
поэту Гёте, правда, он и не хотел, чтобы его подобным образом увековечили при
жизни. Только в 1844 году, по проекту Людвига фон Шванталера, отчасти на
пожертвования франкфуртских бюргеров, был наконец сооружен памятник Гёте на
площади, также названной его именем — именем поэта, который прожил в родном
городе всего-навсего двадцать лет и впоследствии редко посещал его. На широком
кубическом пьедестале, украшенном аллегорическими и иными сценами из
произведений Гёте, возвышается помпезная, внушающая робость массивная фигура
"олимпийца" в развевающейся одежде, с пергаментным свитком в правой
руке и лавровым венком — в левой. Теперь этот памятник, будто некое реликтовое
сооружение, стоит у сквера Галлуса.
Летом 1793 года Гёте
снова три месяца (с 12 мая до 22 августа) был в пути. Герцог вызвал его к месту
боев у осажденного Майнца. Гётевский очерк "Осада Майнца" гораздо
строже, чем "Кампания во Франции", хранит форму дневника, то есть
форму рассказа, ограничивающегося ключевыми словами и беглыми пояснениями.
Вместе с тем старый мемуарист воскресил в своей памяти отдельные эпизоды
блокады и последующих дней. Особенно ярко описал он вступление в город союзных
войск после капитуляции Майнца и уход побежденных. Гёте рассказывает, как после
поворота событий он помешал противникам майнцских республиканцев учинить
самосуд над предполагаемыми или действительными членами и приверженцами
Якобинского клуба. Когда его с удивлением спросили, почему он так поступил,
Гёте ответил: "Такой у меня характер: лучше уж допущу несправедливость,
чем потерплю беспорядок". Каким бы гуманным ни казался поступок Гёте,
совершенный в частном порядке, все же это его заявление, столь охотно
цитируемое, не столь однозначно, как может показаться на первый взгляд. Нельзя не
задуматься над тем,
83
как сочетаются в нем
справедливость с несправедливостью. А относится эта фраза к одному эпизоду,
несколькими страницами раньше, в котором Гёте сурово осадил жителя Майнца,
сначала эмигрировавшего из города, а ныне возвратившегося назад и грозившегося
"добиться смерти и погибели оставшихся членов клуба". "Наказание
виновных — дело высших союзных властей, а также законного здешнего властелина
по возвращении его на место". Поэту и в голову не пришло, что право может
быть и на стороне майнцских якобинцев, а "законному властелину",
абсолютистскому государю, отнюдь не принадлежит право вынесения приговора якобы
во имя справедливости. Во всяком случае, Георг Форстер считал сбежавшего
курфюрста Майнцского, умевшего жить, как подобает истинному феодалу, одним из
тех "наглых властителей", чье господство побудило его сформулировать
принципиальный вопрос: "Разве добродетель и справедливость, разум и истина
существуют лишь для тиранов и никогда — против них?" ("Революционные события
в Майнце"). Впрочем, одно из писем Гёте, отосланное из Майнца 27 июля 1793
года Ф. Г. Якоби, противоречит версии, впоследствии изложенной поэтом в своих
мемуарах: он-де сопротивлялся жестокости и ненавидел ее. В первый день
отступления, писал Гёте в 1793 году из Майнца, многим якобинцам еще удалось
уйти.
"Однако уже
вечером бюргеры прислали список тех, кто собирался на другое утро покинуть
город вместе с вторым эшелоном отступающих французов, и потребовали их ареста.
Это и было выполнено специальной командой — клубистов вывели из колонны
отступающих, и французы никак этому не воспротивились. Народ бежал по улицам;
хватали тех, кто еще оставался в городе, грабили... То, что их судьба словно бы
оказалась отданной на волю случая и ареста их добивались снизу, на мой взгляд,
хорошо. Большое зло содеяли эти люди. А то, что французы покинули их, — уж это
в порядке вещей и должно послужить уроком беспокойному народу".
Одно лишь общее
находим мы в письме и в более позднем очерке: вся вина, на взгляд Гёте, лежит
на французах и майнцских якобинцах.
Нам же сегодня
пристало вспомнить эту короткую фазу существования Майнцской республики в 1793
году, неудавшуюся попытку — впервые на немецкой земле — осуществить суверенитет
народа и основать
84
демократическое
сообщество. Попытка не удалась не только потому, что Майнц отвоевали назад у
французов. Существовала и другая причина: большинство населения, живя в
осажденном городе и не зная, каков будет исход военного конфликта, не было
склонно сочувствовать новому общественному устройству. Правда, 23 октября 1792
года возникло "Общество друзей свободы и равенства", но его
разъяснительная работа увенчалась лишь скромным успехом. В выборах в
учредительное собрание, состоявшихся 26 февраля 1793 года — первых выборах на
немецкой земле, проходивших на основе буржуазно-демократических принципов, —
участвовало всего лишь 13 процентов избирателей. Тем не менее 17 марта собрался
"Национальный конвент свободных немцев по эту сторону Рейна" и
провозгласил область между Ландау, Бингеном и Майнцем "свободным, независимым
и неделимым государством". Вскоре после этого было принято решение о
присоединении к Французской республике. Расценить вотум как
"сепаратистский" может лишь тот, кто подчиняет идею свободы
национальным соображениям. Только две недели просуществовала независимая
Майнцская республика. 30 марта Франция подтвердила присоединение, а 23 июня
1793 года город был взят монархистскими войсками. Так завершилась вся эта
трудная, насыщенная противоречиями республиканская интермедия в Майнце. В 1797
году французы снова вступили в город, при желании эмигрировавшие якобинцы могли
вернуться назад, но господство Директории в Париже и растущая власть Наполеона
создали новую ситуацию: отныне короткая жизнь майнцского демократического
эксперимента могла вспоминаться только как эпизод. И эпизод был забыт.
Понадобилась в наши дни пьеса Рольфа Шнайдера (а в науке между тем изучение
истории якобинцев уже заняло свое место), чтобы воскресить в памяти жителей
нынешней столицы земли Рейнланд-Пфальц, да и многих других, ранние демократические
устремления их предков: воспоминания эти попросту вытеснены из немецкого
исторического сознания. Драма Шнайдера "Майнцская республика" (1980)
вместе с тем, конечно, еще и дидактическая пьеса; она учит: демократию нельзя
насаждать насильно; если демократия хочет быть убедительной, она не должна
нарушать собственные принципы.
Даже во время
событий в Майнце Гёте продолжал свои собственные занятия. Из лагеря под
Мариенбор-
85
ном он 24 июля
послал Якоби "Учение о цветных тенях". Была у него с собой и поэма
"Рейнеке-лис", и Гёте продолжал работу по улучшению текста. "Я
теперь почти не покидаю палатку, правлю "Рейнеке" и пишу заметки об
оптике" (из письма Гердеру от 15 июня
С этим шестистопным
размером, допускавшим различную "начинку" между ударными слогами,
Гёте обращался весьма вольно, что шокировало стиховедов, требовавших соблюдения
правил древних языков (основывающихся на совершенно иных принципах) также и в
немецком гекзаметре. Фосс издал в 1781 году свой перевод "Одиссеи", а
в предисловии к переложению "Georgica" Вергилия, вышедшем в 1789 году, уточнил
правила пользования гекзаметром. Гёте хоть и изрядно покорпел над этими
теоретическими
86
указаниями, однако
никак не мог применить их на деле и, к счастью, не стал с ними считаться в
работе над "Рейнеке-лисом". Рассуждения Фосса, при всей его
добросовестности и серьезности, казались Гёте "сивилловыми темнотами"
(9,400) — в этом по крайней мере Гёте признавался еще в "Кампании во
Франции".
Из четырех книг
оригинала с их 7000 попарно рифмованных строк, написанных "ломаным
стихом", Гёте создал в своем переложении двенадцать "песен",
насчитывающих 3412 строк гекзаметра. Глубоко верным было и остается суждение о
гётевской поэме Вильгельма Гумбольдта: "В деталях он почти ничего не
изменил, сплошь и рядом употреблял те же слова, и все же в целом его трудами
что-то решительно изменилось. А именно — собственно поэтическая форма, каковая
взывает к воображению читателя, пробуждая его эстетическое чувство, — эта форма
принадлежит поэту, и только ему. [...] Какими средствами Гёте этого достиг,
определить трудно, и, читая некоторые места, я тщетно пытался доискаться
истины. Стихотворный размер, приближающий поэму к греческим образцам, играет
большую роль, но, поскольку Гёте обращается с ним столь вольно и легко, роль
эта опять же умаляется. Главное, по-видимому, кроется в языке, в структуре
периодов, наконец и прежде всего — в манере гения, которую невозможно вычленить
из целого и определить словами" (из письма к Шиллеру от 27 февраля
Даже простое
сопоставление нескольких начальных строк нижненемецкого "Reinke de
vos", прозаического
изложения Готшеда и гётевского пересказа позволяет оценить поэтическую силу,
формирующую новый поэтический вариант "Рейнеке-лиса".
"Рейнеке-лис"
(нижненемецкий текст, XV век):
То было в Троицу весной,
Все засветилось новизной,
Леса и долы зазеленели,
Птицы запели, ручьи зазвенели.
Приправлен запахом растений
Был пленительный воздух весенний.
Погода дивною была:
День лучезарен, даль светла.
Нобель — могучий король зверей —
Велит свой двор созывать скорей.
По всей земле рассылает гонцов,
87
Скликает вассалов со всех концов.
Много прибыло народа —
Особы княжеского рода,
Которые известны нам
По славным, доблестным именам :
Лютке — журавль, Маркварт — сойка.
Кричат, воркуют, щебечут бойко.
(Перевод Л. Гинзбурга 1)
Готшед:
"Это было в
Троицын день, когда леса и поля украсились листвой и травами и с деревьев,
кустов доносилось веселое пенье птиц. Повсюду цвели, отменно благоухая, цветы и
травы. Ясный день принес прекрасную погоду. Тут-то Нобель, король всех зверей,
собрал свой двор и повелел кликнуть клич по всей стране, чтобы все поспешили к
нему. Тут примчались в большом числе почтенные господа, со своей пышной свитой
каждый, да еще несметная рать гордых юнкеров — Лютке-журавль, Маркварт-сойка и
многие другие".
Гёте:
Троицын день, умилительный праздник настал. Зеленели
Поле и лес. На горах и пригорках, в кустах, на оградах,
Песню веселую вновь завели голосистые птицы.
В благоуханных долинах луга запестрели цветами,
Празднично небо сияло, земля разукрасилась ярко.
Нобель-король созывает свой двор, и на зов королевский
Мчатся во всем своем блеске вассалы его. Прибывает
Много сановных особ из подвластных краев и окраин:
Лютке-журавль и союшка Маркварт — вся знать родовая.
(Перевод Л. Пеньковского — 5, 419)
Изворотливо,
хитроумно, дерзко и нахально уклоняется Рейнеке-лис от всех обвинений,
преследований и приговоров, беззастенчиво, с коварным лукавством отстаивает он
свои интересы. В конце концов он становится "канцлером королевства"
при короле зверей. Но и все прочие звери — отнюдь не невинные овечки. Перед
нами — "несвященная всемирная би-
1 Цит. по: Рейнеке-лис. Поэма XV века. В переводе Льва Гинзбурга. М., 1978, с. 11—12. — Сопоставляя тексты "Рейнеке-лиса" в переводе на современный русский язык, читатель должен помнить, что в оригинале разница в языке гораздо более значительна. Л. Гинзбург, в частности, не только не пытается подчеркнуть архаичный язык XV века, но всячески модернизирует его, приспосабливая к своему читателю. — Прим. ред.
88
блия" (как
назвал свой эпос сам Гёте в "Анналах" за
Много веков подряд в
народе рассказывались истории о Рейнеке-лисе, в аллегорической форме
содержавшие критику нравов и нравственный урок. Все, что разыгрывается здесь
среди зверей, может быть приложено ко многим общественным явлениям и
человеческим поступкам. Все, что происходит при дворе царя зверей Нобеля,
воспринимается как отражение событий при дворах королей и разного рода
властителей в человеческом обществе. В гётевском пересказе не найдешь прямых
намеков на этот счет, морализирующих сентенций. В условиях послереволюционной
действительности старый эпос воспринимается Гёте как некая хрестоматия
человеческого несовершенства; эту хрестоматию он с удовольствием перелистывал и
переписывал заново:
"Ибо если и
здесь род человеческий выступает в своей нелицемерной сути и тут отсутствуют
образцовые нравы и порядки, зато здесь все протекает весело до цинизма и добрый
юмор нигде не в загоне" (9, 400).
Поэма
"Рейнеке-лис" была впервые опубликована в 1794 году, во втором томе
"Новых сочинений". Она хорошо сочеталась с другими произведениями
Гёте "революционного периода". В ней можно найти критику дурного
управления государством, равно как и критику революционных идей, кое-кому
вскруживших голову. О последнем свидетельствуют некоторые строки стихов, из
каких, однако, можно вычитать и осуждение тех, кто в роковой слепоте упивается
своей властью:
Я возмущаюсь особенно тем заблужденьем тщеславья,
Коим охвачены люди: мол, каждый из них, опьяненный
Буйным желаньем, способен править судьбою вселенной.
Ты бы жену и детей содержать научился в порядке,
Дерзкую челядь приструнь, и, покуда глупцы достоянья
Будут проматывать, ты насладишься умеренной жизнью.
Как же исправится мир, если каждый себе позволяет
Все что угодно и хочет другим навязать свою волю?
Так мы все глубже и глубже в безвыходном зле погрязаем:
Сплетни, ложь, оговоры, предательство, и лжеприсяга,
И воровство, и грабеж, и разбой — лишь об этом и слышишь,
Всюду ханжи, лжепропроки народ надувают безбожно.
(Перевод Л. Пеньковского — 5, 482—483)
89
Заключительные
строки поэмы, имитируя и пародируя старинную назидательную интонацию,
провозглашают доморощенную мудрость, обладающую весомой ценностью. Этим напутствием
автор прощается с читателями, словно бы лукаво подмигнув им при расставании:
знает ведь он, что не так уж легко обрести истинную "мудрость" и
всякий раз отличать "зло" от "добра".
Так вот возвысился Рейнеке! Да поспешит обратиться
К мудрости каждый, и зла избегает, и чтит добродетель!
Вот вся мораль этой песни, в которой смешал стихотворец
Вымысел с истиной, чтобы вы зло от добра отличали,
Чтобы ценили вы мудрость, чтоб мог покупатель сей книги
Мира исконный порядок по ней изучать ежедневно.
Ибо уж так повелось и, видимо, так и пребудет,
Тем и закончить приходится повесть о Рейнеке-лисе.
О многохлопотной жизни его и деяниях мудрых.
Нам же, господь, ниспошли благодать свою вечную! Amen!
(Перевод Л. Пеньковского — 5, 530—531)
Как и на пути к войскам,
осаждавшим Майнц, так и на обратном пути Гёте провел несколько дней у матери во
Франкфурте, оставленном французами еще в конце 1792 года. В августе мать и сын
обсуждали вопрос о продаже дома, каковую Гёте советовал ей совершить. Мать,
однако, в письме от 6 сентября 1793 года отвечала: "Не будем спешить с
таким важным делом". В дальнейшем была сделана опись библиотеки Гёте-отца,
но мать, со свойственной ей энергией, позаботилась также о выгодной продаже
больших запасов вина: "Если мне удастся выручить за весь винный погреб
10000 франков, я с охотой все отдам — поглядим, что из этого выйдет, но
избавиться от вина необходимо" (из письма к Гёте от 7 января
90
Из старых винных
запасов мать прислала сыну в подарок особо подобранный набор, а также 1000
гульденов, вырученных от продажи вина. Но в целом своим наследникам мать могла
оставить лишь половину прежнего отцовского состояния, остальное было уже
прожито. Вольфганг получил в наследство 22252 гульдена.
91
СОЮЗ С ШИЛЛЕРОМ
Счастливое событие
1794 год стал годом
начала интенсивного духовного общения и литературного содружества Гёте и
Шиллера. Около шести лет прошло с того дня — 7 сентября 1788 года, — когда в доме
Ленгефельдов в Рудольштадте состоялось беглое знакомство обоих поэтов. Адепт
"Бури и натиска", каковым поначалу казался автору "Вертера"
автор "Разбойников", к тому же моложе его на десять лет, вызывал у
"веймарского" Гёте чувство настороженности. Точно так же и все
последующие драмы, вплоть до "Дона Карлоса", нисколько не расположили
его к Шиллеру. Итак, на протяжении многих лет Гёте сознательно старался
держаться подальше от автора, чьи "странные порождения фантазии"
чересчур живо напоминали ему то бурное время его собственной молодости, которое
ныне уже отошло для него в прошлое. Когда Гёте вернулся из Италии, Шиллер уже
жил в Веймаре, и притом с июля 1787 года, однако в ту пору сближения между ними
не произошло. Правда, Гёте способствовал назначению Шиллера профессором истории
в Йенский университет, и в мае 1789 года Шиллер переселился в Йену, но поэты
по-прежнему оставались чужими друг другу. Лишь изредка встречались они то тут,
то там, но ничего от этого не менялось.
А ведь Шиллер
впервые увидел прославленного автора "Гёца" и "Вертера" еще
в декабре 1779 года, когда веймарский герцог на обратном пути из Швейцарии
вместе со своей свитой посетил штутгартскую Карлову школу.
Странное сочетание:
двадцатилетний ученик Воен-
92
ной академии, впереди
у которого в ту пору еще были и побег из-под ига вюртембергского герцога, и
вереница беспокойных лет, — и тайный советник, прочно обосновавшийся в жизни
(по крайней мере так казалось). Впоследствии, начиная
с 1787 года, как в веймарский, так и позднее в йенский период, Шиллеру не раз
случалось высказываться о Гёте, и всякий раз в его высказываниях слышались то
восхищение и зависть, то резкое неприятие, но иной раз и затаенное стремление
расположить знаменитого собрата к себе. Шиллер иронически отзывался о том
духовном влиянии, которому Гёте подчинил всех, кто причислял себя к его кружку.
Всем им, мол, присуще "высокомерное философическое презрение ко всякого
рода умозрению", благоговение перед своими пятью чувствами. "Они
предпочитают собирать травы и заниматься минералогией, нежели путаться в
пустопорожних мыслях" 1. Так
писал Шиллер, побывав в саду Гёте, в ту пору, когда его владелец находился в
Италии, а жил в его доме Кнебель (из письма к Кернеру от 12 августа
Образ Гёте и
привлекал, и отталкивал Шиллера, вот только равнодушия не мог выработать в себе
автор "Разбойников" к столь глубоко почитаемому им старшему собрату
по перу:
"У Вас сейчас
Гёте. Мне не терпится его увидеть", — писал он Риделю 7 июля 1788 года.
"Частое
пребывание в окружении Гёте сделало бы меня несчастным... Я и правда полагаю,
что он необыкновенно эгоистичен... Людям не следовало бы допускать в свой круг
человека с таким характером. И этим он ненавистен мне, хотя я с самого начала
от всего сердца возлюбил его дух и считаю его великим человеком" (письмо
Кернеру от 2 февраля
"Ничего не
поделаешь, этот человек, этот Гёте,
1 Шиллeр Ф. Собрание сочинений в семи томах. М., ГИХЛ, 1955—1957. Т. 7, с. 127. — В дальнейшем ссылки на это издание даются сокращенно: Шиллер, с указанием тома и страницы арабскими цифрами. — Прим. ред.
стоит мне поперек
дороги, и он часто напоминает мне, как круто судьба обошлась со мной. Как легко
был вознесен его гений судьбой, а я до этой самой минуты все еще должен
бороться!" (письмо Кернеру от 9 марта
Да, многим из его
современников Гёте казался странно отчужденным, холодным, чопорным, гордым, эгоистичным,
замкнутым человеком, скрывающим свою истинную сущность, — словом, загадочной
натурой. В действительности же сам Гёте, особенно в послеитальянский период,
мнил себя не понятым никем, он страдал от своей изоляции, но при том еще больше
усугублял ее этой мучительной убежденностью, что никто его не понимает. Порой
он скрывался за масками, за ролями, которые обеспечивало ему его положение
уважаемого писателя, к тому же тайного советника, возведенного в дворянское
звание. Возможно, не столь далек от истины был Фридрих Мюнтер, брат Фридерики
Брун, как-то раз, после визита к Гёте, сделавший в своем дневнике следующую
запись: он-де нашел Гёте на этот раз несравненно более приветливым, чем прежде,
но столь же холодным и невозмутимым, каким он всегда представляется всякому (5
июля
Шиллер отлично
сознавал различие во взглядах и образе мыслей между собой и человеком, чьей
дружбы он искал и к кому одновременно чувствовал и любовь, и ненависть. О том,
что они с Шиллером — "антиподы духа", впоследствии, оглядываясь на
прошлое, говорил и Гёте. "Его философии, — объяснял Шиллер в письме к
своему другу Кернеру от 1 ноября 1790 года, — я тоже не приемлю целиком: она
слишком много черпает из чувственного мира там, где я черпаю из души. Вообще,
строй его представлений, по-моему, слишком чувственный и слишком эмпиричный. Но
его ум действует и ищет во всех направлениях и стремится создать некое целое,
что и делает для меня великим этого человека". "А в общем... —
продолжал он, завершая свои рассуждения о философии ироническим замечанием, —
его любовница, некая мамзель Вульпиус, имеет от него ребенка и теперь более или
менее обосновалась в его доме".
Смехотворной
представлялась Шиллеру сама возможность брака Гёте с этой особой:
"Все-таки мне было бы досадно, если бы он кончил такой причудой
гения, ибо на это не
преминут так посмотреть" (Шиллер, 7, 252).
94
В последующей
переписке Шиллера с Гёте имя Кристианы странным образом практически никогда не
упоминалось. Как-то раз Шиллер дерзнул сказать о Кристиане: "некто из
Вашего дома", в другой раз назвал ее "крошкой" (письмо от 9 мая
Решительный перелом
в отношениях произошел после того, как 13 июня 1794 года Шиллер обратился к
Гёте с письмом, в котором официально именовал его "Ваше
превосходительство, глубокоуважаемый господин тайный советник!" и
приглашал поэта сотрудничать на правах автора и рецензента в новом журнале
"Оры". Ответ Гёте не заставил себя ждать: "Я с радостью и от
всего сердца примкну к вашему обществу" (24 июня
В преклонном
возрасте, спустя много лет после смерти своего соратника периода 1794—1805 гг.,
Гёте неоднократно публично подчеркивал значение этого времени творческой дружбы
с Шиллером. В своем сборнике "О естествознании вообще, особенно о
морфологии" поэт в 1817 году опубликовал очерк "Метаморфоза
растений", который заключил несколькими страницами, рассказывающими о том,
как трудно проходило его сближение с Шиллером. В 1794 году в Йене, после
заседания естествоиспытательного общества, у Гёте с Шиллером состоялся
разговор, положивший начало духовной и творческой близости обоих поэтов. Эти же
воспоминания под заголовком "Счастливое событие" были опубликованы в
газете "Моргенблатт фюр гебильдете штэнде" ("Утренняя газета для
образованных сословий") 9 сентября 1817 года. Переписка обоих поэтов,
изданная в 1829 году самим Гёте, должна была стать автобиографическим
документом, вслед за очерками "Кампания во Франции" и "Осада
Майнца", а также достойным памятником союзу с Шиллером. В "Анналах",
которые вошли в тома 31 и 32-й последнего прижизненного издания 1830 года, Гёте
также настойчиво подчеркивает значение счастливого события 1794 года. С первых
дней сближения поэтов начался "нескончаемый взлет философского образования
и художественной деятельности". Он пишет: "Для меня это была новая
весна, радостно прорастали все всходы, семена и ветви дали свежие побеги".
95
В особенности
воспоминания Гёте под названием "Счастливое событие" неизменно
рассматривали как наиболее верное отображение решающей личной встречи,
происшедшей между Гёте и Шиллером летом 1794 года. Согласно этим воспоминаниям,
поэты разговорились друг с другом после собрания Общества естествоиспытателей.
На замечание Шиллера о докладе, что "такой расчлененный подход к природе
не может завлечь дилетанта", Гёте ответил: а ведь к природе можно подойти
и по-другому, не расчленяя ее, не рассматривая отдельные ее куски, но
попытаться, живую и действенную, представить ее себе, идя от целого к отдельным
частям. Шиллер попросил разъяснить эту мысль. Дальнейший рассказ Гёте
цитировали много раз: "Мы дошли до его дома, наша беседа заставила меня
войти. Я быстро посвятил его в свои мысли о метаморфозе растений и несколькими
характерными штрихами набросал для него символическое растение. Он слушал и
всматривался в мой рисунок с большим вниманием, проявляя недюжинную способность
все схватывать на лету, но, когда я кончил говорить, покачал головой и сказал:
"Это не опыт, а идея". Я оторопел, признаться, несколько
раздосадованный, ибо пункт, который нас разделял, здесь непреложно
обозначился" (9, 433).
Хотя спор
продолжался, никто из собеседников не мог счесть себя в нем победителем, но
благодаря этой встрече первый шаг к дружбе был сделан. Если Шиллер считает
идеей то, что Гёте называет опытом, значит, между тем и другим "должно
существовать нечто посредствующее, связующее!" (9, 434).
А все же весьма
сомнительно, соответствует ли последующий — датированный 1817 годом — рассказ
об этом событии реальным фактам 1794 года.
Правда, в нем точно
определены разногласия, разделяющие собеседников, но, пожалуй, он больше
излагает причины многолетней взаимной отчужденности, нежели объясняет сближение
обоих поэтов. Дальше: воспоминания Гёте о "счастливом событии"
завершали раздумья поэта о проблемах естествознания, и, должно быть, им
надлежало пролить дополнительный свет на взгляды Гёте в этих вопросах.
Кое-какие сведения на этот счет можно почерпнуть из других документов,
относящихся к тому же самому 1794 году. 24 июня Гёте дал согласие сотрудничать
в "Орах", а 25 июля, в следующем письме к Шиллеру, он заверил его:
"Я живо радуюсь возможности более частого
96
идейного общения с
Вами" 1. Значит, в промежутке между отправкой
первого и второго письма должен был состояться какой-то разговор, сделавший
дальнейшее общение желательным для обеих сторон. Об этом-то разговоре и
упоминает Шиллер в своем письме к Кристиану Готфриду Кернеру от 1 сентября 1794
года: "По возвращении я нашел весьма сердечное письмо от Гёте, который
наконец-то стал относиться ко мне с доверием. Месяца полтора назад между нами
состоялся долгий и обстоятельный разговор об искусстве и теории искусства и мы
открыли друг другу главные идеи, к каковым пришли совершенно разными путями.
Между этими идеями обнаружилось неожиданное сходство, какое показалось тем
интереснее, что поистине проистекало из величайшего расхождения во взглядах.
Каждый из нас мог одарить другого тем, чего тому недоставало, и взамен получить
кое-что для себя".
Вот это понятно!
Конечно же, подобное совпадение мыслей об искусстве и теории искусства оба
поэта, по всей вероятности, открыли для себя на вечере у Вильгельма Гумбольдта
(22 июля 1794 года Гумбольдт записал в своем дневнике: "Вечером у нас
ужинали Шиллер и Гёте"); тогда-то, видимо, и произошло их окончательное
сближение. Очевидно, за ключевыми словами "опыт" и "идея"
скрывались — и, несомненно, нашли отражение в том разговоре — принципиальные
различия в характере мышления и восприятия собеседников, что дало толчок
дальнейшим раздумьям. В письме к другим адресатам Шиллер в ту пору подчеркивал
сходство взглядов обоих в вопросах искусства, походя упоминая об упорном
интересе его нового друга к изучению природы.
"Вообще этим
летом я наконец-то близко сошелся с Гёте, и нет такой недели, когда бы мы не видались
или не писали друг другу... Он отлично разбирается в естественной истории и
обладает широким кругозором, позволяющим великолепно осветить организацию
органической природы... Он много размышлял о теории искусства и, следуя путями,
совершенно отличными от моих, пришел к точно таким же выводам" (из письма
к Ф. В. Д. Ховену от 22 ноября
Различие путей,
какими следовали оба, очевидно:
1 Гёте и Шиллер. Переписка. Т. I, Academia. M.—Л., 1937, с. 5. — Далее ссылки на это издание даются в тексте: Переписка, с указанием страниц. — Прим. ред.
97
если у Гёте
представление о "стиле" и "красоте", о внутренней
закономерности и самоценности искусства сложилось под влиянием изучения
классических шедевров античных мастеров и их последователей, то Шиллер пришел к
аналогичным выводам в большей мере в итоге сугубо теоретических размышлений. Но
при всем том и он также черпал вдохновение в искусстве древних, которое
неизменно идеализировал, и в идеализированной таким образом античности
усматривал присутствие гармоничного человека, на крайний случай — его прообраз,
предчувствие его появления и его пластическое воплощение.
В сочиненном
Шиллером вымышленном "Письме датского путешественника",
опубликованном в "Рейнской Талии" в
Оглядывая
современную действительность и неустанно помышляя об исправлении дурного
сущего, никоим образом его не удовлетворявшего, Шиллер все больше проникался
убеждением, что человек может воспринять добро из искусства, и, собственно
говоря, из него одного. Стало быть, совершенство (на первых порах) возможно
обрести лишь в сфере прекрасного — и только там. В своем собственном творчестве
Шиллер стремился к "простоте" и "классицистичности". Так, 6
марта 1788 года он писал Кернеру: "Простота — плод зрелости, и я чувствую,
что уже несравненно ближе подошел к ней, чем в минувшие годы". А в письме
от 20 августа 1788 года он выражал надежду, что ему "близкое знакомство с
древними принесет огромную пользу — быть может, даже подарит
классицистичность". "Идеализация" и "облагораживание"
— таковы другие требования Шиллера к искусству, плод его долгих раздумий. В
конце 1790 года в критической статье о поэзии Бюргера Шиллер заявляет:
"Одно из первых условий поэтического творчества — это идеализация,
облагораживание, без коих автор перестает быть поэтом". Впоследствии,
однако, поэт пересмотрел понятие "облагораживания".
"Идеализировать явление в моем понимании — зна-
98
чит лишь отбросить
все его случайные назначения и придать ему характер внутренней необходимости.
"Облагораживание" всегда сродни "исправлению, своего рода
нравственному вознесению". Как близко смыкался подобный взгляд с гётевским
восхвалением "стиля", вытекающего "из природы вещей", как и
со стремлением Гёте распознать закономерности природы и искусства! Опять же
здесь следует указать на сложность истолкования таких понятий, как
"простота", "классицистичность", "облагораживание"
(так же как и сходных формулировок Гёте).
Ведь любое
истолкование в свою очередь будет нуждаться в пояснениях, которые должны
проверяться на художественных произведениях, что лишь перемещает сложность
задачи в другую плоскость; о "характере внутренней необходимости",
как и о ее художественном воплощении, можно спорить без конца. Возможно, не
столь уж и не прав был Готфрид Август Бюргер, которого Шиллер порядком потрепал
своей критикой: в 1791 году в статье под названием "Антикритика"
Бюргер ехидно заявлял: "Особенно желал бы я узреть пример подобного
идеализированного восприятия, хотя бы — mirabili dictu 1
— один-единственный любопытный
пример из произведений любого — древнего или современного, отечественного или
иноземного — поэта, которому удалось бы достигнуть этого чудодейственного
свойства".
Так или иначе,
идеализация всегда означает выход за пределы существующей реальности.
Болезненно пережитый разрыв между идеалом и реальностью неизменно определял
взгляды Шиллера: лишь красота искусства еще может являть совершенство и только
художник способен осуществить умиротворение в призрачном мире прекрасного.
События, последовавшие за Французской революцией, лишь укрепили, но отнюдь не
породили это убеждение. Шиллер и прежде полагал, "что каждая отдельно
развивающая свою силу человеческая душа больше, чем самое большое человеческое
общество, если рассматривать его как целое. [...] Государство только действие человеческой силы, только творение
мысли, человек же сам
источник силы и творец мысли" (из письма Каролине фон Бойльвиц от 27
ноября
1 Как это ни удивительно (лат.).
99
никогда не осваивает
реальное, а всегда лишь идеальное, или же
художественно отобранное из реального предмета" (из письма Шиллера к
Кернеру от 25 декабря
Разочарование,
вызванное дальнейшим ходом Французской революции, способствовало радикализации
шиллеровской теории; он полагал: отныне полностью утрачена надежда, что
преобразование внешних условий может привести к чему-то лучшему, даже если
сохранить прежнюю цель и не приукрашивать общественную трагедию. В письме к
герцогу Аугустенбургскому от 13 июля 1793 года Шиллер четко очертил свою
позицию в этом вопросе: "Политическая и гражданская свобода — всегда и
неизменно самый священный из всех даров, самая достойная цель всех усилий и
величайший оплот всякой культуры, однако это прекрасное здание можно возвести
лишь на прочном фундаменте облагороженного характера. Поэтому сначала надо
создать граждан для конституции, прежде чем давать конституцию гражданам".
Вот такое представление об искусстве и такая оценка революции и могли послужить
основой для взаимопонимания Гёте с Шиллером.
В извещении об
основании журнала "Оры", опубликованном во "Всеобщей
литературной газете" ("Альгемайне литератур-цайтунг") 10 декабря
1794 года, Шиллер решительно заявлял, что в его журнале будут запрещены
"все суждения о текущих событиях в мире и о ближайших ожиданиях
человечества". Журнал намерен отринуть "неотвязного демона критики
государства" и стремится раскрепостить подавленные "куцым интересом к
современности" умы "с помощью общего и более высокого интереса ко
всему чисто человеческому и вневременному", а также
100
"объединить
расколотый политикой мир под знаменем истины и красоты". Из журнала будет
исключено все, что несет на себе клеймо нечистого партийного духа.
Из необходимости
Шиллер хотел сотворить добродетель — и не обманывался на этот счет.
Одна-единственная возможность виделась ему теперь: желательное
самоосуществление человека в целом поначалу мыслимо реализовать лишь в сфере
искусства и царстве идеала. Его обстоятельный трактат "Письма об
эстетическом воспитании человека", опубликованный в "Орах" в
1795 году, в первый же год издания журнала, был своего рода программным ответом
на вызов, брошенный Французской революцией. Проникновенный анализ современного
общества на фоне воображаемой гармонии древних греков очерчивал раздробленность
современного человека.
"...наслаждение
отделилось от работы, средство от цели, усилие от награды. Вечно прикованный к
отдельному малому обломку целого, человек сам становится обломком; слыша вечно
однообразный шум колеса, которое он приводит в движение, человек не способен
развить гармонию своего существа, и, вместо того чтобы выразить человечность
своей природы, он становится лишь отпечатком своего занятия, своей науки"
(Шиллер, 6, 265—266).
Однако,
проницательный критик, Шиллер отныне утратил надежду исцелить или хотя бы
смягчить этот недуг путем преобразования общественных условий. Сначала надо
самого человека привести в такое состояние, при котором он воистину обретет
человеческую сущность. И поэт возлагает на искусство, на красоту задачу
уравновесить чувственное и духовное в человеке и довести человеческую природу
до эстетического уровня. И пусть тогда "эстетическое творческое побуждение
незаметно строит посреди страшного царства сил и посреди священного царства
законов третье радостное царство игры и видимости, в котором оно снимает с
человека оковы всяких отношений и освобождает его от всего, что зовется
принуждением как в физическом, так и в моральном смысле" (Шиллер, 6, 355).
В заключение Шиллер вынужден был добавить скептическое признание: подобное
государство, "пожалуй, можно найти... разве в некоторых немногочисленных
кружках" (Шиллер, 6, 358).
Здесь не место
обсуждать извилистый путь шиллеровской мысли, как и вопрос, в какой мере идеи
101
эстетического
воспитания закономерно вытекают из критического анализа современности,
содержащегося в первых письмах об эстетическом воспитании. Во всяком случае,
Шиллер ответил на вызов истории утопическим проектом, в то же время никак не
объясняющим, в какой мере эта программа эстетического воспитания человека,
столь впечатляющая и сложная, столь многословно и красноречиво изложенная, а
также философски насыщенная, — в какой мере эта программа способна практически
воздействовать на людей, живущих в реальных условиях и страдающих от них.
История народов и государств в том виде, в каком она развивалась со времени
опубликования шиллеровского проекта, непрестанно опровергала реальность его
осуществления. Правда, этот аргумент направлен не против существа шиллеровской
программы, а скорее — в ее пользу.
Что же касается
журнала "Оры", который сумел продержаться всего лишь с 1795 по 1797
год, — многие вошедшие в него публикации определенно шли вразрез с
провозглашенным в извещении запретом касаться политических проблем
современности. Прямое касательство к политической ситуации имел рассказ Гёте
"Разговоры немецких беженцев". В очерке Якоби "Случайные
излияния одинокого мыслителя" осуждалась казнь Людовика XVI. Стало быть, "чисто человеческий"
момент предстает здесь как сознательное отмежевание от других исторических
событий и тем самым оборачивается исторически обусловленной политической
тенденцией. В письме к Гердеру от 4 ноября 1795 года Шиллер утверждал:
"Поэтому не вижу я для гения поэзии иного спасения, как покинуть область
действительности и направить свои усилия не на опасный союз, а на полный разрыв
с ней" (Шиллер, 7, 356). "Наша гражданская, политическая, религиозная
и научная деятельность, являясь прозой, противостоит поэзии" (там же).
Философ и педагог
Теодор Литт неоднократно указывал на дурные последствия того обстоятельства,
что довольно многие представители немецкой интеллигенции, считая подобный
дуализм непреложным, соответственно обратились к "истинной" сфере
духа, прекрасного, поэзии и полностью отвернулись от "области
действительности", тогда как Шиллер по крайней мере предусматривал между
тем и другим определенную связь.
Впрочем, уже в ту
пору раздавались возражения, как против самой программы журнала, так и против
102
формы ее претворения
в жизнь. В журнале "Германия" ("Дойчланд") Иоганн Фридрих
Рейхардт в 1796 году заявил, что под вывеской аполитизма в крупных дозах
преподносятся политические суждения: в частности, в гётевских "Разговорах
немецких беженцев" отчетливо "ощутима приверженность к старой
системе". А Фридрих Кристиан Лаукхард, в 1799 году ознакомившись с
"Письмами об эстетическом воспитании человека", написал следующее:
"Надеюсь, все разумные врачи, знатоки законов, педагоги, философы,
проповедники и государи согласятся в этом со мной и поймут, что Бёрк, Питт,
Реберг, Ширах, Генц и прочие политические старьевщики весьма ошибочно
утверждают: ни одно правительство не может дать народам гражданскую
свободу, покуда народы эти
не освободят сами себя духовно. Поистине это все равно что сказать: никому, мол, нельзя разрешать
учиться ходить, покуда он не выучится плясать. Или, чего доброго, человеку
нельзя входить в воду, покуда он не выучится плавать. Это все равно что
пытаться излечить больного, мечущегося в жару, не позаботившись сначала об
устранении смрадного, зараженного воздуха и горячительной пищи... Вот на
этот-то извращенный, противный природе путь встали ныне как редактор, так и
авторы журнала "Оры"... (из "Зерцала нравственности для
дворян").
Упомянуть об этих
сложностях и противоречиях отнюдь не значит поддаться соблазну легковесного
критиканства, просто необходимо учитывать последствия исторической ситуации,
каковые наложили свою печать на многие высказывания "классиков" тех
лет. Здесь и далеко идущие проекты в области духа, и гуманистические
устремления, ожидания чего-то лучшего, в реальной жизни и поныне не
осуществленные, но также и другое: отрыв от конкретного и игнорирование
общественных условий, необходимых для истинного самоосуществления человека,
каковое тем самым переносится в царство идеала, искусства и красоты. Вернемся,
однако, к зарождению дружбы между Гёте и Шиллером!
Письма из литературной мастерской
Удивительно, как
скоро оба поэта, наконец-то сблизившись, вступили друг с другом в деятельный
творческий союз, в котором каждый одновременно
103
был и дарителем, и
получателем. Союз этот распался только со смертью Шиллера, последовавшей 9 мая
1805 года. Поистине эту встречу, состоявшуюся наконец после длительных проволочек,
следовало назвать "счастливым событием": она пришлась на такое время,
когда каждый из поэтов нуждался в новых стимулах и умном сподвижнике. В их
сближении поначалу сыграли известную роль также и деловые соображения. Шиллер
стремился привлечь Гёте к сотрудничеству в "Орах", дабы обеспечить
новому журналу необходимый престиж. А Гёте это приглашение пришлось кстати: уже
давно он почти отошел от литературной жизни и, по собственному его признанию,
надеялся, что новый дружеский союз снова приведет в движение многое, у него
застоявшееся (из письма Шиллеру от 24 июня
В верности Вашей
интуиции заключено — и притом гораздо полнее — все, чего с такими усилиями ищет
аналитик, и только потому, что оно заключено в Вас как целое, Вы не замечаете
Вашего же собственного
104
богатства: ведь, к
сожалению, мы знаем лишь то, что мы расчленяем" (Шиллер, 7, 305).
Поэта, чье богатство
он столь проницательно опознал, Шиллер рассматривал в определенном
историко-философском контексте. Если бы Гёте родился греком или хотя бы
итальянцем и еще с колыбели был окружен "избранной природой и
идеализирующим искусством", это избавило бы его от многих усилий.
"Но раз Вы
родились немцем, раз Ваш греческий дух заброшен в этот мир северного творчества,
то Вам не остается другого выбора, как или самому стать северным художником,
или силою мышления возместить Вашему воображению то, чего не дала Вам
действительность, и таким образом рациональным путем изнутри создать
Элладу" (Шиллер, 7, 305).
Здесь в зачатке уже
звучала мысль, впоследствии обстоятельно развитая в статье "О наивной и
сентиментальной поэзии": каким образом современному поэту вновь обрести
дар, которым, как полагают, некогда обладали греки, а именно естественную
слитность с природой, и существует ли ныне поэт, способный подняться до уровня
наивной поэзии былых времен? Возможно, художник такого типа — Гёте.
Обстоятельное аналитическое письмо от 23 августа 1794 года свидетельствовало
еще и о другом: за историко-философским анализом наивной и сентиментальной
поэзии скрывался также ключ к личной проблеме автора "Дона Карлоса" —
проблеме взаимоотношений "спекулятивного духа" Шиллера и
"интуитивного духа" Гёте.
Ответное
благодарственное письмо не замедлило прийти. "Ко дню моего рождения,
который я отпраздную на этой неделе, не могло быть приятнейшего для меня
подарка, чем Ваше письмо, в котором вы дружественной рукой подводите итог моему
существованию и своим участием поощряете меня к более ревностному и более
живому применению всех сил" (XIII, 57).
Мог ли Гёте
припомнить другой случай, когда бы его так тонко оценили и поняли? Теперь же он
сам попросил, чтобы Шиллер еще больше поведал ему о себе, и одновременно
признался, что его заботит "своего рода темнота и колебания, над которыми
я не властен, хотя и ясно сознаю их" (XIII, 57). Может быть, ему поможет дружеское
участие Шиллера. И Шиллер сразу же в письме от 31 августа, прислал ему
испрошенный самоанализ, вновь подчеркнув свое отличие от Гёте: у того —
"огромный мир идей", а у Шиллера — "бед-
105
ность в том, что
принято называть благоприобретенными познаниями": "Вы стремитесь к
тому, чтобы упростить свой огромный мир идей, а я стараюсь придать больше
разнообразия своему небольшому достоянию. Вы должны управлять целым царством, а
я лишь относительно многочисленной семьей понятий, которые я искренне хотел бы
расширить до размеров небольшого мирка. Ваш дух действует в высокой степени
интуитивно, и все Ваши умственные силы связаны с воображением как их всеобщим
представителем... Моему уму свойственно в гораздо большей мере стремление к
символизации, и я как промежуточный тип колеблюсь между логикой и интуицией,
между правилом и чувством, между техническим подходом к искусству и
гением" (Шиллер, 7, 309).
Так было положено
начало уникальной переписке, которая превратилась в беспрерывный отчет из
творческой мастерской двух замечательных художников, дополнявших друг друга и
старавшихся друг у друга учиться. Объем этой переписки составил свыше тысячи
страниц, хотя от той поры, когда Гёте с Шиллером жили в одном городе,
"сохранилось мало письменных свидетельств" (из письма Гёте к Л. Ф.
Шультцу от 3 июля
В письмах Гёте и
Шиллера отражены их раздумья об основных и частных вопросах искусства, и в
первую очередь поэзии. Каким должно быть произведение искусства, пусть
созданное ныне, чтобы не уступать требованиям, провозглашенным искусством
древних, и, по-видимому, на все времена? Что делает искусство искусством? И что
необходимо учесть, если реальность искусства, пусть родственная природе с ее
строем закономерностей, все же не тождественна реальности природы и не
исчерпывается подражанием
106
ей? Правда искусства
превосходит реальность природы. Задача художника, как указывал Гёте во
"Введении к Пропилеям" (
Совместными усилиями
Гёте и Шиллер старались раскрыть основные законы поэзии и других литературных
жанров и тем самым обосновать одновременно литературно-теоретически собственную
творческую практику. Словом, они размышляли над тем, какой жизненный материал
или сюжет подходит для определенных творческих методов и литературных форм, а
какой — нет.
Задумав, после
"Германа и Доротеи", написать еще одну эпическую поэму —
"Охота" (из которой впоследствии получился прозаический рассказ под
названием "Новелла"), Гёте стремился уяснить себе, прежде чем
приступить к работе, насколько непреложны "требования ретардации" (из
письма Шиллеру от 19 апреля
К концу года Гёте
уже мог обобщить итоги совместных раздумий об основных принципах эпоса и драмы
в небольшой статье под названием "Об эпической и драматической
поэзии".
Очень многое из
того, что обсуждалось в переписке
1 Речь идет о поэме "Охота". — Прим. ред.
107
и беседах двух
друзей, позднее вошло в теоретические статьи, которые Гёте писал на переломе
века и которые, как впоследствии сделалось очевидно,
остались свидетельствами "классического" понимания искусства на этой
фазе жизни поэта.
Влиянию Шиллера,
бесспорно, следует приписать, что Гёте склонился к строгой теории, зато сам
Шиллер, благодаря сближению с Гёте, словно бы заново открыл для себя власть и
значение всего предметного, эмпирического, "осязаемого". "Давно
пора мне на время закрыть философскую лавку. Сердце тоскует по какому-либо
осязаемому предмету", — признавался Шиллер 17 декабря 1795 года.
И это писал человек,
который всего лишь несколько лет назад считал гётевский строй представлений
"слишком чувственным" и "слишком эмпиричным" (из письма
Кернеру от 1 ноября 1790 года). Но ведь Гёте еще в Италии, да и по возвращении
оттуда со страстной увлеченностью искал решения теоретического вопроса: как
создать искусство, которое было бы не чуждо природе, но и не подчинено ей, не
тонуло бы в убогой действительности и утверждало бы свое самодовлеющее право
Красоты, свою особую правду искусства.
В письме к Гёте от
14 сентября 1797 года Шиллер высказал мысли, уже лет десять, не меньше,
обуревавшие Гёте. Несколькими фразами Шиллер определил сущность
"классических" устремлений в искусстве тех лет; правда, определение
носило лишь характер некой общей формулы. От формулы до воплощения творческого
замысла — сложный путь этот приходилось всякий раз проделывать и осваивать
заново.
"Поэт и
художник должен обладать двумя свойствами: во-первых, он должен возвышаться над
действительным, а во-вторых, он должен оставаться в пределах чувственного мира.
Где соединяется то и другое, там перед нами эстетическое искусство. Но в
неблагоприятной бесформенной природе он слишком легко вместе с действительным
покидает и чувственное и становится идеалистическим, а если рассудок его не
силен, то и фантастическим; или же он хочет и свойствами своего характера
вынужден оставаться в пределах чувственного, и тогда вместе с тем он охотно
остается также в пределах действительного и становится, в ограниченном смысле
слова, реалистом, а если он совершенно лишен фантазии, то его творчество
приобретает характер рабский и пошлый. В обоих случаях, стало быть, он не
эстетичен.
108
Приведение
эмпирических форм к эстетическим — трудная операция, и
здесь обыкновенно недостает или тела, или духа — или правды, или свободы"
(Переписка, 329).
Какие теоретические
размышления ни пронизывали бы эту переписку, они никоим образом не ущемляли
творческую индивидуальность каждого из поэтов, не оказывали на нее
унифицирующего влияния в угоду общим принципам. Идеи эти выполняли регулирующую
функцию и, разумеется, учитывались, раз уж они определяли задачу искусства,
однако творческий литературный процесс на всех его этапах не был им подчинен. К
тому же иные — прямые или скрытые — намеки в письмах Гёте ясно свидетельствуют
о его боязни оказаться сверх меры вовлеченным в теоретизирование. Все, что
совершалось в нем в момент творческого акта, он отнюдь не готов был полностью
открыть пристальному анализирующему взгляду. Гёте не мог, а может, и не хотел
выставлять этот акт на свет все охватывающего рассудка. "Человек же
конкретен в конкретном своем состоянии, — однажды заметил Гёте в сложном,
многозначном своем ответе Шиллеру, — вот и продолжается вечный самообман ради
того, чтобы конкретному оказать честь, провозгласив его идеей" (письмо от
10 февраля 1798 года. — XIII,
182—183).
Показательно, насколько
по-разному Шиллер и Гёте выражали свое отношение к произведению, над которым
работали. У Шиллера всегда на переднем плане "субъект", стремящийся
"овладеть" предметом. "Все больше овладеваю предметом", —
писал он 27 февраля 1795 года о своем "Валленштейне". А в другой раз
— 28 ноября 1796 года — жаловался, что "сюжет еще не вполне поддается
мне". Что же касается Гёте, то тут, напротив, его творение словно бы
обретало собственную жизнь, не поддававшуюся механически приказам субъекта-творца.
"Мой роман теперь не успокоится, пока не закончится", — писал Гёте 23
декабря 1795 года, а 30 июля сообщал, что роман "предается послеобеденному
сну, и я надеюсь, тем бодрее он встанет к вечеру" (Переписка, 175).
Взаимопонимание,
конечно, не означало, что каждый из друзей соглашался с мнением другого. Однако
готовность к спору, к тому же конгениальному, помогала обоим яснее осознать
собственные творческие возможности и вытекающие отсюда задачи, обеспечивала
непрестанный критический аккомпанемент творческого процесса. Временами, судя по
всему, Гёте
109
даже тяготился этим.
В процессе работы над "Вильгельмом Мейстером" он как-то раз обронил:
"Для Ваших идей я подыскал по своему вкусу тело". Не знаю, продолжал
он, "узнаете ли Вы опять эти духовные существа в их новой земной
оболочке". И поскольку друг уже успел дать ему кучу советов и сделать уйму
замечаний, занявших много страниц, Гёте добавил: "Я почти склоняюсь к
тому, чтобы отдать свое произведение в печать, не показывая его Вам"
(письмо от 10 августа 1796 года. — Переписка, 182—183).
В том же месяце в
письме к Земмерингу поэт сетовал на смешение физиологических и философских
аспектов, которые Земмеринг допустил в одной из своих работ по естествознанию,
и отмежевание от "философов" прозвучало здесь как энергичное самоободрение:
"Отчего бы нам, эмпирикам и реалистам, не определить также наш круг и не
осознать наше преимущество? Надо остаться в этом нашем кругу и действовать в
нем, самое большее — изредка прислушиваться к этим господам наставникам, когда
они критикуют те силы ума и души, с помощью которых мы вынуждены овладевать
предметом" (28 августа
Не следует
недооценивать также и раздражение, которое вызывала у Гёте критическая
философия Канта. Строгий суд над созерцанием, над чувствами, доверчиво открытыми
природе, над любовным влечением к предметности — все это обескураживало поэта.
Уже в 1781 году была опубликована "Критика чистого разума", однако
Гёте наверняка не стал ее изучать. И все же вокруг этой работы вращались в ту
пору все разговоры интеллигенции, из которых Гёте и узнал, как Кант оценивает
возможности человеческого познания. В статье "Влияние новейшей
философии", опубликованной в 1820 году, поэт, оглядываясь на прошлое,
рассказывает, как в свое время "благодаря известной наблюдательности"
заметил, "что снова встает старый коренной вопрос: в какой мере наше
собственное "я", а в какой — внешний мир способствует нашему
духовному бытию?" Полемизируя с постулатами современной ему теории
познания, Кант полагал необходимым прежде всего определить основные условия,
при которых человек что-то познает. Правда, все наши знания берут начало в
опыте, но опытом не исчерпываются, потому что воспринимаем мы все сущее в
формах познания, предшествующих всякому опыту и носящих, таким образом,
"априорный" характер. Только в этих априорных формах,
110
присущих нашему способу познания, можем мы
воспринимать окружающую реальность. Вещь, какой она представляется нам, и
"вещь в себе" — не одно и то же. Опыт формируется под влиянием
априорных форм восприятия пространства и времени, а синтетические суждения
(стало быть, такие, содержание которых выходит за пределы уже заключенного в
понятии) подчинены априорным категориям количества, качества, относительности и
модальности. Гёте не стал особенно вникать в сложные, дифференцированные
доказательства Канта, а попросту — с неким разлитым смутным одобрением и
готовностью применить их к собственному методу — принял выводы "Критики
чистого разума", хоть и чувствовал, что все больше отделяется от
"кёнигсбергского старца".
"Априорность
познания я вполне принял, как и априорность синтетических суждений: ведь, весь
мой век творя поэзию и наблюдая жизнь, я действовал сначала синтетически, а
затем — аналитически; систола и диастола человеческого духа были для меня что
второе дыхание, нераздельное, вечно пульсирующее".
Во всяком случае, в
этой "интерпретации" Гёте пользовался общими с Кантом понятиями.
Также и статья "Наглядная сила суждения" скорее свидетельствует о
способности Гёте к творческому освоению любой теории, нежели о его тонком философском
восприятии. В 1788 году, уже после публикации "Критики практического
разума", где идеи бога, свободы и бессмертия как некие "практические
постулаты" вкупе с их производными этическими идеями признавались за
человеком как разумной личностью, пусть в отрыве от всяческого опыта и его
закономерностей, но притом как идеи, необходимые для человека как нравственного
существа, — Гёте уже не требовалось никакого насилия над собой для приятия
выводов критической философии. А уж с кантовской "Критикой способности
суждения" (1790), где искусство, как и природа, объявляются самоцелью, чем
обосновывается бескорыстное восхищение Прекрасным, нетрудно было согласиться
поэту, еще в Италии, вместе с Карлом Филиппом Морицем, высказывавшему сходные
идеи. Правда, то обстоятельство, что Кант приписывал человеку "радикальное
зло", вызвало у поэта сердитые возражения и толкнуло его на следующий
полемический выпад: "Кант испачкал позорным пятном радикального зла
философский плащ, который честно носил в течение долгой жизни, и все для того,
111
чтобы соблазнить и
христиан приложиться к его подолу" (из письма к Гердеру и его жене от 7
июля
Высвобождение из изоляции
Общение с Шиллером
помогло Гёте не только спокойно снести странности "новейшей философии",
но и самым удобным образом поближе с ней ознакомиться. Шиллер же годами
увлеченно занимался философией Канта, иногда пытаясь смягчить ее местами,
особенно в сфере этики, непререкаемый дуализм. Так, по Шиллеру, долг и влечение
не должны непременно оставаться антиподами, а при осуществлении категорического
императива — сливаться воедино.
В конце августа 1794
года были написаны Шиллером важные письма о творчестве Гёте. И уже в сентябре
Гёте пригласил нового друга приехать в Веймар и остановиться у него в доме.
Шиллер "с радостью" принял это предложение, однако не стал скрывать
от Гёте, что по причине болезни, с ее мучительными ночными приступами, никогда
заранее не знает, когда будет чувствовать себя хорошо, и заключил свое
сообщение волнующей фразой: "Прошу только о печальной вольности — иметь
право быть у Вас больным" (письмо Шиллера от 7 сентября
Две недели провели
новые друзья в Веймаре, в тесном духовном общении, и в последующие годы такое
повторялось много раз. Сплошь и рядом Гёте наезжал в Йену, покидая Веймар на
короткий, а порой и на долгий срок, чтобы в соседнем университетском городе
погрузиться в свои научные или литературные труды и встречаться с учеными и
друзьями. "Пятого приехал сюда Гёте и пробудет здесь еще несколько дней,
чтобы провести с нами день моего рождения. Мы просиживаем за беседой все вечера
с пяти до двенадцати, а то и до часу ночи" (из письма Шиллера к Вильгельму
фон Гумбольдту от 9 ноября
Можно лишь
догадываться, что Гёте еще и потому так часто и надолго покидал Веймар, чтобы
временами бежать из своего душного семейного мирка. В какой-то мере он должен
был отгородиться от будней и мира Кристианы — не то их совместная жизнь грозила
превратиться в нечто привычное и докучливое.
112
Как часто откладывал
он намеченное возвращение, но при том всякий раз утешал дожидавшуюся
его Кристиану, обещая скоро приехать. Переписка между ними, однако, не
прекращалась, и в письмах оба неустанно заверяли друг друга в своей
привязанности.
Столь быстрое
упрочение союза с Шиллером показывает, как сильно в ту пору Гёте нуждался в
друге, который понимал бы его и мог бы стимулировать его творчески. Отсюда
горячая благодарность, которую он так часто высказывал, за "те
исключительные отношения, в которых я нахожусь только с Вами одним"
(письмо Гёте к Шиллеру от 7 июля
"Между тем,
когда прошел первый приступ отвращающей закостенелости, меня приятно поразили
мягкая легкость и видимость безыскусственности в его светской беседе... Мне уже
не верится, будто Гёте по-
113
прежнему воодушевлен
стремлением к высокой цели, но, должно быть, он постигает некую мудрую
чувственность, идеал коей он преимущественно составил себе в Италии. С этим,
наверное, и связаны многочисленные — в сравнении с прежним его духом —
поверхностные занятия научными и другими реальными предметами" (из письма К. Г. Кернеру от
24 августа
Первое путешествие в
Италию потрясло Гёте: поэт вдохновенно рассказал об этом. Но он так восторженно
хвалил эту страну еще и потому, что все увиденное и пережитое им на юге явилось
могучим отвлечением от отчаяния, из которого он не нашел никакого другого
выхода, кроме бегства. Ведь уже в 1790 году, когда он вновь очутился в Венеции,
восторг больше не давался ему. И все же взгляды, обретенные поэтом в
итальянский период, остались при нем. Генрих Мейер, друг дома Гёте, мог
засвидетельствовать, что поэт от них не отрекся. Правда, сам по себе этот факт
еще не обеспечивал надежности нового жизненного этапа и не гарантировал
желанного самоосуществления. С внешней стороны жизнь, казалось, была наилучшим
образом упорядочена, если не считать возмутившего светское общество
гражданского брака с Кристианой Вульпиус. У Гёте имелись все основания
благодарить герцога — "Он был и Августом мне, и Меценатом", — а все
же поэт по-прежнему не знал ни покоя, ни уюта, ни удовлетворения достигнутым.
Конечно, можно лишь удивляться и восхищаться разносторонностью Гёте. Веймарский
тайный советник, поэт и писатель строил дворцы, занимался регулированием
водоснабжения, был директором театра, естествоиспытателем, прозаиком и
спутником герцога в его путешествиях, ревностным коллекционером, докладчиком в
узком интеллигентском кружке, но и вечным студентом, изучающим интересующие его
науки в Йенском университете. Только необыкновенному человеку дарована такая
активность и продуктивность. А все же к этим разнообразным занятиям побуждал
поэта еще и его тревожный, беспокойный дух. Противоречия, жившие в нем,
бороздят письма. Ощущение зыбкости существования заставляет его хвататься то за
одно, то за другое. Он может вдруг провозгласить самым важным то-то и то-то, но
вскоре поставит в центр внимания совсем другое. В июле 1790 года он объявил о
начале своей "новой карьеры" в естественных науках, к которым его
влечет, как никогда (из письма Кнебе-
114
лю
от 9 июля
Что же касается
изучения "образования и преобразования органических тел", то поэт
полагал это "прекрасным занятием также и в позднем возрасте, когда человек
стремится больше брать от предметов, коль скоро он уже не в силах, как прежде,
столь многое им отдавать" (из письма княгине Голицыной от 6 февраля
Радуясь союзу с
Шиллером, он свободно следовал своей склонности к поэзии и ее исследованию, к
творческой работе в этой области. Но все взятое вместе опять же не помешало ему
на протяжении двух десятилетий заниматься учением о цвете и его историей. А
слова, обращенные к его маленькой семье: "Вам одним я нужен — остальной
мир без меня обойдется" (Тюбинген, 30 октября
С современной точки
зрения высказывания Гёте о боге, природе и человеке складываются в довольно
стройную систему взглядов. Во всяком случае, она поддается связному описанию и
толкованию, если, конечно, учитывать постоянные константы этой системы
взглядов, неизменно сохранявшиеся в ней по крайней мере со времени возвращения
поэта из Италии. Самому же Гёте все представлялось иначе. Ему еще только
предстояло искать и найти убедительные ответы на возникшие у него вопросы. Он
уже не находил прибежища в каких-либо традиционных воззрениях, а революционные
потрясения подорвали прежние общественные структуры. Так или иначе,
правомерность этих структур, как и будущий их облик, превратились в хроническую
проблему. И тот, кому ведомы были эффективные концепции разумных действий, кто
сам был готов делиться своим знанием с
115
другим, — тот не мог
уйти от этих проблем. В этом смысле Гёте предстает как типичный человек нового
времени, утративший все привычные общепризнанные опоры. Это не значит, что он
раз и навсегда разделался со "старой истиной", но все осваивалось им
и обреталось заново лишь после тщательной проверки и исследования: "Все мы
живем прошлым и от прошлого погибаем". В этой ситуации поэт был обречен на
поиски и открытия. Как поэт, как писатель, он пытался найти в своем творчестве
фундамент бытия. Этим объясняется многое. Многое в произведениях Гёте следует
понимать как экспериментальный ряд, в котором он "проигрывал"
желаемое или возможное и в котором испытывал всякий вариант, заслуживавший
эскиза. Подобные экспериментальные предприятия не вместились бы в границы
одного-единственного жанра, а упорное сохранение какого-либо одного
литературного метода парализовало бы исследование. На экспериментальном
полигоне литературы рассматривались разные модели человеческого поведения и
самоосуществления, и при этом не было недостатка в противоречивых концепциях. То
и другое щедро освещалось иронией автора, все рассказанное им, равно как и
сентенции, выставлялись на обозрение в различных аспектах. Стало быть,
читателю, мыслям и чувствам которого, на первый взгляд, предлагалась ясная
задача, не приходилось успокаиваться на этом. Мещанская идиллия в "Германе
и Доротее", и без того рассказанная не без юмора, не могла стать конечной
целью пути какого-нибудь Вильгельма Мейстера. А уж варианты образования,
которые предлагаются этому пытливому ученику жизни — и не только ему одному — в
"Годах учения", сверкают многоцветьем и никак не могут быть сведены к
простейшим будничным эталонам. Наконец, "Годы странствия" настолько
расширяют диапазон потенциально возможных жизни и деятельности, мышления и
интуиции, что общепринятые представления о художественном единстве романа
кажутся здесь и вовсе неуместными. Понятно поэтому, что чуть ли не каждый, кто
вздумал бы подкрепить свои взгляды цитатой из Гёте, бесспорно найдет в его
работах подходящие к случаю слова. Вот только экспериментальные структуры и
пробные сочетания, созданные писателем и мыслителем, вовсе непригодны для того,
чтобы извлекать из них афоризмы, годные на все времена. Да и вообще — наивно
было бы полагать, что любые высказывания, сделан-
116
ные в подобном контексте,
допустимо выдавать за сугубо личное мнение и прорицание данного поэта и
мыслителя. Сам Гёте уже посмеивался над страстью его читателей по-своему
толковать его творения, в поисках каких-либо однозначных советов или прямых
рекомендаций.
"Разговоры немецких беженцев"
Подыскивая рукописи
для журнала "Оры", Шиллер, разумеется, рад был бы опубликовать в нем
— с продолжением из номера в номер — роман о Вильгельме Мейстере, однако Гёте
уже пообещал отдать его берлинскому издателю Унгеру. Тогда автор "Мейстера"
предоставил новому журналу другое прозаическое произведение, притом совсем
иного толка, а именно "Разговоры немецких беженцев". Это была серия
коротких рассказов, объединенных рамочным повествованием. Вряд ли нашлось бы
событие актуальнее тех, о которых поведал здесь Гёте. При этом он выстроил свой
рассказ в традициях старой новеллистики: члены дружеского кружка забавы ради
рассказывают друг другу разные истории. Место и время действия в рамочном
повествовании точно определены. Действие отнесено к тем месяцам, когда
революционные французские войска вступили в Германию, затем были отброшены
назад, и позднее, "когда блокада Майнца грозила вот-вот перейти в
осаду" (6, 126) — стало быть, в период с октября 1792 по июнь 1793 года.
Немецкие аристократы, переправившись через Рейн, бежали с рейнского
левобережья, где находились их поместья, на восток. А "когда счастье снова
повернулось к немецкому оружию" и французы вынуждены были отступить,
бежавшее семейство, "желая вновь вступить во владение частью своей собственности...
отправилось в принадлежавшее ему и весьма живописно расположенное имение на
правом берегу Рейна" (6, 124).
В состав знатного
семейства входила баронесса, средних лет вдова, всеми почитаемая мать
семейства, с двумя сыновьями и дочерью Луизой, чей жених воевал в армии
союзников. Были в этом семействе, далее, кузен Карл, домашний учитель и старик
священник, связанный с беглецами многолетней дружбой.
В поместье, куда еще
доносился шум канонады, теперь поспешили друзья и знакомые. Обсуждая теку-
117
щие события, они
напряженно выжидали, как те будут развиваться дальше. Разными темпераментами
обладали участники этого обсуждения, разговоры велись с необыкновенной
живостью, и в оценке политических событий, взволновавших весь мир, не было
единодушия. Разногласия появились еще во время бегства, спорили о важном и о
пустяках, все члены семейства легко приходили в волнение, порождавшееся
неопределенностью ситуации, и упорствовали в своих взглядах. А ведь, коль скоро
люди оказались вместе в столь трудное время, было бы куда разумнее стремиться к
согласию. Баронесса, однако, ясно оценивала ситуацию и старалась ею руководить,
смягчая острые моменты.
В имении недавних
беженцев в числе гостей появился также некий живший поблизости тайный советник,
вдвоем с женой, приходившейся баронессе подругой детства. Когда заговорили о
судьбе, ожидающей майнцских республиканцев после падения города, мнения резко
разошлись, заспорили о политике, и кружок раскололся надвое. Тайный советник,
уже представленный читателю как ожесточенный противник Французской революции,
говорил от имени приверженцев "старой системы", требуя наказания
клубистов.
Однако кузен Карл,
который "дал себя увлечь ослепительной красавице, каковая под именем
Свободы сперва тайно, а затем и явно снискала себе стольких поклонников"
(6, 123), принялся защищать сторонников революции. Разволновавшись вконец, он
признался, что желает французскому оружию всяческого успеха и "призывает
каждого немца положить конец былому рабству". А в заключение он выразил
надежду, что "гильотина и в Германии найдет себе обильную жатву и не
минует ни одной преступной головы" (6, 128). Более того, страстный
защитник нового резкими упреками оскорбил тайного советника. Глубоко обиженный
и обозленный, советник не пожелал дольше оставаться в этом доме; он приказал
сложить вещи и уехал.
Если уж из первых
фраз "Разговоров немецких беженцев" становилось очевидно, что
рассказчик, в чьих словах сквозят мысли Гёте, не сочувствует переворотам и
революциям, все же во вводной части он предоставил равную возможность
высказаться, притом с необычайной откровенностью, и противникам, и сторонникам
революции. Тема эта определенно
118
шла вразрез с
известным принципом журнала "Оры": запретить на страницах журнала
освещение сиюминутных политических событий. Соответственно Шиллер в письме от
29 ноября 1794 года напомнил Гёте, что по меньшей мере надо избежать в этом
плане одностороннего акцента (в пользу тайного советника), и Гёте тотчас
согласился еще раз просмотреть всю рукопись, с тем чтобы уравнять шансы
спорящих (из письма Гёте к Шиллеру от 2 декабря
Вслед за резким
столкновением политических суждений и отъездом разгневанного тайного советника
развернулся горячий спор о том, как же теперь восстановить добрые
взаимоотношения в кружке и в своих высказываниях избегать такого, "что
разозлит другого и выведет его из себя" (6, 132). Карл тут же осознал
недопустимость своего поведения и попросил прощения у опечаленной баронессы. А
баронесса призвала всех членов семейства к порядку и потребовала от них "светского
такта": в обществе нужно вести себя прилично. Баронесса предложила далее
ежедневно по нескольку часов посвящать развлечению и посоветовала ввести иные
забавы, а именно "Поучительные и одушевляющие беседы", чтение стихов,
философские раздумья, а также размышления о естественнонаучных предметах —
словом, любые беседы: "Поучительные, полезные и в особенности
занимательные" (6, 234).
Скоро вернулся
священник, ничего не подозревавший о злополучном происшествии, и тут начался
долгий разговор о том, как можно развлечь светский кружок рассказами. У него
собрана целая коллекция
119
историй,
"обладающих более истинной и чистой прелестью,
нежели прелесть новизны", заявил старик. Они-де "на какие-то
мгновения открывают нам человеческую натуру и ее сокровенные глубины, а иные
потешают нас забавными дурачествами" (6, 136). Священник — впрочем,
человек весьма светский — далее принимается обстоятельно рассуждать о
пристойных и непристойных историях и, наконец, в тот же вечер за столом сам
приступает к рассказу, предварив его следующим наставлением: "Ни к одной
из моих историй не следует подбирать ключ!" (6,138).
В рамочный рассказ
своих "Разговоров" Гёте таким образом включил подробные и тонкие
раздумья о жанре малой повествовательной прозы. Иные литературоведы даже
полагали, что в данном эпизоде, как и в последующих вставках между отдельными
историями, перед нами не что иное, как эскиз теории новеллистики, сами же
истории — всего лишь примеры, образцы, призванные иллюстрировать эту теорию.
Однако изложенные в виде диалога мысли все же не составляют сколько-нибудь
связной теории новеллы, да и истории, рассказанные членами кружка беженцев,
отнюдь не всегда отвечают этим мыслям. Старик из "Разговоров", то
бишь священник, явно намерен потчевать общество короткими рассказами,
побуждающими к раздумью, но притом еще и занимательными. Он превозносит
многообразие своей коллекции, и хотя бы уже по одному этому было бы ошибкой
полагать, что в "Разговорах" мы найдем единую схему литературных
форм, а не то и обзор основных возможных вариантов новеллистского
повествования. Существует много больше видов новеллистской прозы, чем о том
можно судить по образцам, представленным в маленькой коллекции
священнослужителя.
Словом, в тот же
вечер старик рассказал историю певицы Антонелли, отказавшейся в последний раз
навестить умирающего друга, в прошлом ее возлюбленного, после чего долгое время
ее преследовали какие-то зловещие звуки.
Вслед за ним другую
историю рассказал Фридрих — о духе, производившем стук, — и он тоже тщился
привести пример загадочного и непостижимого. Перед нами, стало быть, два
рассказа, суть которых ускользает от требований рассудка. Мало того, даже в
связующем рамочном повествовании и то случается чудо: с громким треском
раскалывается выпуклая крышка письменного стола. Вскоре выясняется, что в тот
же
120
самый миг в имении
тетушки рассказчика сгорел точно такой же письменный стол, изготовленный тем же
мастером, в одно и то же время с первым, из одного и
того же дерева.
Глубокой ночью берет
слово Карл, чтобы поведать о любовном приключении маршала Бассомпьера, затем он
вспоминает еще и другую историю, герой которой — один из предков маршала.
Итак, мы видим, на
этот вечер пришлась предельно насыщенная программа выступлений. На другой день
старик уже после завтрака рассказал еще две довольно длинные истории. Первая —
про молодую женщину, которой уехавший муж предоставил право вкушать любовные
утехи с другим. Однако ее избранник — прокуратор, молодой правовед — сумел
внушить ей, что, "кроме плотского влечения, в нас еще есть нечто, могущее
создать ему противовес; что мы способны отречься и даже противоборствовать
самым пылким своим желаниям" (6, 172). Герой второй новеллы — некий
Фердинанд, совершивший кражу, но впоследствии раскаявшийся в своем поступке и
загладивший его примерным поведением. И наконец, вечером была рассказана
"Сказка" — так нарочно и озаглавленная в тексте.
Конечно, истории
первого вечера не столь значительны, как рассказы второго дня, и все же не
будем спешить объявлять три последних прозаических куска "собственно
новеллами" в отличие от историй, рассказанных накануне, якобы чисто
занимательных. Потому что и в историях первого вечера тоже проявилось искусство
повествования, характерное для малых форм: продуманная четкость, прочная
целеустремленность в полной мере присущи этим новеллам. История прокуратора
(кстати, уже фигурировавшая в сборнике "Сто новелл"), который
нравственно исцелил купеческую жену, алчущую телесной любви, в фривольности и
пикантности не уступает мемуарам Бассомпьера, однако вершина повествования —
продуманное отречение от прелюбодеяния. В этом эпилоге уже ощущается дух Гёте
последних лет творчества. Пусть истории второго дня посвящены нравственным
проблемам: "Поистине, этот рассказ прежде многих других заслуживает
название морального рассказа", — говорит баронесса про новеллу о
прокураторе, и все же ни от слушателей, ни от читателей "Разговоров"
не укроется подспудная ирония, с которой рассказчик излагает все эти
удивительные происшествия и
121
проповедует жизненную
мудрость, вложенную в уста действующих лиц.
Рассказанные в
первый вечер истории привидений тоже не приходится отвергать как пустячные,
способные лишь потешить любителей мистики и невероятных происшествий. Не только
беженцы, выведенные в "Разговорах", но и сам автор рамочной новеллы в
ту пору переживали сложную историческую и личную ситуацию. Истории, содержавшие
моменты непостижимые, не поддающиеся разумному объяснению, поэтому
воспринимались как отзвуки исторических событий, которые потрясли Европу. Ведь
и события эти не поддавались привычному пониманию, и, казалось, за ними также
угадывались происки таинственных сил. От "Великого Кофты" до историй
с привидениями в "Разговорах" не такая уж большая дистанция.
Занятый работой для
журнала "Оры", Гёте пробовал свои силы в малых повествовательных
формах, которые пришлись ему кстати: ведь здесь на тесном пространстве он мог
создавать разные характеры и модели поведения, живописать будничное и
необыкновенное, удачные и неудачные жизненные фазы, а также опробовать свою
способность рассказчика.
Гёте учился
повествовательному искусству, каковое давно уже было представлено в известных
сборниках романской литературы. Пять новелл "Разговоров" (включая
"Сказку") из семи имеют своей первоосновой французские оригиналы.
Оглядывая многообразие малой прозы, которой немецкая литература всегда была
богата как до Гёте, так и в его время, можно сказать, что гётевские новеллы в
"Разговорах" отличаются от всех прочих емкостью повествования,
искусной художественной обработкой сюжета, четким выделением кульминационных
точек, умелым развертыванием первоклассной фабулы, богатым набором намеков и
интерпретаций. Однако эти новеллы не объединены центральной тематикой, которая
указывала бы на общее представление о человеке. Отсутствует в них и
сколько-нибудь единая манера повествования, поддающаяся терминологическому
определению и могущая служить образцом новеллистского стиля. Впрочем, термин
"новелла" в ту пору употреблялся редко. После опубликования
"Разговоров немецких беженцев" Гёте вообще часто обращался к жанру
малой прозы. Его романы, особенно "Годы странствия", насыщены
новеллами, а одна из его поздних прозаических работ попросту озаглав-
122
лена:
"Новелла". В беседе с Эккерманом Гёте 25 января 1827 года заявил, что
"новелла и есть свершившееся неслыханное событие" (Эккерман, 215).
Однако это определение можно разумно отнести лишь к строго организованному
рассказу умеренного объема, ведь в принципе рассказ может содержать и больше
одного "неслыханного события", как и больше одного поворотного пункта
и прочих вершин повествования. И писатели, и литературоведы неоднократно
пытались дать адекватное и емкое определение новеллы, однако многообразие жанра
препятствует фиксации общих признаков в области формы, как и содержания.
Гётевские новеллы достаточно убедительно это демонстрируют. Что же касается
теории новеллы — по сей день это лишь череда тщетных попыток дать обобщающее ее
определение.
Возможно, что Гёте
собирался написать продолжение "Разговоров". Однако, раз завершив их
"Сказкой", он уже не мог вернуться к другим, "несказочным"
историям. Продолжить "Разговоры" можно было лишь ценой серьезной
перемены стиля, на что Гёте никогда бы и не пошел. Ведь и
"Разговоры", и "Сказку" он выпустил из своих рук,
"чтобы они с помощью продукта фантазии как бы затерялись в
бесконечности" (из письма Гёте Шиллеру от 17 августа
Насколько свободна
игра гётевской фантазии, настолько точно скомпонована сказка; пусть здесь не
место законам природы, законам реального мира, зато очевидно суровое господство
закономерностей, своеобразная роль которых выявляется лишь самой сказкой, по
мере развития повествования, и они наполняют фантастический сюжет непререкаемой
внутренней логикой. Насколько щедра игра авторского воображения, настолько
строго, с деловой обстоятельностью ведет автор свой рассказ. Искушенный
читатель распознает в эпизоде постройки сказочного храма мотивы закладки то ли
римского Пантеона, то ли собора св. Петра. Персонажи, предметы и образы, вполне
уместные в естественном реальном мире, транспонированы здесь в иной мир, особые
законо-
123
мерности которого,
диковинные сочетания и удивительные происшествия, должно быть, обладают неким
тайным значением, сокрытым под оболочкой слов и нуждающимся в распознании.
Читатель или слушатель сказки вряд ли избегнет искушения предложить свое
толкование этих значений, соотнеся сказочный мир с реальным и безапелляционно
утверждая, что автор, "собственно говоря", имел в виду то-то и то-то,
хотя старик рассказчик и предупреждал, что воображение в сказке "не строит
планов, не намечает путей, а взмывает ввысь на собственных крыльях" (6,
192).
Очевидно, что
сказочные конфликты и происшествия связаны с главной темой сказки — темой
разлуки и воссоединения. Разлученные ждут, когда вновь смогут соединиться,
несчастливые ждут снятия чар. Река безжалостно разделила берега. Лишь при
определенных условиях путник может перебраться с одного берега на другой.
Несчастная, но прекрасная лилия живет на одной стороне реки: всякий, кто
взглянет на нее, цепенеет, кто прикоснется к ней, — умирает. На другой стороне
реки глубоко под землей покоится храм. И лилия стенает:
Иль жизнь прожить мне счастью непричастной,
Всем даренному? Свыкнуться с тоской?
Зачем не вышел храм на берег праздный?
Зачем же мост не вырос над рекой?
(Перевод Н. Вольпин — 6, 206)
Одно за другим
происходят загадочные, фантастические явления, а персонажи сказки изрекают
многозначительные сентенции, напоминающие речения оракула. Трижды раздается
пророчество: "Урочный час близок!" Старик с лампадой утешает:
"Помогу ли я, мне неведомо... Один бессилен и не может помочь, но в
единении со многими в урочный час — может... Пусть каждый делает свое дело,
пусть каждый выполняет свой долг, и в общем счастье растворятся горести
отдельных живых существ, так же как меркнут радости отдельных живых существ при
общем несчастье" (6, 211—212). И избавление свершается. По спине змеи все
переправляются через реку, затем змея жертвует собой; останки ее тела,
принесенного в жертву, — самоцветные камни — превращаются в устои прочного
моста — "и по сей день еще кишит людьми мост" (6, 220). Храм движется
под водой к другому берегу и наконец выходит на по-
124
верхность, оживают
статуи трех королей, и с этой минуты "три начала властвуют миром:
мудрость, свет и сила" (6, 216), да еще "сила любви", которая, правда,
не властвует, а созидает. В объятиях прекрасной Лилии юный королевич очнулся
для новой, полноценной жизни. А великан утратил свою власть и застыл посреди
площади у врат храма, превратившись в могучий монумент, подобный обелиску в
Риме.
Все время кажется,
будто за внешней фабулой скрыт какой-то другой, глубокий подтекст, однако
сказка во всех ее деталях не поддается расшифровке. Всевозможные толкования,
предлагавшиеся хитроумными и восторженными интерпретаторами с первого дня
опубликования "Сказки", столь многочисленны и разнообразны, что здесь
мы даже не смеем приступить к обзору. Если эта сказка, как обещал нам старик
рассказчик, и впрямь призвана напомнить нам "обо всем и ни о чем" (6,
192), то уже сама по себе эта формулировка воспрещает фиксацию того или иного
истолкования и допускает подстановку всего важного в жизни людей и их истории.
Так, Шиллер вполне мог упомянуть в письме к Гёте от 16 октября 1795 года
"тень великана" в применении к военной угрозе со стороны французов, и
Гёте никоим образом не возражал против этого. А вот у самого Гёте никому еще не
удавалось выпытать сколько-нибудь стоящие намеки, которые помогли бы
расшифровать глубокий смысл сказки. "Самое главное в таких произведениях —
возбудить любопытство, — писал Гёте Шиллеру 3 сентября 1795 года, и дальше: —
Надеюсь, что восемнадцать фигур этой драмы, в качестве стольких же загадок,
должны быть приятны всем любителям загадок" (26 сентября
...Зиждущие силы
Великой родины разобщены,
125
Не связаны их единившей целью,
Как было некогда, спокон веков.
Распались связи! Каждый помышляет
Лишь о себе одном...
(Перевод Н. Вильмонта — 5, 412)
В счастливом эпилоге
"Сказки", как и в самом характере этого эпилога, в утопической форме
выражена неослабная мечта Гёте: мечта о том, что беды и разлуку, раскол и
вражду, антагонизм социальных сил можно и должно преодолеть согласием,
требующим жертвы, с помощью преобразований, способных превратить старое в
умиротворенное новое и открыть дорогу счастью. Совершенно очевидно, что Гёте
воспользовался здесь также своим знанием тайного языка масонов, стремясь
воплотить свою идею в образах и символах, в то же время запрятав ее под
оболочкой таинственных происшествий, каковым в конечном счете надлежит эту идею
раскрыть. Наподобие алхимических процессов, в которых герметики (как известно,
Гёте увлекался ими не только во франкфуртский период своей юности) усматривали
всю совокупность сил, движущих миром, в "Сказке" перед нами предстают
циклы поисков и обретения, взаимного влечения и отталкивания. Может быть, Гёте
именно потому так упорно отмалчивался насчет интерпретации этого произведения,
чтобы завуалировать свой очередной возврат к эзотерическим мотивам?
Когда и где появляется классический национальный автор?
Дружеский союз с
Шиллером, выведя Гёте из угнетающей изоляции, снова вдохновил его на
поэтическое творчество, на завершение "Годов учения Вильгельма
Мейстера". Точно так же и размышления о месте и задачах искусства и
литературы сделались прочной составной частью совместных раздумий. Оба поэта
были в высшей степени недовольны как публикой, так и критикой. Журнал
"Оры" не встретил у читателей ожидаемого отклика, а первое собрание
сочинений Гёте, изданное Гёшеном (1787—1890), расходилось много хуже, чем следовало
ожидать. С удивлением и раздражением поэт убеждался, что его публикации на
научные темы, которым сам он придавал большое значение, не возбуждают у публики
почти никакого
126
интереса. В марте
1795 года некто Даниэль Йениш, даже после опубликования своего "шедевра"
"Боруссиас" (1794) не попавший в историю литературы, выступил со
статьей в журнале "Берлинский архив современного вкуса", в которой
сокрушался, что немецкая литература-де столь "бедна замечательными
классическими произведениями прозы".
Гёте тут же опубликовал
реплику на эту статью в пятом номере журнала "Оры" (1795).
"Литературное санкюлотство" — так озаглавил он свое короткое эссе.
Пользуясь понятием, заимствованным из современного ему политического обихода, и
орудуя им как ругательством, поэт атаковал "эти невежественные притязания
на то, чтобы не только протиснуться в круг достойнейших, но и заступить их
место" (10, 270). Гёте быстро подошел к главному и принципиальному
вопросу: "Когда и где появляется классический национальный автор?" —
и безошибочно назвал ряд необходимых условий для развития классического автора,
то есть такого автора, который литературным вкусом целого народа признан
образцовым писателем, формирующим также стиль прочих собратьев по перу. Словом,
по Гёте, классический автор появляется тогда, когда он застает в истории своего
народа великие события; когда в образе мыслей своих соотечественников он не
видит недостатка в величии, равно как в их чувствах — недостатка в глубине, а в
их поступках — в силе воли и последовательности, когда сам он "проникнут
национальным духом", когда он застает свой народ "на высоком уровне
культуры", когда он имеет предшественников, чтобы не все приходилось ему
создавать самому. Если учесть все сказанное и с этой точки зрения рассматривать
положение в отечественной литературе, то несправедливо было бы легкомысленно
порицать "лучших немецких писателей нашего века" — достижения их
достаточно весомы. Здесь и дальше, с похвалой упомянув Виланда, Гёте, конечно,
имел в виду и самого себя: в конце концов, наглый критик отозвался о его
собственных произведениях так, словно они ничего особенного собой не
представляли. Превосходного национального писателя можно ожидать лишь при
наличии настоящей нации. Однако Германия политически раздроблена, и к тому же
"нигде в Германии не существует такой школы жизненного воспитания, где
писатели могли бы встречаться и развиваться в едином направлении, в едином
духе, каждый в своей области" (10, 271).
127
И тем не менее Гёте написал: "Не будем
призывать тех переворотов, которые дали бы созреть классическому произведению в
Германии" (там же). Эту фразу часто цитируют, но она все равно нуждается в
пояснении. Как бы она ни звучала, все же вряд ли Гёте имел в виду перемены по
образу и подобию Французской революции. Тот, кто в Германии исповедовал
революционные идеи, отнюдь не помышлял о создании единого общенационального
государства, как показали майнцские события. Французская революция не создала
нации, а лишь подчинила автономные регионы, с их особой спецификой и правами,
централистски организованной системе. Император Иосиф II равно преследовал как экспансионистские, так
и централистские цели, которые Гёте, как "ученику" Юстуса Мёзера,
нисколько не нравились. В своем "Эгмонте" поэт, в частности, выступал
также за исконные, освященные традициями прошлого права того или иного региона.
За сохранение любой самобытности и индивидуальности. Стало быть, Гёте не желал
такой перестройки политической карты страны, которая привела бы к нивелировке
многообразия, равнозначного для него жизненному цветению. Пусть уж лучше меньше
будет "классиков". Но, может быть, та самая фраза насчет переворотов,
которая, кстати, производит впечатление нарочитой вставки, имеет одно
назначение: перед лицом читательской аудитории журнала "Оры" подтвердить
свое опасливое отношение и отвращение к любым насильственным изменениям
существующего, без которых, однако, нельзя было устранить политическую
раздробленность? Но, возможно, не столько государственное единство имел в виду
Гёте, сколько идейно-политическое единообразие, тот идеологический
тоталитаризм, который пышным цветом расцветал в стране великого западного
соседа? А чуть позднее, в "Ксениях", общем творении Гёте и Шиллера,
та же проблема вновь поднимается уже в несколько ином аспекте:
Нацией стать — понапрасну надеетесь, глупые немцы.
Начали вы не с того — станьте сначала людьми.
(Перевод В. Топорова — 1, 241)
Тем самым желание
иметь национального автора оттеснялось на задний план. Острая политическая ситуация
породила добродетель: психологию гражданина мира, и психология эта помогла
возвыситься над нищетой исторической реальности и кое-как терпеть
128
ее. Остается лишь
вопрос: каким образом древним грекам, политически столь же разрозненным, как и
немцы, удалось создать "классическое" искусство и литературу, что
Гёте и Шиллер уж никак не ставили под сомнение?
Ни дня без эпиграммы. "Ксении" в борьбе
Должно быть, много
раздражения накопилось в душе у Гёте, коль скоро 23 декабря 1795 года он
предложил Шиллеру написать эпиграммы на все журналы, "вроде ксениев
Марциала" (письмо от 23 декабря
129
люди, но об
оригинальности, выдумке, характере, целостности, как и об уровне произведения
искусства, они не имеют ни малейшего понятия. Словом,
у них нет вкуса. Само собой, я говорю о среднем немце".
К уровню среднего
немца в последнее десятилетие самым неприятным образом приспосабливались авторы
романов и пьес. Могли ли в этих условиях поправить дело "Ифигения",
"Эгмонт" и "Тассо"?
А теперь еще и
"Оры", журнал, призванный воспитывать публику, не получил желаемого
резонанса. Тут уж, понятно, просто не терпелось взять на мушку другие журналы и
разить их острыми эпиграммами. "Мысль насчет ксениев великолепна и должна
быть приведена в исполнение", — ответил Шиллер на предложение друга, вот
только, если задумана сотня эпиграмм, тогда "придется нападать и на
отдельные произведения" (29 декабря
Так оно и шло
дальше. В редкие часы досуга, выпадавшие после работы над более крупными
вещами, оба поэта сочиняли эпиграммы, злобно-язвительные и добродушные,
рожденные в совместном творчестве и в одиночку — во всяком случае, в условиях
непрестанного обмена мыслями, а также насмешками и дерзостями, адресованными
недругам. Поэтому в отношении многих двустиший даже невозможно установить, кому
из двух поэтов принадлежит окончательная редакция. Так обильны были плоды творческого
порыва, охватившего друзей, что вопрос о публикации подборки эпиграмм, с таким
расчетом, чтобы она составила стройное целое, потребовал особых размышлений.
Ведь Гёте и Шиллер писали не только воинственные, но также и "невинные
ксении", философские и "чисто поэтические" (из письма Шиллера к
Гёте от 1 августа
1 Ни дня без эпиграммы (лат.).
2 Надписи с посвящением (лат.).
130
чими эпиграммами, в
том числе принадлежащими перу Гёте, были опубликованы в "Альманахе
муз" за 1797 год, который разослали подписчикам в октябре. Таким образом,
увидели свет далеко не все эпиграммы. Только в 1893 году Эрих Шмидт и Бернгард
Зуфан, уже имея в своем распоряжении все творческое наследие обоих поэтов,
напечатали все ксении, в общей сложности — 926. И Гёте, и Шиллер в свое время включили
в собственное собрание сочинений лишь небольшое число этих двустиший. Гёте к
тому же собрал ряд двустиший в цикл "Четыре времени года". Дело в
том, что обоим поэтам эпиграммы эти представлялись чрезмерно сиюминутными —
Гёте и Шиллер боялись, что скрытые в них намеки будут непонятны читателям более
поздних времен.
И правда, это было
"сумасшедшее и рискованное предприятие", как назвал его Гёте в письме
к Шиллеру от 15 ноября 1796 года (Переписка, 210), со стороны авторов
"Ксений". Они открыли тем самым литературную войну, по числу
уязвленных критикой, по остроте, язвительности и колкости намеков не имеющую
себе равных. Гёте и Шиллер отважно выступили против своих литературных
недругов, отлично сознавая, на какой риск идут. Наконец-то заключив между собой
союз, оба поэта обрели самосознание и уверенность, что вдвоем они представляют
собой некое духовное учреждение, правомочное вынести свой приговор другим
журналам и авторам. Надежда обоих, что журнал "Оры", в силу своего
нарочито провозглашенного высокого уровня, будет встречен публикой если не с
одобрением, то по меньшей мере благожелательно, — надежда эта не оправдалась:
критических отзывов оказалось много больше, чем хвалебных. Так, Вильгельм
Гумбольдт сообщал Гёте из Тегеля: "К "Орам" здесь не слишком благосклонны.
Особенно не прощают журналу того, что, судя по извещению о его основании, он
намерен быть лучше других журналов" (22 августа
В периодических
изданиях того времени были опубликованы рецензии уже на самые первые номера
нового журнала, причем настолько подробные, основательные, многостраничные, что
современные рецензии в сравнении с ними кажутся образчиками исчезновения
серьезной критики. Насколько обстоятельны были эти рецензии, настолько резкой
была содержавшаяся в них критика. Вновь и вновь повторялись одни и те же
упреки. Стремление издателей "Ор"
131
дать публике нечто
лучшее, нежели то, чем потчевали ее другие журналы, было воспринято как
дерзость. Многие произведения, опубликованные в "Орах", объявлялись
слишком сложными, эзотеричными: мол, небольшая горстка писателей
"вращается в своем собственном узком кружке, в который нет доступа
непосвященным, да и у народа с ними так мало общего, что он поостережется
приблизиться к ним, словно вокруг них очерчен магический круг" ("Анналы
философии и философского духа", октябрь
Письма об
эстетическом воспитании человека находили чрезмерно сложными и абстрактными.
Директор Бреславльской гимназии Манзо даже не побоялся заявить, будто стиль
Шиллера представляет собой всего лишь "нескончаемую омерзительную смесь
наукоподобных абстрактно-теоретических и прекраснодушных фраз"
("Новая библиотека гуманитарных наук и свободного искусства",
сентябрь
Гёте и Шиллеру все
это представлялось бунтом посредственности, и возможно, что многие журналы и
авторы, хоть и далеко не все, и впрямь заслуживали подобной оценки. Во всяком
случае, оба поэта считали, что не встречают ни заслуженного признания, ни
должного понимания. Поэтому они и решили преподнести своим противникам и даже
кое-кому из недавних друзей свои колючие "подарки". Оборона от
критики переросла в атаку на низкий уровень литературного дела, в полемику с
литературными противниками и кое-какими удручающими тенденциями того времени.
Досталось, в
частности, и журналу "Дойче монатсшрифт" ("Германский
ежемесячник"):
132
Немцев искусство слывет обычно убогим.
Знать, и ты, "Ежемесячник", этого толка продукт?
А вскоре оба поэта в
одной из эпиграмм почтили своей иронией и публику, не желавшую идти в ногу с
журналом "Оры":
ОРЫ. ПЕРВЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ
То слишком серьезен журнал, то дерзко вперед забегает,
Что бы ему сонным шагом публики нашей плестись?
Не одна критическая
стрела была выпущена в журнал "Библиотека изящных искусств", в
котором сотрудничал Манзо:
БИБЛИОТЕКА ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ
Год за годом уже мы ситом черпаем воду.
Не наполняется сито — как и камень нельзя растопить.
Тому же журналу
посвящена и другая эпиграмма:
Убогим поэтам вотще лазарет предназначен вот этот.
Немощь и бешенство здесь чахоткой готовы лечить.
Язвительной
насмешкой разили поэты также и отдельных лиц, представлявшихся им типичными
носителями духовного убожества той поры. А ксении должны были стать своего рода
огнивом, рождающим пламень, и читателю авторы добродушно советовали:
В меру охоты читай нас, в радости, как и в горе,
Так же и мы духом добрым, иной раз — и злым рождены.
Предполагалось,
однако, что подборка в "Альманахе муз" прочно испортит настроение
всем подвергшимся осмеянию. Иные из них сделались излюбленной мишенью авторов ксении:
например, критик и поэт Иоганн Фридрих Каспар Манзо, Николаи, Рейхардт, как и
противники Гёте в сфере естественных наук. Фридрих Николаи, типичный
представитель берлинского Просвещения, в свое время злобно пародировал
"Вертера". Начиная с 1783 года он стал публиковать многотомное
"Описание путешествия по Германии и Швейцарии", за что удостоился не
только нижеследующих язвительных строк — целый сонм стрел был выпущен против
него:
133
НИКОЛАИ
Все колесит по дорогам наш Николаи почтенный.
Жаль, что в царство рассудка он не находит пути.
Или еще:
ЭМПИРИЧЕСКИЙ УПРЯМЕЦ
Бедный жалкий эмпирик, даже познать ты не можешь
Глупость свою до конца — для этого слишком ты глуп.
Свыше 70 эпиграмм
направлены против Иоганна Фридриха Рейхардта. А ведь он много лет поддерживал с
Гёте дружеские отношения, даже написал музыку к некоторым из его пьес. Мало
того, изящно сплавив искусство с народными мотивами, он положил на музыку ряд
стихотворений (не только одного Гёте). Словом, Рейхардт известен как выдающийся
композитор-песенник периода ранней немецкой классики.
Рейхардт родился в
1752 году в Кёнигсберге, в семье бедного музыканта. Благодаря покровительству
потсдамского композитора Франца Бенда он в 1776 году был назначен придворным
капельмейстером прусского короля Фридриха Великого. Пребывая в этой должности,
он заботился о музыкальном просвещении берлинцев, знакомил их с ораториями
Генделя и симфониями Гайдна. В период с 1781 по 1791 год Рейхардт издавал
журнал "Музыкальное искусство", в котором публиковал собственные
музыкальные сочинения и статьи об искусстве музыки. Пробовал он свои силы также
и в литературе (его перу принадлежит, в частности, "Жизнеописание
знаменитого музыканта Германа Вильгельма Гульдена", изданное в
В 1785 году он
предпринял поездку в Лондон и Париж, снискавшую ему множество поклонников.
После смерти Фридриха II,
последовавшей в 1786 году, преемник прусского короля разрешил композитору
расширить рамки творческой деятельности, в частности ставить на сцене свои
оперы, одновременно назначив ему хорошее жалованье; словом, Рейхардт зажил на
широкую ногу. С 1781 года он переписывался с Гёте, в 1789 году даже дважды
навещал его в Веймаре и уговаривал в соавторстве с ним создать оперу. Однако
Гёте так и не написал просимого либретто. Без сомнения, в ту пору Рейхардт был
для поэта ценным советчиком в музыкальных вопросах: Гёте обсуждал с ним
проблемы театральной практики и именно
134
ему откровенно
жаловался в письмах на публику, на скверный вкус немцев. В 1790 году в Берлине
взяли верх любители итальянской музыки, вследствие чего положение Рейхардта
осложнилось. В 1791 году он получил трехгодичный отпуск с полным сохранением
содержания и отныне жил уединенно в своем поместье в Гибихенштайне близ Галле.
Уже в ранних литературных опытах Рейхардта проступали антифеодальные тенденции,
поэтому казалось вполне естественным, что он сочувствовал Французской
революции, хоть не считал нечто подобное ей возможным или даже желательным в
Германии. В 1792 году он поехал во Францию, считая себя твердым сторонником
конституционной монархии. Подобно чуть ли не всем посетителям этой страны,
переживавшей в ту пору величайшее брожение, он был предельно раздражен
сложившейся ситуацией, но при всем при том по-прежнему не сомневался в
необходимости переворота. Его "Доверительные записки о Франции,
составленные во время путешествия в эту страну в 1792 году" были изданы
анонимно, в двух частях, уже в 1792—1793 годах. Вскоре Рейхардт лишился своей
должности придворного капельмейстера, но не по причине опубликования "Доверительных
записок", а из-за своих дружеских связей с республиканцами, которые
поддерживал в Северной Германии в 1793 году. Была и другая причина: Рейхардту
ставили в вину антимонархистские высказывания. Будто бы за карточным столом он
сказал, что все короли заслужили судьбу казненного Людовика XVI. В общем, в октябре 1794 года Рейхардт сразу
лишился и должности, и жалованья. Фридрих Вильгельм II не пожелал выслушать его и даже не стал
назначать полагающегося в таких случаях расследования. Теперь Рейхардт пытался
снискать успех на стезе публициста. Он взялся издавать журнал
"Франция" и в своих статьях решительно выступал с республиканских
позиций, с той лишь разницей, что не одобрял якобинский террор. В 1795 году он
основал журнал "Германия", который, однако, просуществовал всего лишь
два года — в нем Рейхардт с равным пылом выступал как против деспотичных
монархов, так и против якобинской тирании. В этом же журнале он опубликовал
пространную, резко критическую статью о журнале "Оры": отвергая
концепцию эстетического воспитания как средства разрешения социальных невзгод,
он одновременно иронизировал над противоречием между декларацией
135
журнала о
политическом нейтралитете и политическим консерватизмом, проступающим во всех
его публикациях.
Веймарцы своими
Ксениями нанесли ему ответный безжалостный удар, выставив в них прежде
почтенного придворного капельмейстера, знатока музыки и театра, этаким
псевдореволюционером, любителем ловить рыбку в мутной воде, вроде
небезызвестного Шнапса из гётевской пьесы "Гражданин генерал":
КО МНОГИМ
Государей своих вы сперва доили усердно,
Ныне ж нахлебники свергнуть готовы прежних господ.
Или вот еще другое:
РАЗНАЯ ДРЕССИРОВКА СОБАК
Знатные псы — те рычат на попрошаек, на нищих,
Демократический шпиц лает на бархат, на шелк.
После этого
конфликта лишь спустя много лет наступило некоторое сближение. Зимой 1800—1801
гг. Гёте перенес серьезное заболевание, и тут, после многих лет взаимного
молчания, Рейхардт написал ему: "Одно лишь чувство у меня: какое счастье,
что Вы уже вне опасности!" (письмо от 21 января
В 1796 году
Рейхардта снова приняли на службу при прусском дворе, правда уже не в качестве
капельмейстера, а директора солеварни (?) в Галле. В этой должности он пребывал
вплоть до 1806 года, причем ему дозволялось в зимние месяцы музицировать с
королевским оркестром в Берлине, а также давать уроки музыки королеве Луизе.
Его дом и парк в Гибихенштайне приобрели славу гостеприимной оби-
136
тели, где собирались
литераторы, особенно представители течения раннего романтизма. Впоследствии
войска Наполеона, поскольку Рейхардт зарекомендовал себя его противником,
разрушили его усадьбу. Под впечатлением наполеоновских территориальных
притязаний композитор в конечном счете из друга французов превратился в
поборника сплочения немецких князей против агрессора, угрожающего немцам с
Запада.
Досталось от авторов
"Ксений" и Фридриху Штольбергу, некогда юному спутнику Гёте по его
первому путешествию в Швейцарию в 1775 году. Еще в 1788 году граф Штольберг
выступил против стихотворения Шиллера "Боги Греции", возмущаясь его
языческими мотивами. Впоследствии, переводя "Избранные беседы
Платона", Штольберг снабдил их предисловием, в котором утверждал, что
учение Сократа, ввиду его "созвучия с великим учением нашей церкви",
должно обрести для всех верующих "престиж божественного слова". Гёте
посчитал подобную интерпретацию греческой древности "отвратительной"
и назвал ее "пачкотней графа-пустомели" (из письма Шиллеру от 25
ноября
И Штольбергу тут же
досталось на орехи:
ДИАЛОГИ ИЗ ГРЕЧЕСКОГО
Для воспитания душ наш уважаемый Штольберг,
Граф, поэт, христианин, онемечил беседы Платона.
Или вот еще другое:
УТЕШЕНИЕ
Клеймил богов Греции ты — Аполлон тебя сбросил с Парнаса, —
Что ж, зато в царство божие ты, видно, скоро войдешь.
Случались, однако,
ксении и другого рода. Если двустишия, направленные против вполне конкретных лиц,
в большинстве случаев одновременно клеймили еще и какое-нибудь типичное для той
поры явление, то другие эпиграммы в афористической форме провозглашали общие
истины. Двустишия этого рода легко вписывались в подборку, для которой Шиллер к
тому же придумал вольный "сюжет": ксении-де отправились на
Лейпцигскую книжную ярмарку, где познакомились и с журналами, и с авторами
разных писаний и всех их сделали мишенью своих язвительных реплик. Далее ксении
стали "путешествовать" по
137
немецким рекам, а
под конец даже спустились в подземное царство, где им тоже представилось немало
поводов высказаться, за чем последовали диалоги с
философами, с Геркулесом и Шекспиром о плачевном положении современной
отечественной драматургии. (Впоследствии из этих ксений выросли стихотворения
Шиллера "Философы" и "Тень Шекспира".)
Своеобразный
скептический реализм, одинаково далекий как от голубой утопии, так и от
мрачного пессимизма, нашел свое выражение в эпиграммах "на общие
темы" — правомерность скепсиса этого подтвердили события, последовавшие за
революцией, которая провозгласила столь высокие цели:
ЗОЛОТОЙ ВЕК
Правда ль, что в целом лучшает с веками людская порода?
В целом — возможно. Не будь целое суммой частей.
(Перевод В. Топорова — 1, 241)
Разумеется, дистихи,
не вошедшие в подборку ксений и опубликованные преимущественно в
"Надписях", содержали аналогичные мысли и провозглашали принципы, в
ту пору особенно важные для Гёте и Шиллера. И если у древних римлян
"надписи" содержали тексты, из благодарности посвященные богам, то в
дистихах Гёте и Шиллера формулировались взгляды поэтов по разным вопросам:
вопросам политики, искусства, философии, образа жизни. Истинный государь —
только тот, "кто быть им способен". И если хотят предотвратить
столкновения, чреватые насилием, необходимо сочетать "благоразумие —
сверху" и "добрую волю — снизу". Отдельный человек — как, в
частности, показано в романах о Вильгельме Мейстере — может добиться полного
самоосуществления лишь в союзе с другими людьми:
К целому вечно стремись, а коли не можешь стать целым,
Частью доброго стань — и ему послужи.
Разум и красота —
проявления бесконечного абсолютного и как таковые внушают религиозное чувство:
Высшее, бесконечное, сам создает себе разум.
В деве прекрасной дух высший — в сердце ее и в глазах.
Двустишия отражали и
глубоко личные чувства
138
их авторов.
Новообретенной радости их — творческой дружбе — посвящены следующие строки:
ВЗАИМОВЛИЯНИЕ
Дети об стенку мяч бросают и сызнова ловят.
Жду, чтобы резво назад мяч мне бросил мой друг.
Осенью 1796 года
вышел в свет "Альманах муз" с большой подборкой ксений. Событие это
сильно взбудоражило публику, по крайней мере читателей, интересовавшихся
литературой, — правда, таких тогда, как и теперь, было не столь уж много. Одних
смешили дерзкие щелчки и остроты, другие же были всем этим чрезвычайно
удручены. Одни смотрели на лихие выпады как на чисто интеллектуальные забавы,
другие же усматривали в них намеренно оскорбительный умысел. "Все
взбудоражены этим бесстыдным поступком", — писал 30 октября из Веймара
Бёттигер. А старик Глейм заявил: "От подобной перебранки Гёте и Шиллеру
лучше бы воздержаться..." (письмо от 27 ноября
Начало мирного десятилетия
Война ксений была
лишь эпизодом на творческом пути обоих поэтов. Но она стала свидетельством
самосознания друзей, начавших эту войну, была также средством проверки и
укрепления новой дружбы. Писатель, выступивший с подобным дерзким вызовом, тем
самым брал на себя обязательство и впредь собственными творениями оправдывать
самые высокие запросы. Журнал "Оры", однако, при том, что в нем
публиковались, особенно в первых номерах, отличные литературные и теоретические
работы, оказался нежизнеспособен — виновата в том была публика, не доросшая до
уровня авторов журнала. Но и у самого Шиллера, и у его сотрудников под конец
иссякла энергия. Выпустив в свет 12-й номер в 1797 году, издатель дал журналу
"покойно уснуть" (из письма к Гёте от 26 января
139
за другой появились
собственные драмы Шиллера: "Трилогия о Валленштейне", "Мария
Стюарт", "Орлеанская дева", "Вильгельм Телль", постановки которых восторженно встретила публика,
"Мессинская невеста", "Деметриус" ("Дмитрий
Самозванец"), а также многочисленные переводы, обработки и стихи. А
гётевских "Германа и Доротею" Лафатер еще 29 ноября 1797 года
рассматривал как "искупительную жертву" за ксении.
Годы союза и дружбы
с Шиллером были для Гёте, судя по внешним обстоятельствам прочно и спокойно
осевшего в Веймаре и Йене, творчески чрезвычайно продуктивным временем, хотя,
конечно, литературную жатву этих лет нельзя оценивать лишь по числу завершенных
крупных произведений. И тут тоже выявилось, что Гёте в своем стремлении к
самоосуществлению, которого он добивался, вновь и вновь сомневаясь в себе и
пробуя разные пути, не ограничивался одним лишь литературным творчеством.
Никогда не прекращал он творческой работы, но и не отдавался ей целиком, разве
что временами, когда что-то надо было дописать, довести до конца. Словом, в
период между 1794 и 1805 годами Гёте завершил "Годы учения Вильгельма
Мейстера", написал ряд элегий в высоком классическом стиле, создал баллады
знаменитого "балладного года"; затем снова отважно принялся за
"Фауста", а в драме "Внебрачная дочь" (1803) пытался
выразить свои мысли о современности, истории, политике в образном поэтическом
материале, перевел жизнеописание Бенвенуто Челлини, попробовал свои силы в
переложении вольтеровских пьес "Магомет" и "Танкред" и все
это время неустанно писал стихи. В целом как будто получился немалый урожай. Но
необходимо учесть: пятиактная драма "Внебрачная дочь" — не больше чем
фрагмент; работа же над "Фаустом" начата давно; стало быть, в промежутке
между выпуском в свет "Германа и Доротеи" (карманное издание 1798
года) и "Избирательным сродством" (опубликовано в
140
леи" (которому, однако, был отпущен недолгий срок жизни: 1798—1800
гг.). Гёте без устали отдавал свое время естественнонаучным исследованиям,
неустанно проводил опыты, глубоко изучал историю учения о цвете. А с 1804 года
поэт был председателем "Минералогического общества" города Йена.
Оставалась еще неизменная служебная, официальная деятельность Гёте: он был
директором театра, осуществлял наблюдение за научными учреждениями Йены и
Веймара, курировал Йенский университет, руководил строительством дворца, а
также перестройкой театральных зданий в Веймаре и Лаухштедте.
Когда в августе 1796
года Гёте наконец завершил "Годы учения Вильгельма Мейстера",
Веймарскому герцогству уже не угрожала война. В апреле 1795 года Пруссия
добилась сепаратного Базельского мира с Францией — к этому соглашению о мире
могли присоединиться также и другие немецкие государства. Карл Август развил
интенсивную дипломатическую активность, стремясь и своему герцогству тоже
обеспечить мир. Поначалу задача представлялась довольно сложной: Веймар входил
в сферу верхненемецкой империи, которой руководил саксонский курфюрст, а тот
еще не был готов присоединиться к добытому Пруссией мирному соглашению.
Курфюрст Фридрих Август III
хоть и желал прекращения войны, но, считая себя обязанным заботиться обо всей
империи в целом, полагал, что решение о заключении всеобщего мира непременно
должно быть утверждено рейхстагом. Вплоть до лета 1796 года тянулся период
бурных политических событий. Какое-то время казалось, что война захватит также
Тюрингию и Центральную Германию.
15 июля пал
Франкфурт, а через Вюрцбург вступил во Франконию генерал Журден. Карл Август
обосновался в Айзенахе, самом западном из городов своего герцогства, и отсюда
старался принимать все необходимые меры для безопасности подвластного ему края
и заключения мира. "Все полагают, что французы уже накинули на нас
петлю", — сообщал тайный советник Фойгт в Веймар своему приятелю и коллеге
(письмо от 21 июля
141
ки 10 часов, однако о том не жалею. Потому что курфюрст наконец-то
согласился принять посредничество Пруссии в переговорах о нейтральном статусе.
Стало быть, мы присоединяемся к курфюршеству Саксонскому, и отныне оно будет
нас представлять".
13 августа было
заключено перемирие между Францией и верхнесаксонским имперским округом, а 29
декабря
Гёте и Шиллер с
тревогой следили за политическими потрясениями 1795—1796 годов. В их переписку
той поры, посвященную по преимуществу ксениям, то и дело вплетались замечания
об угрожающем положении в стране. Гёте в одном из своих писем чуть ли не
буквально передавал другу то, что 21 июля сообщил ему Фойгт о состоянии военных
действий и об участи Франкфурта (письмо Гёте к Шиллеру от 23 июля
Спустя четыре дня
Гёте, уже на правах члена тайного Совета, продиктовал проект по ряду финансовых
вопросов, которые он желал разрешить в пользу Веймара. Наконец, 26 августа Гёте
записал в своем дневнике: "Отослал 8-ю книгу "Вильгельма
Мейстера". В октябре увидел свет четвертый том романа, в который вошли обе
последние книги. Этот четвертый том был в то же время шестым томом гётевского
собрания сочинений, издаваемого Унгером.
142
УЧЕНИК, НЕ СТАВШИЙ МАСТЕРОМ.
"ГОДЫ УЧЕНИЯ ВИЛЬГЕЛЬМА МЕЙСТЕРА"
Об изданиях и издателях
Когда в январе 1795
года вышел в свет первый том "Годов учения Вильгельма Мейстера", весь
роман еще не был завершен. Гёте изо всех сил старался закончить труд, начатый много
лет тому назад. «В саду диктовал "Вильгельма Мейстера"», — записал он
в своем дневнике 16 февраля 1777 года — это первые известное нам упоминание о
зарождении нового произведения. Год за годом, ценой огромных усилий,
параллельно с выполнением своих административных функций, трудился он над
романом, временами читал из него отрывки знакомым, давал друзьям читать
рукопись или копии с нее. Наконец 21 ноября 1782 года Гёте сообщил Кнебелю:
"Скоро ты получишь первые три книги "Театрального призвания".
Они сейчас у переписчика". Шестая книга была завершена в ноябре 1785 года,
но на седьмой дело застопорилось. Гёте просто не мог продолжать задуманную
повесть о жизненном пути молодого поэта, который становится драматургом и
режиссером и целью жизни, объектом своего самоосуществления считает театр.
Словом, работа над "Театральным призванием Вильгельма Мейстера" не
продвигалась дальше даже во время пребывания Гёте в Италии, когда, случалось,
"приходили новые мысли к роману о Вильгельме" (из письма к Шарлотте
фон Штейн от 20 января
143
цюрихской знакомой
Барбаре Шультхес, и та вдвоем со своей дочерью не поленилась переписать
рукопись. Копия эта была обнаружена только в 1910 году, и, таким образом, с
1911 года мы располагаем также и текстом "Театрального призвания",
который долгое время считался утраченным навсегда. Теперь никто уже не может
проверить, сколькими ошибками мы обязаны старательным переписчицам; увы,
оригиналом "Призвания" Гёте мы не располагаем. Однако в нашем
распоряжении нет и бесспорно аутентичного авторского текста "Годов
учения". Сохранился только переписанный от руки текст седьмой книги.
Рукопись же, по которой наборщики издательства Унгера в 1794—1796 годах
набирали текст книги, пропала: в те времена типографии не возвращали рукописей,
а чаще всего просто уничтожали их. Теперь уже невозможно установить, кто читал
корректуру, вносил исправления или, наоборот, — ошибки. При подготовке
последующих изданий романа Гёте всегда располагал только его последним —
печатным — вариантом. Разумеется, выше речь шла о специфически филологических
тонкостях. Однако само по себе указание на неточности в тексте "Вильгельма
Мейстера" может послужить благоприятным поводом для краткого обзора
прижизненных изданий произведений Гёте. Даже если не вникать в детали, в
которых, бесспорно, таятся корни всяческих перипетий, эта увлекательная история
не менее важна для гётеведения, чем тот факт, что мы никогда не будем
располагать полным собранием авторских текстов Гёте, соответствующих всем
филологическим требованиям бесспорной аутентичности.
Гёте отнюдь не был
первым, кто позаботился об издании полного собрания своих сочинений. Еще за 10
лет до этого предприимчивые издатели выбросили на книжный рынок пиратские
издания. В ту пору еще не было юридических норм, которые могли бы этому
помешать. В Биле (Швейцария) в 1775—1776 годах впервые появилось "Полное
собрание сочинений господина Гёте" в трех томах, не включавшее, однако,
его стихотворений. В то время славился пиратскими переизданиями берлинский
книготорговец Христиан Фридрих Гимбург, бойко занимавшийся своим ремеслом. В
период 1775—1779 годов он выпустил в свет тройной тираж трехтомного собрания
"Сочинений Гёте", а в 1779 году появился еще и четвертый,
дополнительный том, в котором были опубликованы также и "Стихотворения
разных лет".
144
Эти и другие
подобные переиздания вызывали всякий раз негодование Гёте; он был, однако, не в
силах изменить эту негодную практику. В своей наглости Гимбург зашел так
далеко, что, выслав автору несколько экземпляров третьего тиража, предложил
взамен гонорара берлинский фарфор, считавшийся малоценным. Раздосадованный этим
подарком, автор отвел душу в сердитых стихотворных строчках (из письма Шарлотте
фон Штейн от 14 мая
Листья сухие, останки минувших годов,
Космы и вычески, пряди с обритых голов,
Рвань и истлевшее рубище — вот что вы снова
Мне вместо денег блудливо подсунуть готовы!
Публике книги дарят, но, поверьте,
Лучше поэту не плакать на собственной тризне.
То, что другой получает сполна после смерти,
Я, как ни горько, уже получаю при жизни.
Музе прекрасной моей неизменно я верен.
Нет, я для Гимбургов вирши писать не намерен!
Досада на наглость
Гимбурга не помешала Гёте воспользоваться этим изданием позднее, когда он сам
решил издать полное собрание своих произведений у Гёшена. Так были перенесены в
более поздние издания ошибки, встречавшиеся в гётевских томах Гимбурга.
Нет худа без добра —
можно было бы сказать о тогдашней практике издания собраний сочинений без
ведома и согласия авторов. Эти собрания в свою очередь находили
"переиздателей", и в них впервые фигурировали вместе все произведения
молодого автора, прославившегося благодаря "Гёцу" и
"Вертеру". К тому же Гимбург позаботился об очень красивом оформлении
издания; гравюры на меди и виньетки выполнили известные художники, в том числе
одну — Даниэль Ходовецкий. В 1786 году Гёте, накануне своего сорокалетия,
договорился об издании восьмитомного собрания своих сочинений с молодым
лейпцигским издателем Георгом Йоахимом Гёшеном. Не под счастливой звездой,
однако, рождалось это издание. Вернувшись из Италии, автор, в соответствии с
предварительным объявлением, завершил и "Эгмонта", и
"Тассо", но "Фауста", "в силу многих причин" (из
письма к Карлу Августу от 5 июля
145
брание
сочинений" (1787—1790), составленное самим Гёте,
однако тома выходили нерегулярно, к тому же Гёте сам не читал корректуру. В его
отсутствие о продолжении издания должен был заботиться Филипп Зайдель, а во
всех сомнительных случаях — советоваться с Гердером. Трудоемкую корректорскую
работу, в конечном счете во всех деталях определяющую печатный текст, Гёте и
впоследствии тоже охотно поручал другим — своим секретарям или корректорам
издательств и типографий. Для орфографии и пунктуации в ту пору не существовало
обязательных правил. Хотя Гёте и выразил намерение "полностью следовать
правописанию по Аделунгу" (из письма к Гёшену от 2 сентября
Гёте не нравились ни
бумага, ни шрифт гёшенского издания; он жаловался, "что эти томики больше
напоминают недолговечный журнальчик, чем книгу, которая должна выдержать
некоторый срок" (из письма к Гёшену от 27 октября
146
находя для него
ничего подходящего, пока Шиллер не посоветовал ему собрать в этом томе новые
стихотворения, разбросанные по разным изданиям, а также включить сюда баллады и
романсы, элегии и "Венецианские эпиграммы". Еще в 1804 году, до
смерти Унгера, Гёте, при посредничестве друга, связался с Иоганном Фридрихом
Коттой, с 1794 года издававшим произведения Шиллера. С 1798 по
Учитывая тогдашние
условия, вряд ли эти тома могли быть издательски полноценными. Многие
сложности, возникавшие при подготовке текста кэнабору, были вскрыты филологами
лишь много позже. Дело в том, что отдельные произведения, вошедшие в собрания
сочинений, без ведома автора неоднократно перепечатывались, и Гёте даже не
всегда знал, чем он пользуется при подготовке своих произведений к набору —
оригинальными изданиями или перепечатками с вкравшимися в них изменениями.
Издателям произведений Гёте приходилось решать трудную задачу. Даже при наличии
авторских рукописей или же авторизованных рукописей его ответственных
помощников спорные вопросы далеко не всегда удавалось решить с желательной
определенностью. Были различные варианты одних и тех же текстов, иной раз встречалась
корректорская правка, сделанная рукой автора или другого лица, а в поздние годы
поэт, как уже было сказано, любил поручать чтение корректуры другим. Внешнему
оформлению, качеству бумаги и шрифта Гёте придавал большое значение, но сплошь
и рядом у него были основания для недовольства. В переговорах об условиях
оплаты Гёте, наряду со знанием дела, проявлял также и упорство. Шиллер,
выступавший в роли посредника, однажды без обиняков заявил Котте следующее:
"Чтобы сразу
сказать все как есть — с Г. вам не удастся сделать выгодное дело, потому что он
хорошо знает себе цену и ценит себя весьма высоко, а с риском, связанным с
книжной торговлей, о коем он вообще имеет смутное представление, он и не счита-
147
ется. Ни одному
книготорговцу до сих пор не удавалось сохранить с ним отношения. Ни одним из
них не остался он доволен, и вряд ли кто-нибудь остался доволен им. Не в его
правилах церемониться со своими издателями" (из письма Котте от 18 мая
Объемистая переписка
Гёте с Коттой позволяет нам проследить во всех подробностях сложные
взаимоотношения между автором и главным его издателем, — отношения, отмеченные
и дружелюбием и взаимным уважением, но также и бдительным отстаиванием своих
интересов. Эта переписка, включающая таблицы гонораров, теперь опубликована и
тщательным образом прокомментирована Доротеей Кун. Двенадцатитомное издание
1806—1808 годов принесло автору 10000 талеров дохода, дополнительный 13-й том с
"Избирательным сродством" — еще 2000 талеров. 40 томов последнего
прижизненного издания произведений Гёте (множество других издательств
добивалось этой привилегии, осаждая поэта самыми выгодными предложениями) Котта
оплатил в восемь сроков — с 1826 по 1830 год, общая сумма — 60000 талеров.
Общая сумма гонорара, которую Котта выплатил своему выдающемуся автору за
период с
Понадобился большой
срок, чтобы Гёте мог получать такой гонорар. "Вертер" и
"Гёц" в свое время не принесли автору никаких денег. За издание своих
произведений у Гёшена он получил в 1786 году 200 талеров, а у Унгера в 1792
году — уже 5400 талеров. Только за "Германа и Доротею" (1797)
берлинский издатель и книготорговец Фивег уплатил Гёте небывалый гонорар — 1000
талеров. Собранные Энгельзингом сведения о размерах заработков классиков (Neue Rundschau,
148
политического
чиновника (первоначально — 1200, затем — 1800, а под конец — 3100 талеров), а начиная с 90-х годов принадлежал к числу самых
высокооплачиваемых авторов. Однако в быту он далеко не всегда проявлял
бережливость, порой бывал и щедрым, много денег тратил на пополнение своих
коллекций, на научные интересы и исследования, вот почему он так и не сделался
по-настоящему богатым. Впрочем, он к этому и не стремился, а желал лишь
независимости, как и возможности свободно распоряжаться собой и путешествовать,
а это и давала ему материальная обеспеченность. Надо иметь достаточно денег,
чтобы "оплачивать приобретенные знания", признавался он Эккерману 13
февраля 1829 года. "Каждое bon mot 1,
мною сказанное, стоит мне
кошелька, набитого золотом. Полмиллиона личного моего состояния ушло на
изучение того, что я теперь знаю, — не только все отцовское наследство, но и
мое жалованье, и мои изрядные литературные доходы более чем за пятьдесят
лет" (18 января
Он слегка кокетничал
скромной обстановкой своих рабочих комнат и своей непритязательностью в быту.
"Окиньте взглядом эту комнатку и соседнюю спаленку; обе комнаты невелики,
а кажутся еще меньше, потому что до отказа забиты книгами, рукописями,
предметами искусства, но с меня этого довольно, я всю зиму в них прожил, почти
не заходя в другие" (Эккерман, 208). В роскошном доме, говорил Гёте, он
мигом становится "ленивым и бездеятельным" (23 марта
Спустя несколько лет
после завершения издания 1806—1810 годов было задумано новое полное собрание
сочинений. В 1815—1819 годах, опять же в издательстве Котты, вышли сочинения в
20 томах; теперь собрание включало и биографическую книгу "Поэзия и
правда" — части 1—3; тогда как 4-я часть (тома 16—20) была напечатана уже
после смерти Гёте. Читатели высказывали пожелания, чтобы в новом издании
произведения были размещены в хронологическом порядке. Гёте, однако, отклонил
это вполне понятное пожелание с помощью глубоко показательного довода. В
"Утренней газете" ("Моргенблатт", 1816) он писал, что его
работы представляют собой "продукты таланта, который развивается не
ступенчато, но и не рыщет слепо по сторонам, а словно бы из определенно-
1 Острота, каламбур (франц.).
149
го центра
одновременно предпринимает попытки в разных направлениях и ищет себе приложения
как вблизи, так и вдали, иной проторенный путь покинет раз и навсегда и долго
следует другим путем. Разве не видно, какая получится странная смесь, если все,
что одновременно занимало сочинителя, собрать в один и тот же том..."
("Полная хронология сочинений Гёте").
Правда, в конце
20-го тома Гёте поместил хронологическую таблицу своих произведений с 1769 по
1818 год, однако заметил при этом, что напечатанные труды всего лишь части
целого, "которые коренятся и произрастают на жизненной почве, где деяния и
познание, речи и письменное творчество в своей нескончаемоста образуют сложный
клубок, который трудно распутать".
В связи с изданием
этого собрания сочинений Гёте к тому же высказал принципиальные замечания о
знаках препинания. Так как мы больше читаем, чем говорим, то ставим слишком
много запятых. Между тем запятую следует ставить только там, где в разговоре
делается пауза, вытекающая из смысла текста. "Однако тут я не педант и
оставляю господину корректору полную свободу в известных случаях ставить
запятые по своему усмотрению" (из письма Котте от 3 июня
1 мая 1822 года Гёте
записал в своем дневнике: "Мысли о новом издании моих произведений".
В ту пору поэту было 72 года, конец уже мог быть близок. И его все больше
занимали мысли о судьбе гигантского труда всей его долгой жизни, как и о том,
что еще он может в этом смысле сделать. Сама собой напрашивалась идея
"последнего прижизненного издания". Но сперва нужно было навести
порядок в груде напечатанного и ненапечатанного материала. Фридрих Теодор
Койтер (1790—1856), хранитель библиотеки в Веймаре и с 1818 года одновременно личный секретарь Гёте,
летом 1822 года принялся за просмотр всех фондов, составил перечень и далее по
необходимоста пополнял архив, а после смерти Гёте, согласно его завещанию,
остался официальным хранителем его архива. Гёте отнюдь не собирался публиковать
все, что когда-либо было им написано или продиктовано. Стало быть, предстояло
проверить и отобрать все
150
тексты, затем
подготовить их к печати. Гёте сообщил 11 июня 1823 года в письме к Котте, что
подыскивает молодых людей, "которым можно поручить редактирование текстов,
коль скоро уже нет надежды успеть все это сделать самому. [...] Уже давно
наблюдаю я за одним молодым человеком — Эккерманом из Ганновера, он внушает мне
большое доверие. [...] Сейчас он здесь, и я думаю занять его некоторыми
подготовительными работами".
Иоганн Петер
Эккерман (1792—1854) стал доверенным сотрудником Гёте в последнее десятилетие
жизни поэта, и только благодаря этому потомкам знакомо его имя. Впоследствии он
также выпускал в свет наследие Гёте, и эта работа в помощь великому старцу
настолько поглощала все его силы, что все его собственные надежды и замысли
(день ото дня оскудевавшие) совсем потонули в ней.
Гёте и дальше
продолжал подыскивать помощников, способных заново пересмотреть уже
опубликованные произведения, "прицельно проверить грамматический строй,
критически осмыслить, не прокралась ли какая-нибудь прежде не замеченная
опечатка" (из письма Котте от 3 июля
В конце концов эта
работа была поручена Карлу Вильгельму Гётлингу, хранителю библиотеки и профессору
классической филологии в Йене. Гёте подробно обсудил с ним основные требования
к будущей корректуре; однако он глубоко доверял этому ученому филологу и
впоследствии ограничивался лишь выборочными проверками его работы. Вот почему
влияние Гётлинга на построение текста оказалось столь значительным, и нынешние
издатели сталкиваются с таким обилием сложных издательских проблем, объем и
последствия которых непосвященному трудно вообразить.
В последние годы
жизни Гёте отдавал все свои силы делам более важным, чем кропотливый
филологический труд: он должен был завершить "Фауста" и закончить 4-ю
часть "Поэзии и правды". При той поразительной творческой
продуктивности, которой поэт обладал даже в преклонные годы, утомительный
просмотр опубликованных и неопубликованных, но, во всяком случае, уже
написанных текстов должен был казаться ему второстепенной работой. За период с
1827 по
151
части — в одну
восьмую листа). Собрание названо "полным" потому, что "как в
выборе еще не опубликованных работ, так и в последовательности их расположения
преимущественно обращалось внимание на выявление личности автора, его
образования, творческой эволюции и его разнообразных экспериментов во всех
направлениях" (анонс в "Утренней газете для образованных
сословий" от 19 июля
Действия
издателей-пиратов типа Гимбурга в свое время вызывали у Гёте острое
раздражение. Но и более поздние издания его творений не были застрахованы от
перепечаток. В период 1816—1822 гг. собрание сочинений Гёте перепечатывалось в
Вене — и выходу в свет его даже способствовал сам Котта во имя предотвращения
пиратских изданий; естественно, что Гёте не мог отказать венским издателям
(письмо Котте от 25 марта
Когда же вышло в
свет последнее прижизненное издание его произведений, Гёте стал искать способа
защитить от произвола свое духовное имущество и, в самом деле, добился
необычайного по тем временам успеха. Во всех германских землях — членах Союза
германских государств он добился "особой привилегии", ограждавшей
"собрание сочинений" от нелегальных перепечаток. В ходе нелегких
переговоров он неизменно и по праву отстаивал свои интересы; эти энергичные меры
поэта знаменуют важный шаг на долгом пути к учреждению действенного авторского
права.
Только новые
текстологические исследования доказали, что вследствие обилия внесенных чужой
рукой поправок "последнее прижизненное издание" не может считаться
бесспорным собранием гётевских текстов. Здесь не место распространяться на этот
счет. Напомним лишь несколько фактов. В своем завещании Гёте назначил Эккермана
наряду с Римером и канцлером фон Мюллером хранителем его литературного архива;
к тому же последнему он поручил дело издания своих доселе не опубликованных
произведений. К 1842 году Котта успел издать 20 дополнительных томов; при этом,
разумеется, не обошлось без трений между хранителями гётевского литературного
наследия. 15 апреля 1885 года скончался Вальтер фон Гёте, внук и последний
потомок поэта по мужской линии. По завещанию дом Гёте на Фрауэнплане, со всеми
гётевскими коллекциями, перешел в собственность герцогства Саксен-Веймарского,
а
152
архив Гёте — в
личную собственность великой герцогини Софии. Так все наследие Гёте стало
доступно публике. Великая герцогиня поручила нескольким известным
литературоведам систематизировать гётевский архив, обработать его и
предоставить все творения Гёте в распоряжение общественности (за исключением
будто бы непристойных Erotica
и Priapeia).
Началась подготовка
к новому критическому изданию. Настал час рождения знаменитого
"Софийского" или "Веймарского" издания, которое выходило
при участии многих ученых с 1887 по 1919 год и составило 143 тома 1. С тех пор открыто много новых материалов,
пересмотрены заново тексты, выходили в свет полные собрания сочинений и
избранные произведения Гёте, ученые и издатели беспрерывно размышляли над
принципами издания гётевских сочинений, которыми и стараются руководствоваться
новейшие критические издания, в частности Берлинское академическое издание
сочинений Гёте (ГДР), "Леопольдинское издание" естественнонаучных
трудов Гёте (Веймар), издание "Документов служебной деятельности"
Веймарского государственного архива.
Неудавшийся театральный роман
В 1777 году Гёте
начал писать или диктовать роман "Театральное призвание Вильгельма
Мейстера". Неся бремя служебного долга, заботясь о государственных
финансах, улаживая дипломатические сложности, накапливая жизненный опыт и
помогая другим, поэт при всем том постоянно терзался сомнениями в себе.
"Полжизни уже прошло", сетовал он и сам казался себе человеком, у
которого ничего нет за плечами, человеком, словно "спасшимся из воды"
и стоящим на берегу под лучами солнца, которое "благодетельно обсушивает"
его (из записи в "Дневнике", 7 августа
1 В библиографических описаниях, как правило, указываются 133 тома. Но отдельные тома выходили в двух книгах. — Прим. ред.
153
нужден был жить, от
бездуховности отцовского торгового дела. Он воспринимал эту жизнь как
"угнетающий душу груз, как черный деготь, связавший крылья его мысли, как
цепи, сковавшие высокий полет души, к какому он был предназначен
природой". Цель жизни, возможность самоосуществления виделись ему в работе
для театра, в выступлениях на подмостках. Еще в детстве кукольный театр,
подарок бабушки, околдовал Вильгельма; воодушевляемый сонмом надежд, он весь
отдался во власть творческого порыва. Его поэтические и актерские опыты,
замыслы на будущее, которые он изложил в письме к Мариане — намереваясь
вступить в театральную труппу, он надеялся стать основателем национального
немецкого театра, — все это было выражением страстного желания вырваться из
оков буржуазного быта и дать простор велениям сердца. В "Театральное призвание",
несомненно, вошло много автобиографического материала из жизни молодого Гёте:
от ранних воспоминаний, связанных с кукольным театром в доме семейства Гёте во
Франкфурте, и вплоть до потрясшей его встречи с творчеством Шекспира. Казалось,
поэт, перешагнувший тридцатилетний рубеж, изобразил в романе путь, который мог
бы быть и его путем, но ярмо малых и больших государственных дел уберегло его
от подобной участи, хотя в первое веймарское десятилетие, да и много позже Гёте
не создал ни одного крупного художественного произведения. В ряде писем той
поры он жаловался на трудность и бесполезность повседневных усилий на благо
герцога, государства и людей. Однако же и вся его повесть о Вильгельме Мейстере
с его вечными исканиями и надеждами пронизана насмешливо-критическими
замечаниями, вследствие чего самозабвенная преданность героя своему
воображаемому "призванию" также не преподносится автором в одном лишь
розовом свете. Рассказчик побуждает читателя наряду с восторженной
увлеченностью юного поэта и адепта театра увидеть также его оторванность от
реальной жизни, постоянный уход в свои внутренние переживания, слабое знание
людей и оценивает все это как существенный изъян.
Впервые после
"Вертера" Гёте решил снова попробовать свои силы в романе. В той,
первой книге, которая в свое время произвела фурор и дала повод к сомнительному
отождествлению автора с погибающим "героем", мир показан (если не
считать заключитель-
154
ных
замечаний издателя) с точки зрения Вертера, изливающего в письмах то свой
восторг, то смертельное отчаяние. Но даже этот текст был составлен с таким расчетом, чтобы читатель,
сопереживая делам и чувствам героя, все же не упускал из виду и отдельных
иронических акцентов. Настроения и поступки Вильгельма Мейстера сплошь и рядом
напоминают настроения и поступки Вертера. Но в "Мейстере"
повествование ведется не только от первого лица — рассказчик наблюдает действие
со стороны и время от времени вступает в разговор, словно бы приглашая в
собеседники читателя со своими замечаниями и суждениями, местами
представляющими собой критический комментарий к рассказу. Мысли, чувства и
поступки Вильгельма, с одной стороны, и наблюдения и пояснения рассказчика — с
другой, в романе связаны так же тесно, как объект с его отражением, причем то и
другое может меняться местами. Сказанное относится и к другим действующим
лицам. Этим приемом достигается своеобразная "зыбкость" в оценке
событий и в размышлениях автора, — зыбкость, которую читатель может обратить в
однозначность лишь ценой упрощенного решения. Эта зыбкая многозначность
отвечала тому расположению духа, в котором пребывал сам автор — Гёте, когда в
редкие часы творческого досуга в годы веймарской службы набрасывал и воплощал
на бумаге вымышленный жизненный путь Вильгельма Мейстера. Стараясь соответствовать
обязанностям и требованиям, диктуемым его должностью и важными задачами, на
него возложенными, он все же не полностью подчинялся этому диктату; тяготея к
жизни в искусстве, он опять же не возводил ее в абсолют.
Поиски самоосуществления
Фрагмент
"Театрального призвания" завершается решением Вильгельма посвятить
себя театру. Судя по существующим шести книгам, вряд ли роман до самого конца
должен был оставаться театральным романом. Автор первоначального
"Мейстера" очень уж деятельно защищал в нем права "реальной"
жизни в ущерб "мнимой" жизни на сцене. В 1791 году, а затем, после
перерыва, в 1794 году Гёте возобновил работу над романом, и тут уж, во всяком
случае, было решено, что "Вильгельм-ученик, который не знаю как подцепил
себе имя Мейстера" (Переписка, 31),
155
должен отыскать свой
нелегкий путь в реальной жизни. Время, проведенное среди актеров, будет лишь
жизненным этапом, за которым последуют другие. Роман превратился в многогранную
панораму способов существования разных людей, с которыми знакомится Вильгельм.
Эти люди обогащают его опытом, без которого он остался бы вечным учеником:
иногда этот опыт приходит сам, иногда герой сознательно ищет его. Роман
"Годы учения" вобрал в себя не только время ученичества Вильгельма
Мейстера, как и жизненные судьбы других действующих лиц, но отразил также и
проблемы общественного устройства, которые особенно после Французской революции
настоятельно требовали конструктивного осмысления и творческих решений. Суть
годов ученичества заглавного героя — это поиски осмысленного самоосуществления,
к какому и ведет его таинственная жизненная нить. Точнее, автор романа игрой
воображения и художественными средствами воплотил опыт поисков и обретения
человеком своего "я" в столкновении с общественными и индивидуальными
формами жизни, в ту пору существовавшими или могущими возникнуть.
В бюргерской
купеческой среде, которую представляют в романе отец Вильгельма и особенно его
деверь Вернер, герой не может найти себя, не видя в этой среде достойной цели,
к какой стоило бы стремиться. Уже во второй главе четко обрисованы контрасты.
Посещение спектакля, который завораживает Вильгельма, — всего лишь потерянное
время, считают его родители, но герой облекает свои возражения в риторический
вопрос: "Неужто бесполезно все то, от чего не сыплются деньги прямо в
мошну, что не дает незамедлительной прибыли?" 1 (7, 9).
Восторженно
разглагольствует он в порыве любви к Мариане, артистке и представительнице того
самого прекрасного мира театра. Он даже не замечает, что во время его длинного
рассказа о развитии своего юношеского увлечения театром Мариана просто-напросто
засыпает. Однако его первая попытка следовать своему "театральному
призванию" и "вырваться из затхлого застоя мещанской жизни" (7,
28) терпит фиаско: мнимая измена Марианы, с которой он хотел начать новую
жизнь, перечеркивает его планы и надежды. Пройдут годы, прежде чем возродится
его желание
1 Все цитаты из "Годов учения Вильгельма Мейстера" приведены в переводе Н. Касаткиной.
156
вырваться из
купеческой среды, в которой он, надеясь забыться, остался, и опять-таки жить
театром. Правда, он оставил все свои прежние поэтические опыты и сжег рукописи,
сочтя себя неспособным служить поэзии и ее велениям, каковые он прославляет в
выспренней тираде. Снова отправляется он в путь и снова попадает в плен к
театру. В пути он встречает актеров, берет к себе Миньону, загадочную девочку в
мальчишеском костюме, ссужает Мелине деньги для создания театра, живет среди
актеров, гостит вместе с ними в замке, нисколько не замечая, что аристократы в
действительности не слишком уж чтут искусство. Он берет на себя роль драматурга
исключительно для развлечения придворного кружка. Ярно, один из членов Общества
башни, каким-то загадочным образом следящий за жизненным путем Вильгельма,
неузнанный, многократно вмешивается в ход событий — он-то и отсылает Мейстера к
творчеству Шекспира, которое производит на "ученика" неизгладимое
впечатление. И сильнее всего остального творения Шекспира побуждают героя
поспешить "в мир действительный, смешаться с потоком судеб,
предопределенных ему, и когда-нибудь, если мне посчастливится, зачерпнуть в
необъятном море живой природы несколько кубков и с подмостков театра излить их
на алчущих зрителей моей отчизны" (7, 155).
Ярно между тем
настаивает: "Не бросайте намерение перейти к деятельной жизни" (7,
155), сожалеет, "что общего могли вы иметь с подобной публикой" (7,
156), и выразительно указывает на арфиста и Миньону (удивляясь тому, что
Вильгельм мог привязаться "к бродячему уличному певцу и придурковатому
двуполому созданию") (7, 156). Мейстер, однако, не покидает актеров, все
вместе уезжают из замка по дороге, предложенной Мейстером, и тут на них
нападают бандиты. Мейстер утешает пострадавших актеров тем, что пристраивает их
в труппу Зерло, а сам после смерти отца, обретя полную независимость и свободу
решений, посвящает себя театру... Он инсценирует "Гамлета",
осуществляет интересную постановку пьесы, но на обрывке покрывала, оставленного
на сцене призраком, читает предостережение: "Беги, юноша, беги!"
Романтические события, превратности которых, как и разбросанные тут и там
намеки, еще ждут своего разрешения и раскрытия, ведут купеческого сына,
сбежавшего в мир театра, все дальше, однако еще не вводят его в круг
практичных,
157
деятельных членов
Общества башни. Вильгельм становится свидетелем безумия арфиста, пораженного
неведомым роком, когда безумец, совершив поджог, пытается убить Феликса — сына
Мейстера, еще не узнанного им, ребенка Марианы. Вильгельм узнает и другие
примечательные судьбы: уход в себя, погружение в мир религии "прекрасной
души"; печальную участь Аврелии, сестры Зерло, снедаемой любовью, от
которой она в конечном счете погибает. Именно она — "виновница"
сближения Вильгельма с членами Общества башни, ведь она поручает ему привлечь к
ответу Лотарио, ее возлюбленного, которому она была бесконечно предана и чье
равнодушие повергло ее в отчаяние.
Так Вильгельм узнает
людей, построивших свою жизнь на других принципах. Трезвый взгляд на возможное
и необходимое движет их действиями, а планы и поступки определяет стремление к
целесообразной деятельности. Не нарциссический эгоцентризм, а преданность общим
задачам в реальном человеческом обществе — мотивация их замыслов, и пределы
возможностей индивидуума принимаются в сознании той истины, что только сообща
люди могут достигнуть того, что в идеале сулит человеку жизнь. Но при том
главное мерило — не внешний успех и даже не завершенный труд (по крайней мере
таково кредо этих людей), а другое: "Превыше всего дух, что вдохновляет
нас к действию" (7, 408). Все больше и больше сближается Вильгельм с этим
обществом, пока наконец в эпилоге 7-й книги не получает "Наставления"
и тем самым принимается в сонм посвященных. Для Миньоны и арфиста, естественно,
отныне здесь уже не остается места. Удивительно, как быстро и решительно
Мейстер порывает с театральным миром и мотивирует этот разрыв следующими
словами: "О театре говорят много, но кто сам не побывал на подмостках, не
имеет о них настоящего понятия. Трудно даже вообразить, до какой степени эти
люди не знают самих себя, как бездумно занимаются своим делом, как безграничны
их притязания. [...] Вечно нуждаясь в совете и никому не доверяя, они ничего
так не боятся, как разума и тонкого вкуса, и ничем так не дорожат, как
непререкаемой властью собственного произвола" (7, 356).
В счастливом эпилоге
раскрываются загадки в романной ткани. В лице Наталии, той самой таинственной
амазонки, которая явилась герою словно бы в
158
образе
"святой" после нападения бандитов на труппу актеров, Вильгельм
обретает достойную подругу и чувствует, что после многих заблуждений и ошибок достиг наконец заветной цели: "Знаю только, что обрел
такое счастье, которого не заслуживаю и которое не променяю ни на что в
мире" (7, 504).
Такова заключительная
фраза "Годов учения". Ей предшествует замечание Фридриха, веселого,
беспечного брата Лотарио, который очерчивает весь прежний жизненный путь
Вильгельма сравнением, отрицающим всякую последовательность, сознательность
выбора жизненного пути и целеустремленность в действиях Вильгельма: "Ты
напоминаешь мне Саула, сына Кисова, который пошел искать ослиц отца своего и
нашел царство" (7, 504).
Значит, таков конец
"воспитательного романа"?
Стал ли
Вильгельм-ученик мастером и пришел ли он наконец туда, куда должен был привести
его "воспитательный роман", если это понятие, возникшее в 1810 году,
вообще имеет смысл? Автор такого романа должен провести человека через разные
фазы жизни, и предполагается, что в эпилоге, осознав свои возможности и цель своего
существования, герой отныне избирает и необходимую линию поведения. Конечно, в
эпилоге "Годов учения" Вильгельм уже не тот недовольный собой и
другими купеческий сынок, живущий в душевном разладе и мечтающий о жизни в
искусстве, — обогащенный знаниями и опытом, отрезвленный и в то же время
умудренный пережитым, он принят в сообщество деятельных практиков. В этом новом
мире соображениям пользы и целесообразности также отводится важное место, как
некогда в родительском торговом доме, но в совершенно ином качестве. Плоский
утилитаризм какого-нибудь Вернера подозрителен, главное ведь — дух, лежащий в
основе всех поступков людей. Бесспорно также, что роман пронизан
многочисленными изречениями на темы воспитания и человеческого образа жизни.
Каждое изречение там, где оно помещено автором, вполне уместно и применимо к
случаю, однако, взятые вместе, все эти наставления отнюдь не образуют
сколько-нибудь однородную, однозначную концепцию воспитания человека. В итоге
автор не открывает читателю, каким образом обеспечить необходимое воспитание
человека и надежное обретение им своей личности в столкновении с реальным
миром. Напротив, противоречия в дидактической массе легко обнаружить: неко-
159
торые комментарии
рассказчика отодвигают точно сформулированные положения в некую расплывчатую
перспективу; персонажи живут каждый своей, особой жизнью, терпят неудачу или,
напротив, добиваются успеха каждый по законам своей натуры, и никого из них
рассказчик не считает нужным одернуть. Вильгельм и Лотарио, Зерло и Фридрих,
Мариана и Филина, Аврелия и Прекрасная душа, Миньона и арфист — никто из них не
может служить образцом для воспитания человека — словом, в романе не
просматривается система, отчетливо и эффективно показывающая, каким образом
должно совершаться и благополучно завершаться воспитание личности.
Во всяком случае,
несомненно, что Вильгельм Мейстер, главный герой романа, на редкость способен к
восприятию воспитания, он — само "олицетворение воспитуемости",
говорил Шиллер.
"Все
совершается с ним и вокруг него, но не ради него именно потому, что вещи вокруг
него служат представлением и выражением сил, а сам он есть образ, воплощающий
результат их действия", — отмечал поэт в письме к Гёте от 28 ноября
Только при
достаточном понимании сказанного выше, если взгляд на этот роман не претерпит
сужения до одного лишь интереса к эволюции Вильгельма, станут очевидны емкость
и многогранность произведения, а также удивительная свобода, с которой автор
строит фабулу. С легкостью завязывает он отношения между действующими лицами, в
одном случае с тщательной, в другом — с небрежной мотивировкой.
И одно согласуется с
другим далеко не всюду, сколько бы нам, истолкователям творчества Гёте, ни
хотелось решительно во всем находить какой-то
160
глубинный подтекст.
Просто "Вильгельм Мейстер" был задуман как роман с продолжением: первая
часть его была уже в печати, а между тем автор сам еще не знал, как довести до
конца опус, который он взялся писать. Тщетно стали бы мы искать в этом романе
какой-то определенный план, которым обосновывались бы сюжетные ходы и
мотивации. Забавно наблюдать, как Гёте при случае просил у Шиллера совет и
помощи насчет дальнейшего развития действия, а после лишь в малой степени
учитывал его советы. 7 июля 1796 года в письме к Шиллеру (в отправленном
адресату тексте этот абзац отсутствует) звучат чуть ли не пораженческие нотки:
"При том, что план я набросал лишь в самых общих чертах, проделал только
черновую работу, а затем переделал ее, при тысячекратной перемене условий, быть
может, только мой нрав позволил мне как следует организовать всю эту массу.
Помогите же мне теперь, когда мы уже зашли так далеко, Вашим любезным участием
дойти до конца, а затем — Вашими соображениями о романе в целом — также и на
будущее. Я же впредь стану, насколько вообще в таких делах можно владеть собой,
держаться лишь работ малого объема, как и выбирать лишь чистейший материал,
чтобы, по крайней мере в области формы, сделать все, что в моих силах".
В последней книге
автор собирает вместе всех действующих лиц: он уже подготовил счастливый конец
и готов разъяснить все неясности, а все же трудно представить себе большую
произвольность повествования, как и более шаткую мотивацию.
Роман развертывает
перед читателем панораму человеческих судеб различного формата и характера.
Вильгельм знакомится с другими персонажами по документам, отзывам, рассказам,
как и при личных встречах. И все это живо воспринимается читателем. Он заметит,
как велик диапазон изображенных здесь жизненных решений, и остережется судить
их по меркам определенных этических норм. Этого избегает и сам рассказчик, однако
его симпатии и антипатии все же проступают сквозь сюжетную ткань. Ясно, что он
не сочувствует ни скудоумной, меркантильной активности Вернера, ни ужимкам
представителей придворной аристократии в замке — время этих носителей
"стиля рококо" миновало. И все же в романе сохраняется напряженное
соседство различных жизненных судеб, ни одной из них не отказывается в праве на
существование, и лишь через взаимное сопо-
161
ставление их
выявляется сравнительная ценность той или другой. Там, где царит строгое, рассудочное
учение Общества башни, — там нет места для таких созданий, как Миньона и
арфист, наиболее поэтичных из всех персонажей романа. Конечно, фразы,
произнесенные дядей, читаются как признание, притом как признание самого Гёте,
и в важности этих мыслей вряд ли приходится сомневаться: "Величайшая
заслуга человека заключается в том, чтобы как можно более подчинить себе
обстоятельства и как можно менее подчиняться им. Наш мир лежит перед нами как
гигантская каменоломня перед зодчим, который тогда лишь достоин этого имени,
если из случайно нагроможденных природой глыб с большой бережностью,
целесообразностью и уверенностью воссоздает рожденный в его мозгу прообраз. Все
вне нас — да, осмелюсь утверждать, и в нас самих — лишь стихия, но в глубинах
нашей души заложена творческая сила, способная создавать то, что быть должно, и
не дающая нам ни сна, ни покоя, пока оно так или иначе не будет воплощено нами
вне или внутри нас" (7, 331).
В романе можно найти
множество подобных мудрых афоризмов, однако, взятые вместе, они не составляют
единого целого, и влияние их на развитие Вильгельма-ученика невелико: ни
наставления, ни встречи с людьми еще не делают его мастером. Он щедро одарен
природой. Утверждать противное, пусть из самых благих побуждений, было бы
недобросовестно. Все, что выражено "Прекрасной душой", с ее
углубленной религиозностью, в шестой книге романа, полностью посвященной ей, не
есть отрицание жизнерадостности и жизненного искусства такой особы, как Филина.
А Наталия, в эпилоге романа представленная читателю как наиболее подходящая
супруга для Вильгельма, принадлежит к кругу практических и деятельных людей;
она столь же далека от Филины, как и от слагающего песни двуполого существа —
Миньоны, но показывается это не в укор какой-либо одной из них — так по крайней
мере должен воспринять это читатель, непредвзято прочитавший весь роман.
Конфигурация этих и
других персонажей, как и их судеб, прежде всего наталкивает на вопрос: может
быть, достижение взаимной гармонии личности с окружающим миром и есть то, что
принято называть воспитанием? Ответа на этот вопрос роман, однако, не дает. А
при том, что собственное развитие Вильгельма Мейстера приводит его к легкому,
благополучному
162
финалу, поиски его и
блуждания, с одной стороны, и таинственное руководство им членами Общества
башни — с другой, убедительно не связаны между собой. Жизненная стезя Мейстера
усеяна потерями, над которыми приходится задуматься. Не помогут тут ни
испытанные сентенции насчет того, как следует поступать во всех случаях жизни
("Бога ради, довольно сентенций!" (7, 457) — восклицает Вильгельм в
последней книге романа), ни назидания во врученном ему "Наставлении".
Кстати, его вручают герою, когда он впервые поднимается до признания: "Я
искал образование там, где его не найдешь; я воображал, что могу развить в себе
талант, к которому у меня не было ни малейших задатков!" (7, 407) — и
когда узнает, что маленький Феликс — его сын: "Хвала тебе, юноша. Годы
твоего учения миновали — природа оправдала тебя" (7, 409). Казалось бы,
открыта надежная, однозначная истина — на деле же, однако, она не такова. То,
что представляется несокрушимой истиной, в аспекте общей взаимосвязи
подвергается ироническому преломлению, сохраняя в лучшем случае претензию на
полуправду.
Куда ни кинешь
взгляд, в романе всюду присутствует авторская ирония: автор дает волю буйному
воображению, щедро рассыпая при этом прямые и завуалированные намеки и
указания. При желании привести примеры пришлось бы процитировать множество
страниц. Много говорится в романе о практической деятельности как о связующем
этическом принципе, но Вильгельм — ученик, завершивший годы своего учения, — в
кружке Лотарио, где по воле автора он обретает прекрасную жизненную цель,
бездеятелен. Напротив, по-настоящему деятелен он в театре, на том этапе его
жизни, который он на удивление быстро готов осудить. Красноречиво, да и,
пожалуй, словоохотливо излагает "Прекрасная душа"
"признания", демонстрируя свою неповторимую внутреннюю жизнь. А ведь
предыдущая книга романа завершается песней Миньоны, первые строки которой провозглашают:
Сдержись, я тайны не нарушу,
Молчанье в долг мне вменено.
(Перевод Б. Пастернака — 7, 292)
"Признания"
открывают в романе особую ступень религиозности. Канонисса описывает свой путь
к самоосуществлению: не пожелав подчиниться условностям
163
брака, она ушла в
себя и, проникнутая пиетистской верой, искала воссоединения своей души с Всевышним. С такого рода религиозностью молодой Гёте
познакомился в лице Сузанны фон Клеттенберг. Эта религиозность обладает
собственным достоинством, но притом существенно отличается от "мирского
благочестия" членов Общества башни, которые выше всего ставят "волю к
созиданию", ту практическую устремленность вширь, о которой также
настойчиво рассуждал дядя. Когда появляется Миньона — "прелестное
дитя", "загадка", она производит на Вильгельма огромное
впечатление: "Ее образ глубоко проник в душу Вильгельма; он неотступно
смотрел на нее, в своем созерцании забыв об окружающих", т. е. о Филине
(7, 79). Однако несколькими строчками ниже рассказчик напоминает: "В
течение вечера Вильгельм еще не раз принимался восхвалять Филину" (7, 79).
С воодушевлением,
хоть и с сознанием собственной несостоятельности, Вильгельм рисует идеальный
образ поэта, который "должен отдать всего себя, всецело вжиться в свои
заветные образы" (7, 66), который "сочувствует печалям и радостям
каждой человеческой судьбы" (7, 66). А в заключение следует восторженный
возглас: "Так поэт одновременно и наставник, и провидец, друг богов и
людей" (7, 67). Все эти суждения никак нельзя просто отвергнуть. Однако в
кружке Лотарио, этом показательном эпицентре "Годов учения", такие
поэтические мечтания вряд ли встретили бы благоприятный прием. С другой
стороны, именно в поэтическом творении, в трагедиях Шекспира, Вильгельм
обретает важное знание человека и окружающего мира.
Метаморфозы судьбы
"Годы учения
Вильгельма Мейстера" — роман иронических оговорок. Лишь за рамками этого
романа, в другом произведении, которое еще предстоит создать и наполнить новым
содержанием, в произведении, способном словно бы растворить в себе иронические
оговорки, может быть воплощена картина идеального воспитания (как итога долгого
процесса развития). Все житейские модели, как взаимодополняющие, так и
взаимоисключающие друг друга, как удавшиеся, так и потерпевшие крушение, представленные
в произведении Гёте обилием персонажей и пест-
165
ротой событий, — все
это должно быть сохранено и примирено одно с другим в этой картине. Роман
побуждает читателя к плодотворным размышлениям.
Вильгельм
доверительно сообщает другу Вернеру свою программу: "Скажу тебе без
дальних слов: достичь полного развития самого себя, такого, каков я есть, — вот
что с юных лет было моей смутной мечтой, моей целью" (7, 236). Его
стремление к "гармоническому развитию" своей личности неодолимо.
Перед нами — вполне достойная, даже идеальная концепция развития личности, и не
хотелось бы умалять ее значение. Но было бы ошибкой считать это признание
лейтмотивом романа и толковать "Годы учения" на основе этих слов.
Когда Вильгельм излагал другу свою программу, он все еще пребывал во власти
иллюзий, что исполнение своих желаний он обретет в театре. Житейский контекст,
однако, отчетливо выявляет ошибочность его оценки существующих возможностей. И
Ярно, как выразитель взглядов Общества башни, в 8-й книге провозглашает
отречение от требований всестороннего гармонического развития: "Только вся
совокупность людей составляет человечество, только все силы, взятые вместе,
составляют мир" (7, 456).
В обоих приведенных
выше заявлениях, как в широковещательном, так и в ограничительном, заложены
серьезные мысли, и не приходится отрицать, что убеждение Ярно, подтверждаемое
развитием сюжета в "Годах учения", свидетельствует: им движет не
только чувство реальности, но и сознательное стремление к самоограничению. Хоть
Вильгельм в "Годах учения" и достигает цели, удовлетворяющей не
только его самого, но и вполне трезвых, практичных членов Общества башни, все
же отчетливо видны и потери. Гибнут Миньона и арфист. Вот если бы и им тоже
было уготовано хоть что-нибудь, кроме безумия, гибели, смерти, в романе, где
поэтичность и трагизм их бытия принесены в жертву оптимизму некоей излишне
самоупоенной деятельности, где смерть орудует деловито, а не то прячется за
пышным церемониалом похорон, — вот тогда мы встретились бы с таким общественным
состоянием, при котором уравновесились бы все противоположности. Доискиваясь
утопических черт этого романа, именно к ним должны были бы мы отнести эту
неведомую нам и еще подлежащую созиданию реальность будущего произведения. Ведь
и в заключительной фразе "Наставления" тоже
165
сказано:
"Настоящий ученик научается извлекать неизвестное из известного
и тем приближается к мастеру" (7, 408).
В "Годах
учения" Гёте рисует разнообразные человеческие судьбы, его темперамент
рассказчика и изобретательное воображение позволяют ему с заметным
удовольствием исследовать разные жизненные модели, поэтически испытывая разные
варианты самоосуществления, с различными исходными предпосылками и в изменчивых
обстоятельствах. Оценивающего авторского комментария мы, однако, здесь не
найдем. Зато он насыщает и образы, и события многозначительными намеками, смысл
которых восходит к мифологическим и поэтическим традициям. Только кропотливая
филологическая работа знатока позволит расшифровать эти скрытые связи и
исследовать всю многослойную совокупность текста.
Творческое
проигрывание и освоение моделей человеческого существования, осуществленное
Гёте в романе, со всей очевидностью связано с его собственной жизненной
ситуацией, в условиях которой и были написаны "Годы учения".
"Театральное призвание" уже невозможно было завершить эпилогом, в
котором Вильгельм Мейстер обрел бы исполнение своих желаний в театральном мире.
Вполне сознательно, хоть и без отрезвляющих неурядиц и разочарований, поэт
выполнял обязанности, доставшиеся на долю веймарского тайного советника,
занимал официальный пост, связанный с ответственностью за определенные сферы
деятельности, и не мог поэтому, даже в вымышленном повествовании, полностью
связать человеческое самоосуществление со сферой прекрасной театральной игры.
Слишком резко обозначился бы контраст с его собственным способом существования,
хотя порой он и с вожделением поглядывал на завораживающую фиктивную реальность
театра. Но, как уже говорилось, еще в "Театральном призвании" повсюду
рассыпано много авторских замечаний, разрушающих иллюзии и отстраняющих от них
читателя. Многообразие человеческих жизненных экспериментов, не подчиняющееся
более некоему общеобязательному мировоззрению, Гёте исследовал на полигоне
художественного творчества, тем более что и сам постоянно пребывал в поисках
осмысленного существования. Еще в 1811 году он обронил лаконичное,
самокритичное признание: "Обычно я не делаю того, что говорю, и не
выполняю того, что обещал" (из письма
166
к Рейнхарду от 8 мая
Итак, отчетливо
просматриваются основные мысли, которые при той иронической зыбкости, что
свойственна "Годам учения", могут быть правильно поняты лишь при
условии, если не считать их незыблемыми аксиомами, а смотреть на них как на
эскизы, вновь и вновь в каждом отдельном случае подлежащие перепроверке
соответственно обстоятельствам с точки зрения их основательности,
плодотворности, а также возможных последствий. Нетрудно понять, например, что
следование указаниям Общества башни в каждом отдельном случае отнюдь не
гарантирует ожидаемых результатов. Точно так же и блуждания и заблуждения,
многократно оправдываемые в романе, не обязательно должны сопутствовать любому
процессу развития и воспитания личности. Именно в последнем пункте роман являет
нам сознательную нерешенность, которая должна подвести нас к необходимым
раздумьям о допустимости и смысле блужданий и заблуждений. В одном месте романа
говорится: "Воспитателю людей должно не ограждать от заблуждений, а
направлять заблуждающегося и даже попускать его полной чашей пить свои
заблуждения — вот в чем мудрость наставника" (7, 406—407).
Зато чуть дальше
решительно высказывается против этого принципа не кто иной, как Наталия (7,
434— 435).
Впрочем, вряд ли
возможно сомневаться, что непрестанный и плодотворный анализ заблуждений и их
последствий для дальнейшего жизненного пути человека (не только в этом романе)
отражал также и личные трудности Гёте, его поиски и колебания как на служебном
поприще, так и на поприще искусства. Всякий раз оправдывая заблуждения, поэт со
всей очевидностью пытался найти разумное обоснование собственным проблемам, о
чем можно судить хотя бы по жизненному правилу, высказанному им в письме к
Эйхштедту от 15 сентября 1804 года: "...то,
167
что справедливо
можно назвать ложным стремлением, является для индивидуума необходимым кружным
путем, ведущим к цели" (XIII, 291).
Основные мысли, в
многообразных вариантах пронизывающие "Годы учения" и дающие пищу
раздумьям, сводятся к следующему: воспитуемость, восприятие и переработка
опыта, частью приобретаемого сознательно, частью полученного случайно,
готовность к превращениям, восприятие и плодотворная переработка заблуждений —
все это способствует развитию человека. Но люди также прочно связаны своими
индивидуальными чертами и несут на себе печать своих жизненных условий,
освободить их от того и другого значило бы лишить их индивидуальности, пусть
даже включающей недостатки, в одном случае приносящие веселье, в другом —
страдание, как показывают образы Филины и Аврелии. В одну из своих записных
книжек 1793 года Гёте внес краткие определения, характеризующие персонажей
романа: "Вильгельм: нравственно-эстетическая мечта; Лотарио:
героико-деятельная мечта; Лаэрт: непоколебимая воля; аббат: мечта
педагогического, практического подвига; Филина: чувственность, легкомыслие;
Аврелия: самоистязательная заторможенность; [...] Миньона: безумие, вызванное
злосчастным стечением обстоятельств".
Именно слово
"мечта" в приложении к отдельным персонажам подчеркивает эскизность
их мыслей и поступков. Роман убедительно подводит нас к выводу: деятельное
проникновение в мир; решимость и последовательность в осуществляемой
деятельности — вот жизненные принципы, к которым надлежит стремиться, как
неизбежно и необходимое самоограничение во всем. При этом остаются открытыми
вопросы, которые четко не формулируются в романе, но вытекают из расстановки
персонажей, как и из развития событий: какая конкретная деятельность в конечном
счете оказывается плодотворной для человеческого сообщества? Какое место могут
и должны занять в этом обществе поэзия и искусство? Как сделать, чтобы
персонажи типа арфиста и Миньоны не только ненадолго завораживали окружающих,
как некие диковинные порождения жизненного мрака, а затем отдавались во власть
губительного рока, — словом, как сделать, чтобы при всей исключительности их
судеб, о социальной подоплеке которых подробно рассказано в романе, им можно
было оказать гуманную и истинно эффективную помощь?
168
Роман своего времени
Гёте отнес действие
"Годов учения" в современную ему эпоху, точнее, в период между
провозглашением независимости Соединенных Штатов Америки и революцией во
Франции, то есть между 1776 и 1789 годами, и отразил в романе современные ему
проблемы в том виде, в каком они представлялись ему после французских событий.
И снова, как в "Вертере" и "Клавиго", "Великом
Кофте" и "Гражданине генерале", в "Римских элегиях",
"Венецианских эпиграммах" и "Разговорах немецких беженцев",
перед нами — максимальное приближение к актуальным событиям современности, о
чем не всегда вспоминает сегодняшний читатель "классика Гёте". Точно
так же и "Вильгельм Мейстер" — не что иное, как попытка
художественного освоения проблем, поставленных на повестку дня истории
революционными событиями. Персонажи романа принадлежат к различным социальным
слоям и позволяют, хотя бы частично, увидеть трудности, переживаемые
представителями этих слоев, в контексте единого процесса общественного
развития. Если, однако, обратиться к кружку Лотарио, то его участники —
несомненные носители тенденций, которые Гёте считал желательными и всячески
приветствовал, усматривая в них возможность разрешения глубокого конфликта
между аристократией и буржуазией, разрядившегося в революции. А тот факт, что
действие романа отнесено к дореволюционному периоду, не исключает и такую
трактовку: быть может, намеченные в нем реформы сделали бы переворот излишним.
При изучении всех
несомненных нюансов, которыми отличаются друг от друга отдельные группы
персонажей, вырисовываются четыре социальных круга: феодальная аристократия
старого типа с ее обветшалым, давно утратившим смысл этикетом и бесцельной
тягой к представительству, на что тратится значительная часть состояния. Далее
— буржуазия со своей заинтересованностью в успешном хозяйствовании и поисками
самоопределения и самоосуществления. В этом смысле роман одновременно
предлагает несколько вариантов в образах деда и бабки Вильгельма, его
родителей, самого Вильгельма и Вернера, помышляющего об умножении и накоплении
капитала. Следующий круг: театральный мир с его странствующим народом, с
пестрыми, но также и серьез-
169
ными образами. И
наконец, аристократия, резко отличающаяся от аристократии первого типа. Эти
аристократы стремятся разумно употребить свой капитал не только с пользой для
себя, но и для общества в целом. Лотарио знаком с Америкой по собственным
наблюдениям, и это знакомство сделало его сторонником аграрных реформ. Можно
назвать эту группу "аристократией реформ", однако выводы этих
аристократов проистекают не от какого-либо "социального сознания", а
от стремления представителей этого сословия приспособиться к исторической
ситуации. Лотарио хотел бы упразднить освобождение аристократов от уплаты
налогов, так как ему "приобретение представляется вполне законным и
чистым, лишь когда с него вносится положенная доля государству" (7, 417—418).
Лотарио
высказывается за отмену "мудрствований ленного права" (7, 418), чтобы
поместья рассматривались как всякая другая собственность и можно было делить их
и продавать по частям, вовлекая всех "в живую, независимую
деятельность" (7, 418). Он же выступает далее за облегчение бремени тягот,
угнетающих крестьян (при этом, однако, не собираясь полностью их упразднить).
Только приспособившись таким образом к новым условиям, показывает роман,
аристократия может выжить. Так, аристократ Лотарио становится рупором
буржуазных взглядов и требований, а буржуа Вернер, как всякий ограниченный
человек, думает только о своих торговых делах и признается, что "в жизни
не думал о государстве — все подати, пошлины и налоги я уплачивал потому, что
так уж заведено" (7, 418).
Если Гёте вводит
бюргера Вильгельма в круг людей, мечтающих о реформах и исповедующих
"буржуазные" взгляды, это означает, что он надеется на союз
аристократии и буржуазии на предмет совместных действий. При всем стирании
классовых противоречий бюргер, правда, и в дальнейшем оставлен пребывать на
более низкой — в сравнении с аристократом — ступени социальной лестницы.
Роман о Мейстере
может быть прочитан также с позиций более широкого, историко-философского
аспекта. Если вспомнить о высказываниях, содержащихся в эссе о Винкельмане от
1805 года, то персонажи романа воспринимаются как типичные представители
"современного" человечества, которым отказано в "счастливой доле
древних", в той воображаемой
170
гармонии, которая,
должно быть, всего лишь прекрасная мечта последующих поколений: "Человек в
состоянии создать многое путем целесообразного использования отдельных сил, он
в состоянии создать исключительное благодаря взаимодействию различных
способностей; но единственное и совсем неожиданное он творит лишь тогда, когда
в нем равномерно соединятся все качества. Последнее было счастливым уделом
древних, в особенности греков, в их лучшую пору; для первого и второго
предназначены судьбою мы, люди позднейших поколений" (10, 160).
Многообразие
аспектов, которые предлагают читателю роман "Вильгельм Мейстер", с
первых дней публикации привлекало к себе толпы интерпретаторов. Изучение его
художественной и тематической многослойноста продолжается в литературоведении и
поныне. При этом различные интерпретации романа невозможно привести к единому
знаменателю, поскольку произведение допускает и разные прочтения. А это лишь
подтверждает, в какой мере Гёте использует роман для художественного
исследования жизненных превращений и разных тенденций своего времени. Сам же он
всякий раз уклонялся от однозначного истолкования своего произведения. Он умел
ценить умные замечания друзей и критиков о романе, хвалил их за
проницательность и тонкое понимание вещи; как полагается, вежливо благодарил за
одобрительные отзывы; сожалел, что "все отрывочные суждения по поводу
законченного мною романа лишены мерила и цели" (из письма к И. Г. Мейеру,
5 декабря
171
удержался потом от
тонкой насмешки, которая, впрочем, никак не прогневила Шиллера: "Он парит
над целым, обозревает отдельные части своеобразно и свободно, то там, то тут
извлекает доказательство для своего суждения, расчленяет целое [!], чтобы снова
по-своему его воссоединить" (из письма к Шиллеру, 19 ноября
Со своей стороны
Шиллер в этой длительной и важной переписке о романе, над которым возобновил
работу Гёте, также внес свою впечатляющую формулу (оказавшую значительное
влияние — и отнюдь не благоприятное — на восприятие этого произведения
последующими поколениями читателей), которая как бы предваряла толкование
Кёрнера: после длинного ряда заблуждений Вильгельм "от бессодержательного
и неопределенного идеала приходит к определенной, деятельной жизни, не
утрачивая, однако, при этом идеализирующей силы" (из письма к Гёте от 8
июля
В старости Гёте
охотно признавался в своей растерянности перед лицом невероятной пестроты и
насыщенности "Вильгельма Мейстера". Эта вещь остается "одним из
самых нерасчетливых произведений, как его ни рассматривай, в целом или по
частям", говорил он, признаваясь, что и сам он лишен мерила, необходимого
для оценки романа ("Анналы", 1796). 18 января 1825 года Эккерман
записал сходные суждения, выраженные чуть ли не теми же словами. В
"Мейстере" всегда пытаются отыскать какой-
172
то "центр
тяжести", говорил будто бы Гёте. "Искать в нем центр тяжести
бессмысленно, да и не стоит этим заниматься. Мне думается, что богатая,
разнообразная жизнь, проходящая перед нашим взором, чего-то стоит сама по себе,
даже без очевидной тенденции, которая может вместиться и в отвлеченное
понятие" (Эккерман, 148). Правда, Гёте неизменно подчеркивал, что в целом
роман также предназначен показать, что ошибочные шаги все же могут привести к
счастливому концу. (Насколько точно Эккерман передал подлинное высказывание
Гёте или, скорее всего, привел собственный довод — неизвестно. Ведь он
настойчиво пытался защитить "великую многогранность" романа о
Вильгельме Мейстере от давно высказанного критикой обвинения в изменчивой
многоликости, что зафиксировано в автобиографическом фрагменте 1821 года.)
Для писателей нового
поколения роман "Годы учения Вильгельма Мейстера" оставался той
основной книгой, к какой постоянно обращались все, кто задумывался над
требованиями, предъявляемыми к современному роману. Восхищались его
художественными достоинствами, изобретательностью автора, наконец, композицией
романа и считали, что он предвосхитил многое из того, что впоследствии вошло в
теоретический арсенал созидаемой "романтической поэзии".
В 1798 году Фридрих
Шлегель опубликовал в "Атенеуме" обстоятельную, необыкновенно
хвалебную рецензию, анализирующую структуру "Годов учения". Уже
первый абзац этой рецензии заканчивается следующим образом: "Способ
изображения таков, что даже самое ограниченное существо представляется
совершенно особым, самобытным созданием и в то же самое время — всего лишь иной
гранью, новым образом общей и — при всех ее превращениях — единой человеческой
природы, малой частицей бесконечного мира. Это и есть то великое, в чем любой
просвещенный человек мнит обрести лишь себя одного, тогда как он вознесен
высоко над самим собой; кажется, все так и быть должно, а между тем мы обретаем
куда больше, чем можно требовать".
В знаменитом
"Фрагменте 116" из "Атенеума", в котором Шлегель кратко
сформулировал программу романтической поэзии, он утверждал, что ее
предназначение "не только вновь объединить все обособленные роды поэзии и
привести поэзию в соприкосно-
173
вение с философией и
риторикой. Она стремится и должна то смешивать, то сливать воедино поэзию и
прозу, гениальность и критику, художественную и естественную поэзию [...]" 1.
Первейший закон
романтической поэзии в том и заключается, что "поэтический произвол не
признает над собой никакого закона". Очень многое обнаружил Шлегель в
"Годах учения": мотивы повествовательные и лирические, драматические
и эссеистские элементы; хитросплетение ссылок и недомолвок, созданное "произволом
просвещенного поэта". Читатель, обладающий "истинным организующим
инстинктом, чувством вселенной, ощущением цельности мира", — такой
читатель, "чем глубже проникает в роман пытливым взором, тем больше
открывает в нем внутренних и родственных связей, идейного единства". Все
же в рецензии Шлегеля немало и оговорок. Роман "Годы учения Вильгельма
Мейстера" в лучшем случае может положить начало желанной романтической
поэзии, полагает он. "О романтической целостности Гёте не имел ни
малейшего представления", — гласит одно из критических изречений, которые
Фридрих Шлегель заносил в свою записную книжку. Фрагмент 216 (из
"Атенеума") утверждает: "Французская революция,
"Наукоучение" Фихте и "Мейстер" Гёте — величайшие тенденции
эпохи" 2. Однако в первоначальном варианте этой сентенции
Шлегель добавил: "Но все три тенденции тенденциями и остаются, поскольку
ни одна из них не доведена до конца".
Также и Новалис
сделал множество заметок о романе Гёте, сплошь и рядом от похвалы переходя к
категорическому отрицанию. Превзойти Гёте как художника невозможно, писал он, а
если уж возможно, "то лишь самую малость, ибо правильность его и
строгость, наверно, все же более образцовы, чем может показаться
поначалу". Все же "романтическое" начало гибнет в
"Вильгельме Мейстере", как, впрочем, и "чудесное":
"Это сатира на поэзию, религию и т.д. [...]. Все превращено в фарс.
Остается истинная природа всего — экономическая". Новалис острил:
«"Годы учения Вильгельма Мейстера" или поход за дворянской грамотой.
Вильгельм Мейстер — это тот же Кандид, выступающий против поэзии». Его
1 Цит. по: Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. В двух томах. Т. I. М., Искусство, 1983, с. 194.
2 Там же, с. 300.
174
собственный роман
"Генрих фон Офтердинген", так и оставшийся фрагментом, был задуман
как прямая противоположность "Мейстеру": автор толкал своего
"героя" не к хозяйственному мышлению и практической деятельности, а,
совсем напротив, побуждал его стать поэтом. Новалис посвящал его в тайны
поэзии, с тем чтобы в поэзию обратить весь мир.
175
ЭПОС, БАЛЛАДЫ, ЭРОТИЧЕСКАЯ ЛИРИКА
"Герман и Доротея".
Немецкая идиллия?
"Роман
готов", — записал Гёте в своем дневнике 26 июня 1796 года. В июле он снова
сделал пометку: "Челлини" — в напоминание о текущей работе над
переводом мемуаров итальянского скульптора и ювелира XVI века; они печатались в журнале
"Оры" в 1796 и 1797 годах. 17 августа Гёте сообщил Шиллеру: "Так
как я освободился от романа, тысячи разных вещей опять привлекают меня". И
дневниковые записи, сделанные в сентябре, уже отражают интенсивную работу над
новым произведением: "9. Снова чувствую желание писать большую идиллию.
11. [...] Начал идиллию. 12. Утром идиллия. В обед Шиллер. [...] 13. Утром
идиллия. Закончил вторую песню. [...] 16. Утром идиллия. Закончил четвертую
песню". Так появилась "Герман и Доротея" — эпическая поэма из
девяти песен в более чем две тысячи гекзаметров. Шиллер удивлялся: "Гёте
уже несколько лет вынашивал идею, но написание этого произведения,
совершавшееся у меня на глазах, все же шло с легкостью и быстротой непостижимой
— девять дней подряд он писал по полтораста гекзаметров в день" (Кёрнеру,
28 октября
Поэма была полностью
завершена в апреле 1797 года, но уже в январе Гёте заключил выгодную сделку с
берлинским издателем Фивегом. В качестве доверенного лица участвовал главный
консисторский советник Бёттигер. Ему был вручен запечатанный конверт с запиской
Гёте, в которой он сообщал свои
176
условия. Сделка
состоится, если Фивег предложит требуемую Гёте или большую сумму. "Если предложенная им сумма
окажется меньше той, которую я запрашиваю, то я забираю свой конверт
нераспечатанным назад" (Фивегу, 16 января
Темой произведения
снова была современность, облеченная на сей раз в почтенный стихотворный размер
гомеровских эпопей. "Время действия приблизительно август прошлого
года", — пояснял Гёте в письме Генриху Мейеру 5 декабря 1796 года. В те
месяцы на севере Германии в соответствии с Базельским договором 1795 года царил
мир, но в южных областях сражение еще продолжалось. Французы вели теперь
военные действия уже с целью захвата новых земель, а не только для сохранения
"естественных границ" и снова продвинулись на восток, был оккупирован
Франкфурт. Об этом мать Гёте сообщала сыну в июле и в августе. "Наше
теперешнее положение во всех отношениях неприятное и опасное, но унывать и тем
более падать духом раньше времени мне не пристало [...]. Так как большинство
моих друзей выехало — это не комедия, — ни одной души не увидишь в садах, так и
я по большей части сижу дома" (1 августа
177
го. Возможно, именно
этот рассказ имел в виду Гёте, когда 7 июля 1796 года, еще работая над
"Вильгельмом Мейстером", взялся за перо, чтобы сообщить Шиллеру
(письмо осталось недописанным), что у него "в голове одна бюргерская
идиллия...".
Что касается
основного действия поэмы, то Гёте здесь в точности воспроизвел этот рассказ,
содержавший описание того, как жители Эрфурта, обуреваемые любопытством, спешили
из своих домов, чтобы посмотреть на проходивших мимо города беженцев, о которых
они так много слышали, и как они, преисполненные живого участия к пострадавшим,
стремились оказать им всяческую помощь; в том же источнике рассказывалась
история юной эмигрантки из Зальцбурга: "сын богатого бюргера из
Альтмюля" встретил ее около Эттингена, сразу влюбился и после долгих
уговоров склонил отца к тому, чтобы взять девушку в дом; сама девушка не
помышляла ни о чем, как только быть в доме служанкой, но дело быстро уладилось
и закончилось помолвкой.
Трогательная и в
общем тривиальная история, в которой безродная чужестранка находит богатого
жениха или — наоборот — богатый молодой человек, невзирая на положение беженки,
добивается согласия отца и женится на ней. Хронист не преминул воспользоваться
случаем, чтобы заключить историю поучительной сентенцией: "Это ли не повод
воскликнуть при сих обстоятельствах с полным изумлением: господи, как
непостижимы суды, тобою вершимые, и как неисповедимы пути твои!"
Гёте, по свидетельству
некоторых современников, порой охотно предавался умилению. "Германа и
Доротею" он "никогда не мог читать вслух без большого волнения",
писал сам поэт позднее в "Анналах" за 1796 год. Он знал, как легко
может быть задет за живое, и в повседневной жизни старался избегать всего, что
могло глубоко взволновать его и травмировать. Так, он неохотно говорил о смерти
людей из ближайшего окружения или описывал ее в сдержанных тонах, не выказывая
излишних эмоций, и близкие к нему люди знали, что сообщение о смерти надо было
преподносить ему очень осторожно. Он не принимал участие в похоронах — ни своей
матери, ни Шиллера, ни жены Кристианы. То, что кому-то из визитеров, заезжавших
в Веймар и наблюдавших Гёте, могло казаться невозмутимым спокойствием и холодным
учтивым высокомерием, было не что иное, как
178
с трудом сохраняемая
внешняя маска, которой он прикрывался, пытаясь обезопасить себя от всего, что
могло бы смутить его или глубоко ранить. В восприятии искусства и поэзии он,
правда, поступался собой. Выказывать умиление при этом было в те времена
явлением обычным. "Виланд плакал, когда Гёте читал ему "Германа и
Доротею", — сообщает Бёттигер в письме Гёшену от 28 декабря 1796 года.
Зальцбургские
эмигранты были перенесены в современность и в поэме стали беженцами из
оккупированных французами областей; а скупо изложенная хронистом история
встречи и помолвки чужестранки с местным жителем обогатилась множеством
обстоятельно выписанных сцен и эпизодов с точной расстановкой в них действующих
героев в сходстве и различии их отношения к происходящим событиям и
переживаемых ими чувств: трактирщик — властный, к концу смягчающийся отец;
мать, сердцем угадывающая душевное состояние сына и движимая стремлением помочь
ему; местные аптекарь и священник, комментирующие события и помогающие советом,
направляющие разговор и вызывающие собеседников на размышления и обсуждение
серьезных жизненных вопросов; судья среди беженцев, выбитый из привычных норм
жизни и приобретающий новый опыт; наконец, робкие влюбленные, которых сводит случай,
а точнее, целый ряд случаев. Многие сцены, а также рассказы персонажей имеют
глубоко символическое значение, в них предстают такие стороны человеческой
жизни и человеческих отношений, какие могли и могут обнаруживаться всегда:
восстановление из руин сгоревшего при пожаре городка, участь беженцев и помощь,
оказываемая им теми, кого судьба пощадила; доверительность между матерью и
сыном; постепенное сближение молодых людей, сцена у колодца, из которого они
черпают воду, и "в чистом зеркале, где лазурь небес отражалась, /
отображенья их, колыхаясь, кивали друг другу" (5, 569) 1; конфликт и примирение "отцов и
детей". Принципы, выработанные Гёте и Шиллером в их совместных
размышлениях о существе эпического и драматического и обобщенные Гёте в статье
"Об эпической и драматической поэзии" (1797), поэт претворил в
собственном творчестве. Степенно повествующий ска-
1 Здесь и далее "Герман и Доротея" цитируются в переводе Д. Бродского и В. Бугаевского.
179
зитель, являющийся
нам "в образе мудрого мужа", "в спокойной задумчивости"
развертывает свой рассказ, многокрасочно расписывая детали и подробности, с тем чтобы разбудить читателя или слушателя, ибо только с
фантазией, "которая сама творит свои образы" (10, 276), имеет дело
эпический поэт в отличие от драматического. У него есть время, чтобы
задержаться на мелочах и частностях, тщательно выписывать их и искусно
обрисовывать.
Гомер нового времени
с удивительным мастерством владел средствами, типичными для античного эпоса, и,
очевидно, испытывал удовольствие в том, чтобы отыскивать и щедро рассыпать "Epitheta
ornantia" — украшающие
эпитеты — искусство, известное с древних времен. Едва ли найдется в поэме
персонаж, речь которого не вводилась бы в повествование в соответствии с
приемом, используемым в эпическом жанре: "И отвечала хозяйка разумно и
простосердечно"; "Но отвечал, усмехаясь, жене добродушный
хозяин"; "Но возразил благородный и мудрый священнослужитель". К
этому располагает сам стих гекзаметра, его степенная, размеренная поступь, он
даже понуждает к тому, чтобы полно представить ту или иную вещь или состояние с
помощью описания выразительных и впечатляющих подробностей, а не ограничиваться
простым называнием их:
Вдруг мы услышали вопли детей и женщин теснимых,
Рев и мычанье скота вперемешку с лаем собачьим,
Охи и стоны больных, мольбы стариков, что высоко
Поверху всяческой клади мотались на жестких матрацах.
Ибо, свернув с колеи, телега в обочину ткнулась,
Резко скрипя колесом; накренилась вдруг и в канаву
Рухнула. В этот же миг людей, закричавших от страху,
Всех на дорогу швырнуло, но, к счастью, никто не убился.
(5, 535)
Без поэтических
опытов Иоганна Генриха Фосса, пересадившего античные метры на почву немецкого
языка, пожалуй, не были бы возможны ни "Рейнеке-лис", ни "Герман
и Доротея", в которых ожил и так естественно зазвучал древний размер. В
1781 году в переводе Фосса вышла "Одиссея", а в 1793 году были
опубликованы его переводы обеих гомеровских эпопей: "Илиады" и "Одиссеи".
Строгими ценителями, знавшими толк в искусстве стихосложения, Фосс признавался
авторитетом в каверзном вопросе: как имен-
180
но должны были
строиться немецкие гекзаметры, то есть как практически
можно было реализовать в немецком языке античные метрические правила. Фосс
пробовал себя в древнем размере не только в переводе, но и в собственном
творчестве, ограничив его применение рамками скромного жанра. Не вдохновившись
примером Клопштока (который произвел впечатление на молодого Гёте), он
отказался от создания обширных произведений, подобных "Мессиаде" с ее
утомительной протяжностью в двадцать песен. Фосс остановился на сельских темах
родной Голштинии, избрав жанр идиллической поэзии, но придал ей довольно острое
социальное звучание, введя мотивы протеста против феодального произвола. Три
идиллии (первая из которых вышла в 1783 году), объединенные в издании 1795 года
под названием "Луиза. Сельское стихотворение", пользовались особенной
популярностью среди читателей. Сосредоточенная целиком на изображении
деревенского мира, любовно и многокрасочно представляющая его своеобразие, эта
идиллия повествует о праздновании дня рождения, помолвке и свадьбе
восемнадцатилетней дочери священника из Грюнау (вымышленное местечко,
помещенное автором в Голштинию), "географическое положение, заведенный порядок
и образ жизни которого следует искать лишь в области облагороженных
возможностей", как отмечал сам Фосс. Его идиллия во многом воспроизводит
мир более грубый и деревенский, более приближенный к трудовым будням простого
бюргерства, чем "Герман и Доротея", и, хотя в стихотворении Фосса
веет республиканский дух из далекого мира, прежде всего из Америки, и
пробуждает надежду на лучшее, автор не призывает, однако, к открытому
возмущению. Сегодня может казаться наивным, что речь и образ мыслей деревенско-бюргерского
мира положены на гекзаметры — стихотворный размер античных эпопей — и благодаря
этому как будто приобретают достоинство. Но литературные друзья Фосса
воспринимали это произведение иначе, с радостью узнавая в написанном древним
размером стихотворении современное и знакомое им содержание. "Я и сейчас
очень хорошо помню тот чистый восторг, который испытывал перед священником из
Грюнау, [...] и так часто читал его вслух, что многое знал из него наизусть и
переживал при этом самые хорошие чувства"; благодаря Фоссу он был
"втянут в этот жанр", писал Гёте 28 февраля 1798 года Шиллеру, когда
Фосс до-
181
вольно сдержанно
встретил его "Германа и Доротею". Вот как звучат в "Луизе"
Фосса распоряжения по поводу праздничного обеда:
С полки широкой горшок доставай, Хедевиг, и масло,
Чтоб приготовить горчицу; судак у нас преотменный.
Вымой бокалы проворно, особливо заветный, отцовский,
Тот, чей звук столь приятен, как звон колокольный.
Да не забудь простоквашей чашу в каморке наполнить,
Любит графиня ее, а в вазу — сахар толченый.
Да, а в яблочный мусс натолкла ли ты в ступе корицу?
Славно, что заяц в подвале нашелся! Досадно бы было,
Если б с рыбой и птицей одной мы сидели весь вечер
Праздничный и, даже стыдно подумать, с вареной картошкой!
Ганс, верти хорошенько жаркое, сегодня вечером свадьба!
("Третья идиллия". — Перевод А. Гугнина)
Фосс строже, чем
Гёте, подходил к сложению гекзаметров, с педантичностью следуя метрическим
правилам; и все-таки его стихи кажутся нам менее гибкими; не будем, однако,
отягощать читателя перечислением погрешностей, которые хотели бы видеть в
немецких гекзаметрах ревнители строгих правил. Напомним только, что Гёте
советовался в вопросах стихосложения и вносил поправки в свои гекзаметры,
шестистопные стихи; однако 186-й стих второй песни, на который ему тоже
указывали, он не согласился переделать, считая, как свидетельствует Ример, что
"семистопная бестия должна оставаться как отметина", как будто он
хотел здесь видеть и внешнюю примету, изобличающую современного автора,
который, хотя и использует древний размер, все же отлично осознает разницу
между собой и далеким чужеземцем и его проблематикой. И без того остается
открытым вопрос, серьезно ли следовал всем приемам эпического стиля этот живо
складывавший гекзаметры поэт, обнаруживая столь блестящее
"классическое" мастерство, или оставлял за собой свободу для игры,
иронии. Старый Глейм, закоренелый противник Гёте, во всяком случае, выразил
подозрение: «"Луизу" моего Фосса хочет высмеять этот мальчишка!»
(письмо Фоссу от 4 ноября
182
они вот-вот ринутся
в бой вместе с античными героями, хотя всего-навсего должны тянуть
"повозку" Германа. Или, например, обстоятельное, с выразительными
подробностями, описание того, как аптекарь, у которого не оказалось при себе
денег, одаривает беженцев табаком, к которому Гёте, как известно (в частности,
из "Венецианских эпиграмм"), питал отвращение:
...за тесемки он вытащил кожаный, прочный,
Бисером шитый кисет, где хранился табак, и любезно
Узел раздвинул, и стал оделять — нашлись там и трубки.
"Скуден подарок", — сказал он, судья же на это заметил:
"Все-таки добрый табак для путника вещь недурная".
Тотчас пустился аптекарь расхваливать всячески кнастер.
(5, 566)
В местах, подобных
этим, возможно, играла фантазия поэта, с упоением предававшегося собственному
вымыслу и подражанию эпосу древних. Но если оценивать всю поэму в целом, то это
трудноуловимая, полная глубокого смысла ирония, особенность, проистекающая из
взаимосвязи античного размера и современного сюжета, древней поэтической формы
и использования ее в новое время.
Тот, кто осваивал
этот стихотворный размер, не мог обращаться с ним неосмысленно. Он знал, что
этот размер принадлежал когда-то поэзии, в которой все (как и она сама)
занимало свое надежное место в не подвергавшемся сомнению миропорядке — по
крайней мере именно так это истолковывали знатоки, с восхищением взиравшие на
античную поэзию, хотя в ней с избытком хватало смертей и убийств, коварства и
мщения, своеволия богов и вероломства людей. Стихотворный размер придавал
равновесие, спокойствие, надежность и был внешним гарантом того достоверного и
признаваемого миропорядка, в котором одинаково выступали и действовали как
боги, так и люди. Шиллер утверждал, что это "греческая древность, о
которой неизбежно напоминает гекзаметр" (Переписка, 284). Но уже после
появления "Опыта о романе" (1774) Фридриха фон Бланкенбурга, который
хотел исторически оправдать возникновение этого малопочитаемого, но охотно
читаемого и создаваемого вида литературы, вряд ли кто взялся бы возражать, что
время эпоса и его стихотворного размера прошло и что современность и будущее
при-
183
надлежали прозе
романа, если в литературе должны были отображаться общественные порядки
буржуазного мира. Проза романа соответствовала такой прозаической
действительности, которая не могла уже больше опираться на нерушимый и
признаваемый порядок целого. Гегель сформулировал это позднее в своих
"Лекциях по эстетике": в романе, "этой современной буржуазной
эпопее", вместе с многообразием интересов, состояний, жизненных условий
выступает "широкий фон целостного мира", но здесь все же отсутствует
"изначально поэтическое состояние мира, из которого вырастает настоящий
эпос" 1. В эпическом состоянии мира, как это видел
Гегель, героический индивид составлял нераздельное единство с тем нравственным
целым, которому он принадлежал, он не был еще оторван от живой взаимосвязи с
природой и обществом.
Размер античного
эпоса неизбежно напоминал и мог сохранять в языке остатки этого
"изначально поэтического состояния мира", скрыто присутствующего
порядка, наличной действительности, сохраняющей всеобщую значимость. Но она не
была уже больше задана, ее нужно было сначала отыскать. Эпический способ
представления "уже прозаически упорядоченной действительности"
(Гегель) неизменно должен был вызывать ощущение, что тот старый порядок может
быть восстановлен, что он уже восстановлен. В действительности же этого не было
и не могло быть. Сочетание эпической формы с историей беженцев 1796 года дает
почувствовать иронические сбивы (в особенности современному читателю), хотя для
Гёте, конечно, было важно искусством эпического стиха и всеми присущими ему
средствами вызвать в воображении читателя ощущение того, что счастливый порядок
в условиях, изображенных в поэме, возможен и достижим, поскольку повествование
в эпической манере заключало в себе обещание возможной гармонии и для
современности, с необходимым осознанием дистанции к поэтическому прошлому.
Признаваясь Эккерману 18 января 1825 года в том, что "Герман и
Доротея" и доныне доставляют ему радость и он не может читать это
стихотворение "без сердечного волнения", Гёте отметил, что больше
всего любит его в латинском переводе: "на этом языке
1 Гeгeль Г. В. Ф. Эстетика. Т. III. М., Искусство. 1971, с. 474.
184
оно звучит
благороднее, в силу самой своей формы как бы возвращаясь к первоисточнику"
(Эккерман, с. 148).
При подобной — если
угодно: историко-философской — ситуации не должно удивлять, что следующее
произведение Гёте, задуманное в духе древнего эпоса, — "Ахиллеида" —
осталось незавершенным. В 1799 году он написал первую песню, включавшую 651
стих, к остальным семи песням были сделаны только наброски. Гёте высоко хватил,
выбирая сюжет: он взялся написать продолжение "Илиады" Гомера
(заканчивающейся смертью Гектора) с намерением рассказать дальнейшую судьбу
Ахилла. И здесь обнаруживается блестящее и оригинальное владение приемами
эпического стиля, искусство разработки отдельных сцен, впечатляющий мощью и
яркой образностью язык описаний и тематически важных диалогов, например между
Афиной и Ахиллом о геройстве и славе, жизненных замыслах и их крушениях. И
все-таки это произведение на манер греческой эпопеи застопорилось. Слишком
чуждыми современной действительности были и подражание языку древних, и
мифические события далекого прошлого. Примечательна запись в дневнике от 10
августа 1807 года: "Превращение "Ахиллеиды" в роман". Как
сообщает Ример в "Записках", Гёте видел "идею целого" в
следующем: "Ахилл знает, что должен умереть, и все же влюбляется в
Поликсену, совершенно забыв о роке из-за сумасбродства своей натуры". Этим
достаточно ясно было обозначено, чем занимался роман как "буржуазная
эпопея": частной жизнью и внутренним состоянием "героев", а не
деяниями героического индивида на широком фоне действительного миропорядка.
Должно быть, именно
это сочетание счастливо завершающейся истории с искусством эпического
повествования располагало к тому, чтобы читатели "Германа и Доротеи"
поняли произведение как идиллию, в которой все приводилось в гармоническое
соответствие и проблемы естественно разрешались так, что присущая им острота
сглаживалась. Казалось бы, можно было от души радоваться, что бюргерский образ
мыслей и бюргерская собственность выдержали испытание в хаосе эпохи, что тут
был достигнут порядок, в котором каждому нашлось подходящее для него место, что
были упрочены основы, обеспечивающие надежное существование, а многие
глубокомысленные сентенции могли вызывать лишь чувство удовлетво-
185
рения. При таком прочтении
оставались и остаются незамеченными драматические моменты в развитии событий и
полностью ускользает от взгляда сложность сочетания гомеровского размера и
современного сюжета в свете проблематичности возрождения эпоса в новую эпоху. В
действительности "Герман и Доротея" не есть картина невозмутимого
спокойствия, здесь представлен мир напряженных взаимоотношений, и характер
развития событий определяют весьма острые конфликты, требующие своего
разрешения. Это относится ко всем взаимосвязям: и на "большом" уровне
(бюргерский городок и проходящие мимо него беженцы), и на уровне частных
отношений, например между Германом и Доротеей, а также между жителями города
или между беженцами. Кроме того, на заднем фоне представлена Французская
революция, контраст между всемирно-историческими событиями и их последствиями и
маленьким миром горожан.
Фабулу, взятую им в
основу произведения, Гёте развил именно за счет драматических моментов и
конфликтных ситуаций. В широко развернутых диалогах герои обсуждают положение,
целесообразность тех или иных действий. Уже в самом начале поэмы жители города
вспоминают о пожаре, случившемся здесь двадцать лет назад. Что кажется тут
прочным и надежным, было возведено из руин. А бедствия, которые теперь терпят
беженцы, только подтверждают, что счастье и довольство никогда не гарантированы
навечно. В противопоставлении горожан и эмигрантов и возникающей при этом любви
Германа и Доротеи выражено больше, чем только различие в положении несчастных
беженцев, выбитых из привычной жизненной колеи, и местного населения, которого
не коснулись бедствия. Ведущие между собой беседу горожане — трактирщик с
женой, пастор и аптекарь — оценивают собственное положение, и, узнав о
намерении Германа жениться на бедной чужестранке, заводят разговор о том, как
поступать, как приличествует вести себя бюргеру в этой общей для всех и частной
ситуации. Выясняется, что у жителей города (жители соседней деревни, правда,
никак не высказываются) разные интересы и представления о жизни. Обозначившееся
здесь противоречие — что соответствует историческому развитию — проглядывается
не только в сглаживающе-резюмирующей речи пастора. Если аптекарь довольствуется
тем малым, что имеет в условиях маленького городка, и не притязает на боль-
186
шее, то трактирщик,
отец Германа, стремится к упрочению и умножению собственности, ориентируясь на
хозяйство соседа-бюргера, которому его лавки и фабрики приносят все большие
доходы, и ему досадно, что сын, охотно занимаясь простым деревенским трудом,
остается чуждым его интересам. То, на что ориентируется трактирщик, угрожает
гармонии городка, где труд крестьянина и деятельность бюргера являют собой
разумное соединение, идущее на пользу обоим. Эту мысль выражает пастор:
Блажен городишка безвестного житель,
Мудро свое ремесло сочетавший с трудом землепашца,
Чужд ему тайный страх, что гнетет поселян каждодневно,
И не смущает его и бюргеров поползновенье
С теми вровень идти, у кого достатку побольше,
С теми, кто выше, важней, — особливо их жены и дочки...
(5, 555)
То, что Герман
держится за собственное, унаследованное — привычное и вызывающее доверие, — но
готов принять и чужое, в той мере, в какой оно может гармонично сочетаться со
своим, в произведении показывается как разумное осуществление жизни.
Не без трудностей
происходит и сближение Германа с Доротеей. Натолкнувшись на непреклонную волю
отца, который, стремясь к умножению семейного достатка, желает, чтобы Герман
привел в дом богатую невестку, юноша в смятении чувств уединяется в саду, под
грушевым деревом, у "черты межевой", за которой "соседей поля
начинались"; мать, угадывающая состояние сына, находит путь к его сердцу и
вызывает его на доверительный разговор, и Герман, открывшись матери, встречает
понимание и признание своих чувств. Но этим еще дело не кончается. Пастора и
аптекаря посылают разузнать все о чужестранке и составить о ней впечатление.
Доротея, взятая в дом под видом служанки, тоже не сразу — хотя могло бы быть
иначе — освобождается от заблуждения и узнает истинные намерения Германа.
Эпический поэт, стремящийся сообщить драматизм развитию событий, медлит с
развязкой и заставляет священника испытать девушку: пастор "решил этот
узел распутать не сразу, / а наперед изведать смятенное девичье сердце"
(5, 579).
Бюргерство в
"Германе и Доротее", на первый взгляд выглядящее сытым мещанством,
жизнь которого протекает без драматизма и коллизий, а лишь в
187
соответствии с унаследованной традицией, на самом деле
поставлено перед необходимостью сделать выбор, принять то или иное решение,
переосмыслить свой собственный опыт, уяснить, что есть свое, и остаться
восприимчивым к чужому, чтобы сделать его, насколько это возможно, своим.
Именно в этом заключается смысл противопоставления друг другу названий двух
песен: "Граждане" и "Гражданин мира". В этом противопоставлении
не одно только различие между жителями городка и эмигрантами, но и различие
между теми, кто довольствуется в узком смысле обжитым и насиженным, и теми, кто
остается открытым новому. Пастор и судья — главные фигуры в песне
"Гражданин мира". Пастор — один из тех гётевских
персонажей-священнослужителей, для которых вера несущественна и которые как
нельзя лучше разбираются в мирских делах и светских писаниях. Пастор способен
видеть дальше того круга, которым ограничена повседневная жизнь обитателей
городка, он охватывает взглядом всю человеческую общность и без труда
устанавливает контакт с беженцами. Судья, пользующийся авторитетом среди
лишившихся крова и родины людей, пытается отыскать опоры в условиях ненадежного
существования, на которое обрекли исторические события его и остальных
беженцев, объединить людей в их бедствиях и скитаниях и укрепить сообщность.
Так в обоих — пасторе и судье — проявляется гражданственность: открытость
другому, не своему, чуждому, незнакомому, и способность находить разумные
возможности, обещающие вернуть надежность и обеспечить порядок. Если захотеть —
здесь можно увидеть принцип диастолы и систолы, растяжения и стяжения.
Бедная чужестранка
носит имя Доротея, что означает: божественный дар. Она не сразу называется по
имени, а только когда уже развертываются события и становится очевидной
возможность соединения, союза молодых людей, заключающегося не по тем правилам,
которых держится отец, указывающий сыну на невесту из богатого дома. Безымянная
изгнанница оттеснила богатых купеческих дочек, в обществе которых Герман
чувствовал себя неловко, так как те подвергали его насмешкам и оскорблениям за
то, что он казался им недостаточно светским и образованным. (Какая ирония
руководителя Веймарского театра, где ставились оперы Моцарта, в том, что он выставил
своего Германа грубым невеждой, не имеющим понятия о Памине и Тамино — героях
знамени-
188
той "Волшебной
флейты"! Не дает ли Гёте тем самым еще раз понять, что читатель не должен
слишком легко проникаться доверием ко всему, что находит в поэме, и очаровываться
ее "героями"?)
"Герман и
Доротея" принадлежат к числу произведений, в которых Гёте пытался
поэтически "овладеть" Французской революцией. Мысль о ней и вызванных
ею последствиях постоянно присутствует в эпосе. Что могло родиться в хаосе
эпохи из столкновения чужого нового с привычным старым (один из всеобщих
вопросов эпохи), на это в форме притчи отвечает поэма: открытость чужому, но
при тщательной проверке его пригодности, и включение чуждого в испытанный,
выдержавший проверку собственный опыт, в надежности которого еще раз
убеждаются, критически пересматривая его и оценивая заново. Тогда порядок
сохраняет свое право и в большом и малом, каким он представлен в идиллии в
многообразных запоминающихся картинах.
Хотя беженцы —
жертвы последствий насильственного переворота, его прежние сторонники не только
не подвергаются хуле — напротив, автор воздает им должное. В начале 6-й главы
судья, описывая бедствия, которые пришлось перенести беженцам, обращает свой
взор на события начиная с 1789 года и рассказывает, какие надежды поначалу
воодушевляли людей:
Кто ж отрицать посмеет, что сердце его всколыхнулось,
Грудь задышала вольней и быстрее кровь заструилась
В час, как впервой сверкнуло лучами новое солнце,
В час, как услышали мы о великих правах человека,
О вдохновенной свободе, о равенстве, также похвальном.
(5, 560)
Редко встречаются у
Гёте места, где на сторонников революции падает теплый, сочувственный луч
света: в "Разговорах немецких беженцев", в немногих фразах в драме
"Мятежные". Но надежды, продолжает судья, рухнули, великие цели
изменились до неузнаваемости в последовавших затем борьбе и войнах, разрушавших
все человеческое. Так, в результате остается максима, которую принимает и сам
Гёте:
Нет, я людей не хотел бы в таком исступленье безумном
Снова увидеть. Отрадней смотреть на свирепого зверя.
Пусть не твердят о свободе, уж где управлять им собою?
Дай только им разгуляться, и сразу выйдет наружу
Темное, злое, что было законом оттиснуто в угол.
(5, 562)
189
Когда
пастор, прежде чем "отвести от нее заблужденье", решает испытать
Доротею и тем самым вынуждает ее к откровенным признаниям, она с любовью рисует
портрет своего первого суженого, который предвидел свою судьбу, уезжая в
революционный Париж: "...вдохновленный любовью к свободе, / Жаждой
подвигов полный во имя всеобщего счастья, / Он поспешил в Париж, где нашел
темницу и гибель" (5, 583). Его последние слова она хранит в памяти как жизненное знание, что
"обманчиво каждое благо", что почва под ногами, кажущаяся прочной,
может пошатнуться. Так и Гёте, находившегося под впечатлением от землетрясения
в Лиссабоне в 1755 году и всю жизнь размышлявшего об этом, постоянно
преследовала мысль о трагической неустойчивости всего существующего, мысль о
том, что может пошатнуться то, что кажется прочным и надежным. С этим чувством
в том числе связано его временами усиливавшееся стремление к стабилизации
порядка, равным образом и стремление к упрочению собственного существования.
В заключающих поэму
словах Германа, звучащих как своего рода жизненная программа, после того как
бедная чужестранка взята в дом и каждый убедился в надежности и разумных
основах своей будущей жизни, сконцентрировалась мудрость, за которой уже
невозможно обнаружить, каких усилий стоил этот союз, и увидеть всемирные
перспективы этой "бюргерской идиллии":
И верно и крепко мы будем
Друг за друга держаться, добро отстаивать наше.
Тот, кто во дни потрясений и сам колеблется духом,
Множит и множит зло, растекаться ему помогая,
Тот же, кто духом незыблем, тот собственный мир созидает.
Нет, не германцу пристало ужасное это движенье
Продолжать и не ведать — сюда иль туда повернуться.
"Наше это!" — должны мы сказать и отстаивать твердо.
Ведь и поныне еще восхваляют решимость народов,
Грудью вставших за право и честь, за родных и за близких,
Хоть и костьми полегли храбрецы, от врага отбиваясь.
(5, 584)
Впоследствии сытое и
самодовольное бюргерство могло находить в этих стихах подтверждение
правильности своего образа жизни и укрепляться в стремлениях "отстаивать
свое добро" и отвергать притязания
190
неимущих. Эти стихи
многократно подвергались подобному истолкованию.
В рассказанной здесь
истории безродная чужестранка благодаря счастливому стечению обстоятельств
обретает дом и семью. Но Гёте вовсе не решает вопрос о том, как можно избавить
от нужды бедных и помочь бесчисленным в то время деклассированным. А сентенции,
подобные этой: "Бедность бывает горда, коль ничем не заслужена. / Малым,
кажется, девушка эта довольна и, значит, богата" (5, 566), — фактически
затушевывают действительные проблемы. Конечно, в "Германе и Доротее"
не изображается жизнь людей из низших слоев, здесь представлен мир бюргеров,
хотя и обозначен контраст между богатыми и бедными. Бедные и неимущие в собственном
смысле не попадают в поле зрения Гёте ни здесь, ни в других произведениях; в
лучшем случае они оказываются эпизодическими фигурами или упоминаются им в
письмах.
"Я попытался
отделить в эпическом горне чисто человеческие стороны в бытии маленького
немецкого городка от всех шлаков и одновременно отразить в маленьком зеркале
все великие движения и изменения на мировом театре" (XIII, 116), — писал Гёте 5 декабря 1796 года
Генриху Мейеру. Высказывание представляется проблематичным по двум причинам. С
одной стороны, оно скрывает, что рассказанная в "Германе и Доротее"
история связана с исторической эпохой. "Чисто человеческие стороны"
здесь имеют столь же малое право претендовать на самостоятельное проявление и
независимость от конкретных исторических условий, как и в других произведениях,
на которых лежит печать времени. Поэзия и искусство не могут быть
внеисторичными. В этом произведении, несомненно, нашли отражение такие
ситуации, формы поведения и чувствования людей, которые сохраняют непреходящее
значение изначально человеческих отношений и, следовательно, могут иметь место
в человеческой жизни в любое историческое время. Таковы, например, любовь и
материнское чувство, бегство с насиженных мест, смятение и беспорядок, лишения
и помощь, конфликт и примирение; но как они протекают и в каких взаимосвязях
проявляются — это определяется по крайней мере еще и историческими условиями. В
некоторых сентенциях заключено нечто, что можно считать выражением духа именно
той эпохи, как, например, в
191
признании (представляющемся нам сомнительным) Доротеи:
"Все женщине быть в услуженье; / Лишь услужая, она добивается в доме
влиянья / И полноправной хозяйкой становится в нем
постепенно" (5, 571). С другой стороны, приведенное высказывание может
настраивать на то, что читатель будет обходить вниманием или уже не
воспринимать драматические моменты и иронию, которые здесь не только
присутствуют, но и имеют глубокий смысл. А то, что они остаются незамеченными
(может быть, даже в той же сентенции Доротеи?), подтверждают случаи, имевшие
место уже и в прошлом. Шиллер в письме Гёте (2 января
Баллады. Эксперименты с повествовательным стихотворением
Из дневника Гёте,
который он с 1 января 1796 года снова начал вести постоянно, и из переписки,
прежде всего с Шиллером, видно, какие разные предметы одновременно составляли
круг его интересов и занятий. Как бы ни был он поглощен работой над каким-то
определенным замыслом, от взгляда его не ускользало при этом еще множество других
вещей. Хотя искусство античности всегда оставалось для него образцом, его
собственная художественная практика ни в коем случае не исчерпывалась
творческим освоением классического и подражанием древним. "Наблюдение за
ростом крыла бабочки", — сообщает дневниковая запись от 30 июля 1796 года.
Часто на страницах дневника мелькает слово "ботаника". 1 марта 1797
года производились "химические опыты над насекомыми"; 9 марта утром:
чтение корректуры "Германа и Доротеи", после этого
"анатомирование лягушек". Записи, сделанные в мае: "анатомия
май-
1 Шиллeр Ф. Собрание сочинений в восьми томах. М.—Л., Academia, 1937—1950. Т. VIII, с. 690. — Здесь и далее ссылки на данное издание даются сокращенно: Шиллер, с указанием тома римскими цифрами и страниц.
192
ского жука",
"анатомия улитки", "анатомировал дождевых червей" (9—12 мая
В это же время обмен
мыслей с Шиллером привел к тому, что Гёте называл "наши занятия
балладами" (XIII,
136). Занятия, впрочем, состояли преимущественно в поэтической практике: оба
писали одну за другой баллады. В период с конца мая по начало июля 1797 года
возникли баллады Гёте "Кладоискатель", "Легенда",
"Коринфская невеста", "Бог и баядера", "Ученик
чародея". Вместе со стихотворениями Шиллера "Поликратов
перстень", "Перчатка", "Рыцарь Тогенбург",
"Пловец", "Ивиковы журавли" и "На железный завод"
они были напечатаны в "Альманахе муз" на 1798 год. Если
"Альманах" на 1797 год приобрел известность "Ксениями", то
"Альманаху" на 1798 год славу принесли баллады. Это был, как называл
Шиллер, балладный год. Что привело к столь интенсивным занятиям балладами? Из
писем прямо ничего узнать нельзя, тем более что к ним Гёте и Шиллер вообще
прибегали только в тех случаях, когда не имели возможности встретиться в Йене
или в Веймаре или когда хотели письменно запечатлеть что-то особенно важное.
Дневник и поздние "Анналы" также не содержат ничего, что бы проливало
свет на причины пробудившегося интереса к балладам. Тем не менее вопрос этот
можно отчасти прояснить, если обратиться к их теоретическим размышлениям о
поэзии. Как известно, предметом интенсивного обсуждения был характер эпического
и драматического. Принципы, вырабатываемые при этом, оба опробовали в
собственной художественной практике. В беседах и письмах неизменно затрагивался
и вопрос о том, какие предметы наиболее пригодны для художественного освоения.
Собственно, это был вопрос вопросов; ведь если искусство призвано нести смысл в
самом себе (Гёте разделял мнение К. Ф. Морица, что одна из привилегий
прекрасного в том, "что ему не нужно быть полезным", и Кант говорил
об "удовольствии, свободном от всякого интереса" 1). Если искусство,
1 Кант И. Сочинения в
6 томах, т.
193
хотя
оно, как и природа, подчинено высшим законам, выражало все-таки свою особенную
художественную правду и если "стиль", которым должно обладать
искусство, покоился на "самом существе вещей, поскольку нам дано его
распознавать в зримых и осязаемых образах" (10, 28), то, стало быть, необходимо
размышлять над тем, какие предметы могли быть пригодными для такого
изображения. Сообщая
Генриху Мейеру в Италию о завершении "Германа и Доротеи", Гёте
разъяснял: "Сам предмет в высшей степени удачный, сюжет — какой, быть
может, не находят дважды в своей жизни, как, впрочем, и вообще предметы для
настоящих произведений искусства находят реже, чем это полагают; поэтому-то
древние неизменно вращаются только в одном определенном кругу" (28 апреля
Баллады как нельзя
лучше подходили для того, чтобы на относительно малом пространстве, в обозримых
пределах стихотворения, опробовать эпическое и драматическое, а также
испытывать и разрабатывать "выразительные сюжеты". Шиллер и он,
сообщал Гёте в письме Г. Мейеру 21 июля 1797 года, хотели сохранить в балладе
"тон и настрой лирического стихотворения", но сюжеты выбирать
"более значительные и разносторонние". Сюда относилось и то, на что
Гёте обращал внимание, когда разъяснял функцию пролога к "Лагерю
Валленштейна" Шиллера: если древние поэты могли полагаться на знание
"хорошо известных мифов", то "поэт нового времени" должен
непременно давать экспозицию события (Г. Мейеру от 6 июня
194
дач и возможностей. Поэтому
в письмах Гёте и Шиллера соответствующие замечания касаются в основном
технической стороны балладной разработки; подробно обсуждалось, "тщательно
ли были продуманы мотивы и общее построение" того или иного стихотворения.
Ни Гёте, ни Шиллер, разумеется, не намеревались выдвигать точное определение
баллады или разрабатывать особый жанр баллады; Гёте называл их просто
"повествовательными стихотворениями" (Шиллеру от 22 августа
Насколько свободно
Гёте обходился с определением жанра баллады, показывает уже то, что
стихотворения, являющиеся, без сомнения, балладами, он не поместил в раздел
этого вида поэзии, когда издавал свои стихотворения. "Балладу" и
"Парию", созданные в более позднее время, он поместил под рубрикой
"Лирическое". Но, опубликовав стихотворение под названием
"Баллада" в 1820 году в своем журнале "Об искусстве и
древности", он почувствовал, что необходимо дать разъяснение, чтобы
сделать его "более удобоваримым для читателей и певцов". В 1821 году,
в следующем номере журнала, Гёте поместил "Разбор и объяснение" —
иначе говоря, основательные примечания к названному стихотворению, которые с
тех пор неизменно цитируются. "Баллада эта содержит в себе нечто
таинственное, сама отнюдь не будучи мистической; это последнее свойство
поэтического произведения заключено в его материале, первое же — в его
трактовке. Таинственность баллады проистекает из способа ее произнесения".
Так начинается этот "Разбор", целью которого было разъяснить
читателям подвижную форму, смешение временных уровней, соединение различных
способов выражения, функцию слегка варьирующейся строки, которой завершается
каждая из строф ("И радостно слушают дети"). Баллада оставляет
пространство для всего этого многообразия, ведь именно оно определяет ее характер.
Сочинитель баллады (певец) может "начать лирически, эпически, драматически
и, меняя по желанию формы, продолжать, спешить к концу или отодвигать его все
дальше и дальше. Припев, возвращение одного и того же заключительного звучания,
придает этому виду поэзии решительно лирический характер.
Когда с этим всецело
свыкнешься, что, видимо, имеет место в отношении нас, немцев, то баллады всех
народов становятся понятными, ибо в определенные эпохи, друг другу современные
или наступающие в раз-
195
ное время, человеческое
сознание разрешает аналогичным способом аналогичные задания. Впрочем, можно
было бы на примере избранных стихотворений этого рода прекрасно изложить всю
поэтику, ибо здесь элементы еще не отделились друг от друга, но слиты вместе,
словно в живом первояйце, которое должно быть только высижено, чтобы воспарить
на золотых крыльях как некое чудесное явление" [I, 602].
Выражение
"первояйцо" (Ur—Ei) не
обязательно должно обозначать историческое начало поэзии, в этом образе
содержится (как и в понятии "прарастение") представление о том, что
из баллады могли развиться все виды поэзии, ибо в ней заключены в
нерасчлененном единстве элементы всех ее видов. В "Разборе и
объяснении" действительно представлено довольно подробное описание
характера и особенностей баллады. Это "повествовательное стихотворение", поэтому она относится к лирическому жанру
поэзии; ведь один из ее признаков — разделение ее на строфы и стихи, которое,
разумеется, может быть самым различным. Это "повествовательное стихотворение", потому что она носит
повествовательный характер и эпические пассажи относятся к числу присущих ей
элементов. Событие излагается так, что возникает драматическое напряжение. В
балладе могут преобладать попеременно то эпический элемент, то драматический и
даже лирический. Поэтому для обработки здесь наиболее подходит какое-либо
необычное, впечатляющее, захватывающее событие, легендарное или историческое,
но также и вымышленное, плод свободной фантазии. Как показывают, однако,
новейшие "повествовательные стихотворения", драматическое не
обязательно должно подчеркиваться и усиливаться внешними средствами, оно может
протекать и в скрытой форме. Баллада, как всякое искусство и поэзия, имеет свою
историю и в пределах своего основного назначения как жанра способна к самым разным
изменениям. Само собой разумеется, что литературоведы, с точностью проводящие
разграничение ее видов и подвидов, различают баллады "скандинавские"
и "построенные на легендах" — вплоть до дробления на
"природомагические" и "исторические", "баллады о духах"
и "баллады об ужасах", "баллады о роке", "рыцарские
баллады", "героические баллады" и так далее. В какой мере такое
разделение, удовлетворяющее прежде всего потребность специалистов в порядке и
ориентации, помогает понимать читателю каждое стихотворение в от-
196
дельности — этот
вопрос можно оставить в стороне.
Удивляет уже то, с
каким рвением Гёте и Шиллер взялись в 1797 году за баллады. Как показывают
переписка и дневники, они вовсе не составляли главенствующий предмет занятий,
подавлявший все другие интересы, хотя Шиллер и называл этот год
"балладным". В соответствии с поэтологическими размышлениями, о
которых говорилось выше, продолжались и свободные упражнения в поэзии, не
обремененные требованиями античных образцов. В письме Г. К. Кёрнеру от 20 июля
1797 года Гёте самоиронично высказался о "сущности и несущности
баллад", в дебрях которых они блуждали с Шиллером; а Генриху Мейеру,
только что вернувшемуся с юга в Швейцарию, он послал несколько своих пьес, с
тем чтобы тот "воспринял их чисто по-северному" (21 июля
Можно было бы
подробно описывать различия между стихотворениями Шиллера и Гёте, которые
называют классическими балладами только потому, что они возникли в годы,
определяемые как "эпоха классики". Повествовательные стихотворения
Шиллера отличает большее единство тематики в сравнении со стихотворениями этого
типа Гёте. Они рассказывают о людях, поведение которых подвергается испытанию в
экстремальных конфликтных ситуациях или которые сами подвергают себя такому
испытанию, обнаруживая при этом соответствующее поведение либо заблуждаясь. Не
подлежит сомнению, что стихотворения Шиллера задуманы так, чтобы через
драматически напряженное событие наглядно показать идеальное. Но при такой
общей постановке вопроса остается скрытым, что в различных балладах представлены
весьма различающиеся исторические условия, взгляды и ценностные представления,
например античность в "Ивиковых журавлях", средневековье в
стихотворении "На железный завод". Можно и нужно в каждом конкретном
случае задаваться вопросом об этической
197
оценке изображенных
поступков — к этому понуждают сами стихотворения с их разными
"героями" и развитием событий. Кто осознает, что в оценке
человеческих поступков нельзя не принимать во внимание, во имя чего они
совершаются или чем вызваны, того вряд ли может удовлетворить хвала, которую
Гёте воздал по прочтении "Перчатки" (в письме Шиллеру от 21 июня 1797
года) "самому действию безотносительно к цели" (Переписка, 280).
У Гёте стихотворения
подобного рода охватывают значительно более широкий круг тем. Как известно, к
балладам он обращался и раньше; первые из них, вдохновленные старинными
народными песнями, представляют собой небольшие скромные стихотворения,
рассказывающие в искусно безыскусной манере народной песни о любви и страдании,
о глубоких переживаниях, облеченных в сказочную форму ("Дикая роза",
1771; "Фиалка", 1773—1774; "Фульский король", 1774;
"Приветствие духа", 1774); в балладах, созданных в первое веймарское
десятилетие, появляется новый мотив — зловещих сил природы, пугающих и
одновременно притягивающих к себе человека своей таинственностью и
оказывающихся для него нередко губительными, — таковы "Рыбак" и
"Лесной царь"; но в этот период написано и окрашенное в радостные
тона стихотворение "Певец" (1783), воспевающее скромность и
непритязательность художника, наградой которому служит само его искусство:
По божьей воле я пою,
Как птичка в поднебесье,
Не чая мзды за песнь свою —
Мне песнь сама возмездье!
(Перевод Ф. Тютчева — 1, 175)
Стихотворения,
созданные в "балладный год", отличает совершенство формы и глубина
разрабатываемой в них тематики, они также больше по объему. К балладам
примыкают остальные стихотворения этого рода, возникшие в последующие годы;
среди них есть шутливые, рассчитанные на чтение в дружеском кругу и с детьми
(например, "Крысолов", "Свадебная песня",
"Странствующий колокол").
Сюжеты некоторых
своих баллад, как, впрочем, и некоторых других произведений, Гёте долго
вынашивал, прежде чем художественно обрабатывал их. "Некоторые великие
мотивы, легенды, предания се-
198
дой старины так
глубоко запечатлелись в моей душе, что я уже сорок-пятьдесят лет сохраняю их в
себе живыми и действенными". В старческие годы, оглядываясь на прошлое,
поэт называл среди таких сюжетов "Коринфскую невесту" и "Бога и
баядеру" ("Значительный стимул от одного-единственного меткого
слова"). Но к написанию баллады мог подтолкнуть и случай, как нередко
бывало с лирическими стихотворениями Гёте. Поэт сам обращал внимание на то, что
некоторые из его вещей "возникли чуть ли не экспромтом" (К. Г.
Кёрнеру от 20 июля
Пей из кубка жизни ясной,
...
И не станешь в нетерпенье
О сокровищах скорбеть.
Позабудешь труд напрасный!
Дни — заботам! Смех — досугу!
Пот — неделям! Праздник — другу! —
Будь твоим заклятьем впредь.
(Перевод В. Бугаевского — 1, 279)
Гёте сам был тогда
безрассудным "кладоискателем", и назидание "отрока"
адресовалось и ему. Накануне того дня, когда была внесена в дневник
упоминавшаяся запись, то есть 20 мая, Гёте через советника юстиции Хуфеланда
заказал билет 116-го розыгрыша Гамбургской городской лотереи, прельстившись
назначенным главным выигрышем, который будто бы состоял, как он прочел в
объявлении, из 60000 марок и приобретения силезского имения Шоквиц. А 23 мая он
послал Шиллеру, с которым часто виделся в те дни, своего
"Кладоискателя". Значит, он тогда уже видел, что питало надежду на
большой выигрыш: иллюзия, от которой надо было избавиться и в каче-
199
стве противодействия которой выдвинуть трезвую и вместе с тем
поэтически приукрашенную максиму. А Шиллера, который, по всей вероятности, был
в курсе дела, баллада "позабавила тем", что по ней он "заметил,
в какой именно Вы жили духовной атмосфере" (23 мая
"Легенда",
рассказанная в интонациях Ганса Сакса, исполнена глубокой иронии. "Наш
господь" наклоняется, чтобы поднять с земли расколотую и как будто бы не
имеющую никакой ценности подкову, мимо которой равнодушно прошел апостол Петр;
на три пфеннига, вырученные за подкову у кузнеца, он покупает вишни, которые
сгодились потом в дороге и утолили жажду. В старой манере в конце дается
мораль:
Когда б ты потрудился наклониться,
Тебе б могла подкова пригодиться.
Кто мелочь без вниманья оставляет,
Тот сам от пустяка впоследствии страдает.
(Перевод А. Гугнина)
Это в назидание
ленивым; бережливость, бюргерская добродетель утверждаются с помощью Иисуса,
которого автор "Легенды" (сам, впрочем, не жалеющий денег на личные
расходы) заставляет поднять с земли и приберечь кажущуюся безделку, преподнося
тем самым урок всякого рода расточителям и мотам.
Иное содержание и
смысл имеет "вампирическое стихотворение" "Коринфская
невеста", начало работы над которым датировано записью в дневнике от 4
июня 1797 года. Мотив о пришельце с того света Гёте соединил здесь с мотивом о
призраке-вампире и придал балладе, в основу которой положен заимствованный из
античности сюжет о привидениях, историко-философское звучание: в балладе
разоблачается пришедший с христианством аскетизм и презрение к жизни, и так
явственно, что кое-кто из современников счел это до невозможности неприличным.
Одни называли балладу, как свидетельствует падкий на всякую информацию
200
Бёттигер, "омерзительнейшей
из всех бордельных сцен" и возмущались содержавшимся в ней
"осквернением христианства", другие находили ее "самым
совершенным из всех стихотворений Гёте (Ф. фон Маттиссону от 18 октября
Из языческих Афин в
Коринф, в семью, принявшую крещение, поздним вечером приходит "юный
гость", которого с дочерью этого дома некогда нарекли женихом и невестой;
гостю оказывается благодушный прием, на ночь отводится покой. Но давно уже
умерла от отчаяния невеста, ведь мать "во имя новой веры изрекла
неслыханный обет": "жизнь и юность" дочери "небесам
отдать" 1. В эту
ночь она, однако, возвращается, и юноша с нареченной невестой переживают
сладостно-жуткие минуты любви. Девушка же, которая еще язычницей была обещана
ему "именем Венеры", теперь осуждена — месть богини! — не только
любить, но и "высосать его кровь"; так насильно подавленная в ней
плоть должна торжествовать теперь в дико извращенной форме:
И, покончив с ним,
Я пойду к другим —
Я должна идти за жизнью вновь!
Только еще с одной просьбой
обращается она к матери — извлечь ее из могилы и принести в жертву богам:
Так из дыма тьмы
В пламе, в искрах мы
К нашим древним полетим богам!
В этой балладе,
построенной в форме перемежающихся монологических рассказов, исполненных
постепенно нарастающего драматизма, и коротких диалогов, в которых воскрешается
прошлое, обвиняется настоящее и таким образом воссоздается целостная картина
событий, ужасы обнажены в таких потрясающих откровением языковых образах, что
трудно представить возможность возникновения почти в одно и то же время с ней
"бюргерской идиллии" с Германом и Доротеей. Мотив зловещего появлялся
у Гёте
1 Здесь и далее баллады "Коринфская невеста" и "Бог и баядера" цитируются в переводе А. К. Толстого (1, 288—293; 1, 293—295).
201
уже
в более ранних стихотворениях, как, например, в "Лесном царе" или
"Рыбаке", пленяющих поэтичностью своих образов; но в них зловещее
выступает как нечто неведомое, пугающее и притягивающее к себе человека своей
таинственностью, а заключительная строфа совсем ранней баллады о "дерзком
любовнике", бросающем свою невесту (позднее эта баллада получила название
"Неверный парень"), позволяет лишь догадываться о страшном финале. В "Коринфской невесте", которая
была написана, как это видно из дневника, за два дня, выступает наружу нечто
такое, о чем следует поразмышлять впоследствии даже и в биографическом плане.
Неприкрытое изображение ужасного было своего рода жалобой об утраченном; в
"вампирическом стихотворении" ощущается дух Шиллеровых "Богов Греции":
Как еще вы правили вселенной,
И, забав на легких помочах,
Свой народ водили вожделенный...
(Перевод А. Фета — Шиллер, I, 65)
В фундаментальной
критике религии Гёте нельзя отказать. Строфа о дочери, которую ее семья,
принявшая христианство, лишила права на чувственную любовь, — безжалостное
обвинение, хотя и воплощенное в поэтически-вымышленных образах, однако не
противоречащее другим высказываниям самого Гёте. Если обещанием потусторонней
жизни подавляются природные инстинкты, значит, производится насилие над природой
человека, значит, она приносится в жертву идеологическому принуждению, которое
порождает затем противоестественные явления, как это показано в
"Коринфской невесте":
И богов веселых рой родимый
Новой веры сила изгнала,
И теперь царит один незримый,
Одному распятому хвала!
Агнцы боле тут
Жертвой не падут,
Но людские жертвы без числа!
Гуманность этого
стихотворения состоит в том, что оно раскрывает негуманную сущность аскетизма,
к которому принуждает христианская мораль.
Через несколько дней
после "Коринфской невесты"
202
Гёте завершил очередную большую балладу.
"Индийская баллада закончена", — свидетельствует запись в дневнике от
6 июня 1797 года. Сюжет ее, как и предыдущей, не является оригинальным, но
представляет собой обработку известной Гёте из литературы "индийской
легенды" (именно такой подзаголовок носит баллада "Бог и
баядера"), которую поэт обогатил глубоким и многозначным содержанием.
"Магадев, земли владыка", который нисходит на землю, чтобы изведать
людей, заговаривает с баядерой, "падшей девой", и та, "ласкаясь,
увлекает незнакомца" в "дом любви". В то время как "мнимым
страданьям она помогает" и все охотнее предлагает ему свои услуги, он
примечает в ней "чистую душу", а она впервые "чует страсти
настоящей возрастающий недуг". И такое сильное, такое полное чувство
единения с ним ощущает она, что хочет, чтобы ее сожгли вместе с ее
"возлюбленным гостем" (как жену, согласно обычаю), которого она утром
нашла рядом с собой мертвым; так испытывал ее — сомнительным способом — бог. Но
служители культа отказывают ей: "Мужем не был он твоим, / Ты зовешься
баядерой, / И не связана ты с ним". Тогда она прыгает в огонь, и бог
возносит ее к своим чертогам:
Но из пламенного зева
Бог поднялся невредим.
И в его объятьях дева
К небесам взлетает с ним.
В этой балладе
переплетается самое разное: "падшая" оказывается способной к чистой
любви и выказывает необыкновенную самоотверженность в своем чувстве, именно она
заслуживает любви "владыки земли"; служители культа, стоящие на
страже обычая, не могут одобрить необыкновенное, и существует более высокая
инстанция, чем общественно закрепленные нормы, где настоящая любовь получает
признание. В этом стихотворении не содержится полемики и не выдвигается
обвинение, оно рассказывает о любви, которая осуществляется по ту сторону
категорий вины и греха, привычного и терпимого. Если заключительные строки,
может быть, и позволяют интерпретацию в христианском духе: "Раскаяние
грешных любимо богами, / Заблудших детей огневыми руками / Благиe возносят к чертогам своим" — все же в
этой "индийской легенде" изображено событие, которое никак
203
не является
показательным с точки зрения христианской идеи об избавлении; она содержит
иного рода моменты, которые могут смущать. Здесь нельзя найти ничего, что бы
указывало на раскаяние баядеры, а подозревать христианского спасителя в том,
что он, прежде чем послать искупление, вкушает с грешницей радости чувственной
любви, было бы кощунством. Гёте допускает, не связывая с догмой, этот
интонированный в христианском духе заключительный аккорд только потому, что
сила любви, как она осуществляется в балладе, и ее узаконение утверждаются с
помощью бога. Магадев симулирует свои страдания и свою смерть (насколько иначе
все у христианского искупителя!), чтобы отчетливее проявилась самоотверженность
баядеры, у которой пробудилось чувство. Так Бертольт Брехт, при всех оговорках
относительно развертывания конфликта в этом стихотворении, пожалуй, точно
определил: "Оно показывает свободное соединение любящих как нечто
божественное, а значит, прекрасное и естественное, и направлено против
формального, определяемого сословными и имущественными интересами, соединения в
браке" (в комментарии к собственному сонету: "О стихотворении Гёте
"Бог и баядера"). Но в стихах Брехта звучит также протест против
жертвы, которую "здесь обязательно нужно принести, прежде чем будет
назначена награда". Нам представляются сомнительными характер соединения
мужчины и женщины в балладе Гёте — по существу, подчинение мужчине женщины, с
которой тот и в интимных отношениях обращается, "как с рабынею,
сурово", и слова рассказчика, показывающего нам девушку в любви, покорной
прихотям мужчины: "...в жажде вящей / Унизительных услуг / Чует страсти
настоящей / Возрастающий недуг" (напомним, что Доротея считает: "Все
женщине быть в услуженье").
В каждой из своих
баллад Гёте использует особую организацию строфы и стиха, наиболее полно
выражающую замысел. "Вот уж поистине таинство: то, что в одном размере
абсолютно хорошо и характерно, в другом кажется пустым и невыносимым" (Г.
Мейеру, 6 июня
204
зуют сбив
ритмического течения; неповторимые, особенным образом организованные строфы из
одиннадцати строк в "Боге и баядере", состоящие из восьмистишия в
четырехстопном хорее, который Гёте охотно использовал всегда, начиная от ранних
и кончая поздними стихотворениями ("Сумрак ночи опустился"), и
примыкающих к нему — дактилически-танцующих стихов:
Вот стоит под воротами,
В шелк и в кольца убрана,
С насурмленными бровями,
Дева падшая одна.
"Здравствуй, дева!" — "Гость, не в меру
Честь в привете мне твоем!"
"Кто же ты?" — "Я баядера,
И любви ты видишь дом!"
Гремучие бубны привычной рукою,
Кружась, потрясает она над собою
И, стан изгибая, обходит кругом.
В балладе
"Ученик чародея" Гёте использует такую форму стиха и строфы, в
которых драматическая история с вызыванием духов и терпящий в ней фиаско ученик
находит наиболее полное выражение. Здесь строфы из восьми строк, которые
составляют два разностопных четверостишия с укороченными трехударными строками
во втором четверостишии (что встречается лишь в данной балладе), чередуются со
строфой, ритмически имитирующей формулы заклятий:
Брызни, брызни,
Свеж и влажен,
С пользой жизни,
Ключ из скважин.
Дай скопить воды нам в чане,
Сколько требуется в бане!
(Перевод Б. Пастернака — 1, 296)
Эта знаменитая
баллада об ученике чародея, который, вызвав духов, оказался неспособным
подчинить их своей воле и потому вынужден был призвать на помощь "старого
мастера", допускает различные истолкования. Кнебель воспринял ее как
"отпор литературным противникам авторов ксений" (Бёттигеру, 1 ноября
205
не проявлять
излишнюю нескромность и поспешность в действиях может быть адресовано всем, кто
хотел бы опрометчиво устранить или изменить порядки, адептам философии и
начинающим писателям, зачинщикам политических волнений и художникам, одержимым
страстью к нововведениям. Все это, однако, только соображения отвлеченного
характера по поводу драматической истории, рассказанной мастером. Актуальность
вампирической баллады и индийской легенды в любом случае не столь очевидна. Тут
вырисовываются, строго говоря, противоречия. В собственной жизни и мышлении
Гёте они уравновешены: распознавать основополагающие законы и твердо их придерживаться,
но в пределах их находить возможности строить жизнь на разумных основах.
22 июня 1797 года
Гёте в письме Шиллеру сообщал, что он решил обратиться к своему
"Фаусту". "Наши занятия балладами снова привели меня на этот
призрачный и туманный путь" (XIII, 136). Письмо это представляет для нас интерес в том отношении, что
оно отчасти проливает свет на жизненные обстоятельства поэта, которым,
по-видимому, обязаны своей тематикой некоторые из его произведений этих лет.
Выражение "призрачный и туманный путь" указывает не только на
неантичное содержание баллад и "Фауста", на их принадлежность к
"северному миру жизни" в отличие от южноитальянского, который в эти
месяцы должен был притягивать к себе все внимание поэта. Гёте давно уже
замыслил очередную поездку в Италию, к которой основательно готовился,
проделывая большую предварительную работу: ведь был задуман объемный, поистине
энциклопедический труд о стране и людях, истории, искусстве и культуре. На 262
рукописных страницах форматом в пол-листа было подробно расписано, что
предстояло разработать, что из необходимых источников и. материалов уже имелось
и какую еще литературу оставалось прочесть. Поэтому решение заняться
"Фаустом" Шиллера "действительно поразило, особенно
теперь", читаем в его ответном письме Гёте 23 июня 1797 года, "когда
Вы совсем собрались в Италию" (Переписка, 282). Нам представляется важным
не столько намек Гёте на неантичное, северное, который он обронил в этом
письме, сколько другие его замечания. «Так как в моем теперешнем беспокойном
состоянии мне крайне необходимо отдаться какой-нибудь работе, то я решил
обратиться к "Фаусту"» (XIII, 135). Так
206
начинается письмо от
22 июня 1797 года, в котором Гёте сообщает далее, что "многое при
настоящих моих обстоятельствах требует, чтобы я поблуждал еще некоторое
время" по "призрачному и туманному пути". Прежде всего его
беспокоила задержка с отъездом на юг: герцог был в отлучке и заставлял ждать
себя, о чем-то он хотел еще говорить с Гёте перед его отъездом. По-прежнему не
было уверенности, отважится ли он вообще поехать в Италию; политическая
ситуация пока что мало благоприятствовала этому: Бонапарт вступил в Северную
Италию. С самой весны Гёте жил в неопределенности; время шло, и все
складывалось так, что о поездке нечего было и думать: ведь на юге еще
свирепствовала война. Только когда 18 апреля 1797 года был заключен
(предварительный) мир в Леобене, Гёте отметил это специальной записью в
дневнике от 24 апреля, и несколько позже уже более определенно о своей поездке:
"Я в начале июля уезжаю во Франкфурт уладить кое-какие дела с матерью и
уже оттуда хочу ехать в Италию" (Г. Мейеру, 8 мая
Но беспокойство
имело и более глубокие причины. Трудно обнаружить, что лишало его покоя, что
вселяло тревогу, что выводило из душевного равновесия. В письмах только намеки,
несколько характерных событий. Еще никогда его планы и решения не менялись так
от недели к неделе, узнаем мы из письма Генриху Мейеру, который прихварывал в
Италии, и поэтому Гёте вкрапливал сообщения о себе в выражениях тревоги о его
самочувствии (6 июня
207
детельств прошлого,
которые как гнетущее напоминание были рассыпаны среди его бумаг? А в ноябре 1782
года он сделал подшивку этих писем, заметив: "Какое зрелище! Порой меня
бросает в жар!" (Кнебелю, 21 ноября
Эротические фантазии
За скромностью
влюбленной пары в "Германе и Доротее" легко ускользает от взора,
каким забавам и фантазиям предавался ее творец. Уже беглый просмотр
стихотворений этих лет дает почувствовать, насколько сильно занимал его
эротический аспект. В 1795 году Гёте делает переложение чувствительного,
перенасыщенного образами стихотворения Фридерики Брун "Близость
любимого": ("Все в мыслях ты, когда в дожде цветочном / Спешит
весна...") "Все в мыслях ты, когда из моря блещет / Мне солнца луч, /
Все в мыслях ты, когда луной трепещет, / Сверкая, ключ..." (Перевод С.
Шервинского. — [1, 221]). 1796 год: "Недоступная" и
"Обращенная" — стихотворения в стиле пастушеской поэзии начала XVIII века (может быть, вставки для оперы Чимарозы) с Тирсисом
208
и Дамоном, овечками,
"сердцем и лентами". В том же году написана одна из больших элегий в
античных дистихах, "Алексис и Дора", в числе других составившая в
более поздних изданиях вторую книгу элегий после первой — "Римские
элегии". 1796 год: "Новый Павсис и его цветочница"; сентябрь
1797 года: "Аминт"; осень 1797—1798: "Эфросина" — и в них
ведущая тема любовь, как и в двух небольших стихотворениях, написанных 24 мая
1797 года, — "Чувство прошлого" и "Прощание". В письме из
Штутгарта — во время путешествия по Рейну и в Швейцарию — Гёте агитирует
Шиллера взяться за "новый поэтический жанр, в котором нам в будущем
следовало бы писать больше [...]. Это — разговоры в стихах" (Переписка,
320). Три вещицы, написанные в дороге, составляют цикл "диалогов в форме
песен" (позднее они были включены также в раздел "Баллады"), в
которых рассказывается опять-таки о любви: "Паж и мельничиха",
"Юноша и мельничный ручей", "Раскаяние мельничихи".
Написанное несколько позже и присоединенное к циклу стихов о мельничихе
"Предательство мельничихи" (1798) пронизано намеками того же
свойства, что и остальные стихотворения. Вместе с вампирической балладой о
коринфской невесте и индийской легендой о боге и баядере — богатый урожай
"любовной лирики" этих лет! Что в них? Переживания прошлого, воспоминания,
фантазии почти пятидесятилетнего человека? Так сильно они терзали его, не
давали покоя? Гнали на многие недели из Веймара в Йену, заставляли с надеждой
обращать взор на Италию, чтобы дать пройти времени, пока он снова сможет
сосредоточиться на занятиях историей, искусством, культурой, обрести себя —
после того как были сожжены письма и сведены счеты с прошлым? И они же сорвали
его с места, уже во Франкфурте, и погнали назад, в Тюрингию, потому что — по
крайней мере время от времени, — "кроме нескольких стихотворений",
все другое казалось только иллюзией? "Растущее кризисное состояние" —
так это определял Генрих Мейер в своей работе "Гёте. Жизнь в
творчестве" (1951—1967). С лета 1788 года Гёте жил уже вместе с
Кристианой. Что об этом думали и говорили, он, видимо, знал, и Шиллер, его
духовный собрат, не упоминал — по крайней мере на бумаге — о "маленькой
подруге". Несомненно, здесь имело место то, что торжествует в индийской
легенде, — "свободное соединение любящих как нечто божественное" (Брехт),
Стихотворение — само-
209
утешение и
одновременно отповедь ограниченным клеветникам, пусть
даже автором руководило глубоко скрытое в душе чувство, заставившее его самого,
жившего в свободном браке, завершить содержащийся в легенде конфликт именно
так, а не иначе. Но какие вместе с тем бездны тут открывались! Играла ли здесь
только фантазия, подсказавшая образ Магадева таким, как он предстает в балладе,
— требующим в любви "унизительных услуг", разыгрывавшим из себя
"ведателя глубей и высей вселенной", который испытывал "через
негу и страх терзания мук?" А невеста-вампир из Коринфа? — то, что здесь в
извращенном виде торжествует подавленная когда-то плоть, несомненно, но не есть
ли это также искаженный облик всепожирающей страсти? Это уже совсем близко к
элегии "Аминт", где в образе дерева, оплетенного лозой, символически
представлены наслаждение и муки любви:
Как не любить мне лозы, которой я лишь опора?
Тихо и жадно прильнув, ствол мой она обвила.
Сотни пустила она корней и сотни побегов;
Крепче и крепче они в жизнь проникают мою,
Пищу беря от меня, поглощая то, что мне нужно,
Всю сердцевину, она с ней мою душу сосет.
...
Чувствуя только ее, смертоносному рад я убранству,
Цепким узам я рад, счастлив нарядом чужим.
(Перевод Д. Усова — 1, 231)
Это написано во
время путешествия по Швейцарии. Исполненное чудесной поэзии стихотворение,
поводом к написанию которого послужил подсмотренный в природе феномен, — и
только? (Запись в дневнике от 19 сентября 1797 года: "Дерево и плющ —
повод к элегии".) Что это? Изъявление верности оставшейся далеко дома
женщине, которой в письме 15 августа он высказывал свою обиду на то, что она не
верит, как ему недостает ее, и признавался, что хотел бы быть богаче, чтоб
брать с собой в путешествие ее и малыша? Или гимн и проклятие любви вообще,
которая обрекала его на вечные терзания? Действительно ли Кристиана была для
него всем? Не были ли это только общие, привычные заверения, которыми они
неизменно обменивались в своих письмах друг к другу? Что навязывалось в
воспоминание, когда он писал
210
"Чувство
прошлого"? Или это было только упоение поэтическим вымыслом, который еще и
теперь, в мае 1797 года, побудил к тому, чтобы заключить стихотворение
безобидным оборотом в стиле рококо?
Если розы зацветают,
То вино в бочонке бродит,
Если розы вновь пылают,
Что со мной, не знаю я.
Слезы льются непрестанно,
Сердце места не находит,
И тоскою несказанной
Грудь пронизана моя.
В чем печаль и в чем обида?
И ответ на ум приходит:
В этот дивный день Дорида
Пропылала для меня.
(Перевод С. Заяицкого — 1, 252)
Одно из многих
исполненных сомнений стихотворений Гёте, в которых в соединении условного и
временного "если" проглядывает то, что может указывать символически
на человеческие чувства и мысли. Так построено и дорнбургское стихотворение 1828
года:
Если горы и долины
Из туманов лик откроют...
(Перевод А. Гугнина)
Не молодая ли
актриса Кристиана Нойман смутила его воображение, оставила в нем более глубокий
след, чем это могли подозревать близко наблюдавшие его люди, для которых Гёте
этих лет — "классический" поэт, творец "Германа и Доротеи",
и партнер Шиллера в беседах и переписке, обсуждавший вопросы искусства,
литературы, публику? Кристиана производила впечатление на каждого, кто видел ее
на сцене. Ее обучала Корона Шрётер, и Гёте, как директор театра, особенно много
ею занимался, ибо она была для него "самым пленительным, самым
естественным талантом, который взывал меня к тому, чтобы обучать ее"
("Анналы" за
211
когда принца Артура,
роль которого она исполняла, хотят ослепить, недостаточно впечатляюще
передавала состояние ужаса, и Гёте, решив с ней сам разыграть эту сцену, так
набросился на нее, изображая камергера Хьюберта, что она сильно испугалась и
лишилась чувств, а когда она затем прыгнула со скалы и "разбилась",
Ласково взял ты меня, разбитую, вынес оттуда,
И у тебя на груди мертвой прикинулась я.
Но наконец я глаза раскрыла и вижу: в раздумье
Ты над любимицей, друг, тихо стоишь, наклонясь,
Детски кинулась я, тебе благодарно целуя
Руки, тянула к тебе с чистым лобзаньем уста.
(Перевод С. Соловьева — 1, 221)
Так память прошлого
оживает в траурной элегии "Эфросина". В 15 лет Кристиана вышла замуж
за актера Генриха Беккера, дважды стала матерью, после рождения второй дочери в
июле 1796 года начала прихварывать, но не уходила из театра. В мае 1797 года
она, уже тяжело больная туберкулезом, играла в музыкальной сказке Йозефа Вейгля
"Петрушка" Эфросину. В этой роли Гёте видел в последний раз
Кристиану; потом она смогла выступить только еще раз в июне в роли Офелии в
"Гамлете". В Швейцарии его настигло известие о ее смерти. 25 октября
1797 года он писал из Цюриха Бёттигеру: "Известия о ее смерти я давно
ожидал, оно поразило меня в бесформенных горах". Тут уже перевоплотилось в
поэзию то, что когда-то смутило его воображение: в "бесформенные
горы" почту ему, конечно, не носили. "Она была мне мила больше чем в
одном смысле", — признавался он. "У любящих только слезы, а у поэтов
— ритмы в честь умерших; мне бы хотелось сделать что-нибудь в ее память".
У него было — и, пожалуй, не только в поэзии — и то и другое: большая элегия
"Эфросина" возникла в ближайшие месяцы и заканчивалась следующими
словами:
Рвутся струны в груди от печали; слезы ночные
Льются обильно, а там брезжит над лесом заря.
(1, 223)
В элегии Гёте
заставил умершую говорить с ним и заклинать его память помнить о ней:
212
Явятся после другие, они тебе будут по нраву,
Ведь за талантом большим больший на смену идет,
Но не забудь обо мне!..
(1, 222)
"Анналы"
1797 года запечатлели: "На театре я нашел большую брешь: не было Кристианы
Нойман, но оставалось то место, где она возбуждала во мне столь сильный интерес".
Кристиана Беккер-Нойман, одна из тех совсем молоденьких женщин, которые затем
еще не раз волновали воображение Гёте: Сильвия фон Цигезар, Минхен Херцлиб,
Ульрике фон Левецов. Что это? Потаенные желания, пробудившиеся в ранние годы
дружбы с сестрой Корнелией, а теперь перенесенные в иные ситуации, где
оставалась свобода для эротических фантазий? Свободное пространство, не
заполнившееся даже за годы постоянной брачной связи, — не на это ли содержатся
намеки в "Аминте"? Не пробуждали ли эти встречи воспоминания об
упущенных возможностях — перед лицом надвигавшейся старости? 13 мая он в
последний раз видел на сцене Эфросину, 24-м мая датированы "Чувство
прошлого" и "Прощание", вторая строфа которого звучит:
Ты прежних песен чарой чудной
Зовешь вкусившего покой
В зыбучий челн отрады безрассудной,
Еще опаснее былой.
(Перевод М. Лозинского — [I, 257])
Так и элегия
"Алексис и Дора", написанная в мае 1796 года, — поэтическое
воплощение воспоминания обращенного в прошлое: в то время как судно уходит
"дальше и дальше вперед", Алексис мыслями возвращается назад, к тому
времени, когда он оставался равнодушным к "красоте" Доры, и
вспоминает "краткий, единственный миг" перед самым отъездом, когда их
сердца бились друг для друга; теперь он любит и любим, но жалеет, что поздно
обрел свое счастье, его терзают муки ревности и воображение рисует страшные
картины:
...настежь калитка в саду!
Входит другой, и плоды для него с ветвей упадают:
Смоквы дают и ему свой подкрепляющий мед!
Не увлечет ли она и его к беседе? Ослепнуть
Дайте мне, боги! Забыть дайте скорее о ней!
(Перевод З. Морозкиной — 1, 219)
213
Остается открытым
вопрос, действительно ли эта элегия, курсировавшая уже в кругу друзей поэта и
затем помещенная Шиллером в начале своего "Альманаха муз" на 1797
год, является загадкой, которую Гёте подбросил читателям в прологе (25—30-й
стихи), или разгадка ее состоит в расшифровке эротической символики, которой
насыщено это стихотворение?
Третье путешествие в Швейцарию в 1797 году
30 июля 1797 года
Гёте смог наконец отправиться в путешествие; путь лежал на юг в направлении
Италии через многочисленные города, в которых были запланированы остановки. 3
августа "в восемь утра прибыл во Франкфурт. В восемь вечера приехали мои",
сообщает дневниковая запись. Мать его впервые увидела Кристиану Вульпиус и
внука Августа. Они пробыли недолго. Их отъезд в дневнике отмечен скупой записью
от 7 августа: "В три часа мои уехали". Сам Гёте оставался во
Франкфурте до 25 августа, освежил давние впечатления, связанные с родным
городом, осмотрел новые строения, побывал в театре, повидался со знакомыми.
Почему Кристиана и Август поспешили с отъездом в Веймар, неясно. "Еще раз
большое тебе спасибо за чудесную поездку и за все старания и хлопоты, которые
мы доставили тебе. Мне теперь надолго хватит воспоминаний и разговоров", —
писала ему Кристиана 13 августа из Веймара. Должно быть, для тайного советника,
состоявшего в "свободном браке", было щекотливым делом являться с
женой в обществе, где соблюдался этикет. В то же время, перед тем как
отправиться в это путешествие, он застраховал свою семью, оформив завещание, в
котором своего "сына Августа, прижитого с подругой и многолетней хозяйкой
его дома Кристианой Вульпиус", назначал полным наследником, а его мать
"получала право пользования всем, чем я владею в здешних местах на момент
моей смерти" (Веймар, 24 июля
214
обеспечению моего
наследства ввиду несовершеннолетия моих внуков".
В поездке его
сопровождал теперь секретарь Людвиг Гайст, состоявший при нем с 1795 года;
достаточно образованный молодой человек 23 лет, знавший латынь, проявлявший
интерес к ботанике и даже умевший играть на органе. В своих письмах Гёте и
Шиллер именовали его "спиритус" 1. Ему хватало работы, ведь Гёте был
внимательным путешественником и свои наблюдения и впечатления от увиденного
стремился зафиксировать на бумаге, поэтому Гайст должен был заносить под его
диктовку в дневник все, что, на взгляд Гёте, заслуживало того, чтобы быть
отмеченным; это были и краткие замечания в одно-два слова, беглые, делаемые по
ходу, и более развернутые описания, сформулированные задним числом; некоторыми
из своих впечатлений он делился в письмах к Кристиане, к Шиллеру, герцогу.
Верно служившего ему Гайста он не упоминает в них ни словом, также и тот в
собственном дневнике обходил своего патрона молчанием. Записи, сделанные в этом
путешествии, которое вопреки первоначальному замыслу ограничилось Швейцарией,
Гёте потом не обработал, хотя и хранил их отдельно как "Материалы
путешествия в Швейцарию". Эти путевые записки были изданы позднее
Эккерманом под названием "Из поездки в Швейцарию через Франкфурт,
Гейдельберг, Штутгарт и Тюбинген в 1797 году"; последующими издателями они
еще тщательно пересматривались и приводились в порядок.
Начиная с Франкфурта
этот путешественник, которым руководил "скептический реализм" (запись
от 19 августа), ведет целенаправленные наблюдения. Он завел себе особые тетради,
"куда я собираю всякого рода официальные бумаги, попадающиеся мне, газеты,
еженедельники, извлечения из проповедей, приказы, афиши, прейскуранты, а затем
заношу туда и все, что я вижу и замечаю, равно как и свои непосредственные
суждения" (XIII,
151); так накапливались материалы, которые в будущем могли быть использованы
при написании больших работ. В обширных записках зафиксировано все, что
привлекло его внимание во Франкфурте: они содержат суждения о театре,
декорациях спектакля и игре актеров, общую
1 То есть переводили немецкую фамилию "Geist" (дух) на латинский язык.
215
характеристику
французов, с которыми ему довелось столкнуться ("француз ни минуты не бывает спокоен" — XIII, 148), замечания об итальянских газетах,
которые ему приносили, и об их политическом направлении. Он видит изменения,
происшедшие в жизни родного города, и новые, обозначившиеся тенденции развития.
"Публика большого города", отмечает он, живет в "беспрерывном
водовороте добывания средств существования и потребления", все удовольствия,
даже театр, служат здесь только развлечению — такова атмосфера большого города,
в котором господствуют уже коммерция и деньги. Он размышляет над способом
застройки в старом и новом Франкфурте и приходит к выводу, что целесообразнее
было бы строить новые жилые дома с учетом того, чтобы их легко можно было
сдавать внаем сразу нескольким семьям. "Житель Франкфурта, для которого
все является товаром, должен и свой собственный дом рассматривать не иначе как
товар". Это уже не поверхностные замечания — они затрагивают новые
тенденции в жизни древнего города патрициев; наблюдая ее, Гёте признавался, что
его нередко "охватывала тоска по долине Заале" (XIII, 152). Родительский дом на Гроссер
хиршграбен был продан; он жил в квартире на Россмаркт, откуда открывался
прекрасный вид, госпожа советница переехала сюда два года назад. 25 августа он
покинул город. Прощание с матерью было прощанием навсегда: больше он уже не
видел ее — она умерла в 1808 году.
22 августа, еще во
Франкфурте, его посетил один молодой человек с видом "несколько
подавленным и болезненным"; но он "действительно мил и при всей
скромности, даже робости, прямодушен" (XIII, 153); Шиллер узнал из письма Гёте от 23
августа 1797 года: "Вчера побывал у меня Гёльтерлейн". Это была
последняя встреча Гёльдерлина, служившего тогда домашним учителем у Гонтаров, и
Гёте, у которого тот надеялся получить совет, одобрение и поддержку.
Еще в ноябре 1794
года Гёльдерлин (его фрагмент "Гипериона" и стихотворение
"Судьба" были опубликованы в "Талии") писал с огорчением
своему другу Нейферу, как во время посещения Шиллера на его квартире в Йене он
в "сидевшем в глубине комнаты" незнакомце, который никак не проявил
себя в тече-
216
ние длительного времени:
ни голосом, ни каким-либо особым выражением лица, — не признал Гёте. Потом он
побывал у него в Веймаре и пришел в восторг от того, что "нашел столько
человечности в столь великом человеке" (письмо Гегелю от 26 января
217
Сам Гёте, насколько
мы знаем, ни разу не писал Гёльдерлину. Каково было его мнение об
"Эмпедокле", переводах Софокла, гимнах — неизвестно. Знаком ли он был
с ними вообще? Ведь многое было опубликовано лишь спустя годы после его
смерти...
В августе 1797 года
Гёте обрисовал в общих чертах свой характер. Правда, в набросанном портрете не
упоминается его имя, но по всему видно, что поэт имел в виду самого себя, когда
диктовал эти психологические этюды своему секретарю Гайсту. Путешественник руководствовался
принципом "скептического реализма", в полном соответствии с этим
сделано и "описание самого себя" — это критическая оценка
особенностей душевного склада. Определяющим движущим мотивом ему представляется
"поэтическое влечение к самовоспитанию", стремление к
совершенствованию, основывавшееся на продуктивной взаимосвязи своего
"я" и окружающего мира: "Неизменно деятельное, обращенное внутрь
самого себя и к внешнему миру поэтическое влечение к самовоспитанию всегда было
стержнем и основой его существования. Достаточно только уяснить себе это, и все
кажущиеся противоречия разрешаются естественно и сами собой. Но поскольку это
влечение не ослабевает никогда, то — дабы не терзать себя бесплодно — он
вынужден обращаться к внешнему миру и, будучи натурой скорее практической,
нежели созерцательной, пытается воздействовать в этом направлении. Вот отчего у
него возникло ложное стремление к изобразительному искусству, к которому у него
нет дарования; к практической деятельности, для которой ему недостает гибкости;
к наукам, для которых он не обладает достаточным упорством. Но поскольку он
подходит ко всему творчески, поскольку во всем и неизменно он настаивает на
реальности материи и содержания и на соответствующей им форме, то деятельность
его, пусть даже он развивал ее в ложном направлении, не осталась бесплодной ни
для внешнего мира, ни для него самого". Теперь оценивающему себя поэту
"поэтическое влечение к самовоспитанию" в узком смысле —
художественный способ познания — представлялось деятельностью, наиболее
соответствующей его природным склонностям, в то время как вмешательство в
"практическую жизнь" и в "науки", которым он пожертвовал
столько времени, он оцени-
218
вает поразительно
низко. Но летом 1797 года, после завершения "Годов учения Вильгельма Мейстера",
в год создания эпоса и баллад, ему хотелось именно в поэтическом видеть
продуктивную силу. Диктовавший эти заключительные фразы
"самохарактеристики" знал, однако, что ему будет сопутствовать
беспокойство: "Особенность, отличающая его как художника и человека, — это
его возбудимость и подвижность, благодаря которым он мгновенно проникается
настроением окружающего, что и побуждает его либо бежать прочь, либо сливаться
с ним. Так обстоит у него с книгами, людьми и с обществом: он не может читать, чтобы
не проникаться настроением через книгу, а проникаясь настроением — пусть даже
само направление ему совершенно чуждо, — он стремится активно
противодействовать этому и в то же время создать нечто подобное".
"Скептический
реализм" как принцип наблюдения дает себя знать во всех путевых записях,
сделанных в 1797 году. Спокойно, внимательно наблюдать, пристально вглядываться
и вникать в предметы — к этому неизменно стремился, путешествуя, автор записок;
некоторые из его записей, как, например, зарисовки Гейдельберга или
Хайльбронна, представляют собой образец совершенной прозы, соединяющей в себе
блистательное описание и тонкую характеристику увиденного. Во всем этом виден
человек, который не только владел искусством описания, но и — безусловно —
располагал временем, чтобы полностью погрузиться в созерцание, целиком отдаться
наблюдению; впрочем, Гёте и не мог торопиться, дорожный возок — наемная
двухместная полукаретка — преодолевал в среднем не более десяти километров в
час; делались многочисленные остановки на ночлег, что было необходимо и
планировалось заранее. "Хайльбронн — 27 августа 1797 года: прибыли в 6
часов вечера". Следующий день посвящается осмотру города. "28
августа: чтобы составить выгодное впечатление о Хайльбронне, надо непременно
совершить прогулку по его окрестностям" (это был как раз его день
рождения, о чем он не упоминает). Хайльбронн произвел на него приятное
впечатление: город, где гармонически соединялось старое и новое и во всем
чувствовался ясный порядок; "благосостояние бюргеров" распределено
равномерно. "Хотелось бы поближе узнать этот маленький мир", — писал
он Карлу Августу 11 сентября 1797 года.
219
Следующие на его
пути города — Штутгарт и Тюбинген. Встречи с художниками и учеными, со
скульптором Даннекером, у которого он любовался бюстом Шиллера, отлитым из
металла; с архитектором Туре, руководившим в 1798 году строительством замка в
Веймаре. В эти же дни Гёте диктует своему секретарю "Некоторые соображения
о живописи по стеклу" со специальными замечаниями об отдельных цветах. В Тюбингене
он живет у издателя Иоганна Фридриха Котты, занимает "веселую
комнату", откуда "открывается между старой церковью и академическим
зданием приветливый, хотя и узкий вид на долину Неккара" (Переписка, 326).
Это первая их встреча здесь после того, как Шиллер установил с издателем тесный
контакт. Он и в дальнейшем, когда Котта взял на себя публикацию — вплоть до
последнего прижизненного издания — произведений Гёте, оставался между ними
посредником, чьи советы и ходатайство были нередко и необходимы и полезны; не
всегда легко возникала договоренность между предприимчивым и оборотливым
издателем и педантичным, не забывающим о гонораре автором. Завязавшиеся в дни
пребывания Гёте в Тюбингене отношения сохранились на всю жизнь, принесли немало
отрадного обоим, выдержали испытания и в целом были исполнены "высокого
обоюдного доверия и уважения", как их, пожалуй, точно охарактеризовал Гёте
в одном из своих последних писем Котте (16 июня
В Шафхаузене Гёте
вновь посетил знаменитый Рейнский водопад — посмотреть на это чудо природы, как
его тогда называли, спешил каждый, кто приезжал в Швейцарию. В 1775 году, когда
поэт впервые посетил эти места, он был глубоко растроган и взволнован при виде
грандиозного зрелища — "вспенившегося водопада могучего Рейна"
("Третье паломничество ко гробу Эрвина в июле 1775 года". — 10, 21).
В 1779 году, во время второго путешествия по Швейцарии, он смотрит на все уже
взглядом спокойного наблюдателя. Невозможно представить, чтобы в дневнике за
1797 год могла появиться запись, подобная
220
той, что была
сделана в 1775 году, — не спокойная фиксация пережитого, а выплеснувшееся на
бумагу переполнявшее его чувство: "Уставшие и
возбужденные сбежали с горы... Будоражились до полночи". В 1797
году описание Рейнского водопада он предварил даже рассуждениями о значении и
пользе описания (что очень существенно для того времени, когда еще не умели
фотографировать). Целиком посвятив день Рейнскому водопаду, Гёте попытался
обрисовать это явление природы в его частях и целом, сформулировать мысли и
впечатления, которые он вызвал. Сюда вкрались, правда, и замечания,
изобличающие растроганность наблюдателя: "Мысли об Оссиане. Любовь к
туману при сильных внутренних ощущениях"; и название главки, содержащей
собственно описание: "Взволнованные мысли".
Достаточно скупы
записи, относящиеся к пребыванию в Цюрихе. В прежние приезды он подмечал все,
что было здесь именитого и титулованного и что подвергали насмешкам многие
авторы. В этот раз за два дня — 19 и 20 сентября — был сделан единственный
визит: к Барбаре Шультхес. Что побудило его встретиться именно с этой женщиной?
Он был знаком с ней со времени первой поездки в Швейцарию в 1775 году, провел с
ней несколько дней в Констанце, возвращаясь в 1788 году из Италии, обменялся
несколькими письмами, ей же послал свое "Театральное призвание Вильгельма
Мейстера", которое она переписала; он был с ней в самых коротких
приятельских отношениях, и, возможно, она напоминала ему своей веселостью и
жизненным оптимизмом его мать; идя к ней, он надеялся, быть может, освежить
добрые воспоминания и просто поговорить по душам... Мы не знаем, о чем на этот
раз состоялся разговор между Гёте и его знакомой, которая была старше его на
четыре года. В дневнике о встрече с ней только два слова: "К госпоже
Шультхес". И все же часы, проведенные с ней, по-видимому, не доставили
удовольствия. Она была дружна с Лафатером, а с ним Гёте давно порвал.
Религиозная экзальтация бывшего друга стала в конце концов невыносимой. В "Венецианских
эпиграммах" он высмеял его: "В тридцать лет на кресте распятым быть
должен фанатик, / Мир позднее поняв, Шельмовать бедняга начнет" (перевод
А. Гугнина). По-видимому, старуха мешала также "связи" с Кристианой
Вульпиус, о которой столько судили и рядили. В ее чувствах к нему, как это
проглядывает из ее
221
писем, примешивалось
нечто, что было больше, чем только восхищение веймарской знаменитостью. Вечером
19 сентября она послала ему в гостиницу записку: "Милый, должна
признаться, что несколько дурное настроение, которое я едва лишь заметила в
твоем присутствии, но сильнее почувствовала, когда ты уже ушел, огорчает
меня... Не зайдешь ли завтра на часок, чтобы поговорить с другими чувствами и
приятно?" Гёте не пришел. Он совершил прогулку по Цюриху, но к старухе не
заходил; и, завидев издали Лафатера, смахивавшего своей походкой на журавля,
отошел в сторону, чтобы не столкнуться с ним лицом к лицу, так что тот прошагал
мимо, не заметив его: "Возвращаясь домой, я повстречал журавля".
После обеда приехал Генрих Мейер, а на следующий день они уехали на его родину
— в Штефу на Цюрихском озере.
Как и в прежние
приезды, он снова совершил восхождение на Готард; правда, той бодрости, которая
была двадцать лет назад, теперь не было, но хотелось обновить прежние впечатления,
повторить испытанное раньше. "Совершенно ясное небо. Мы постепенно
приближались к вершине. Мох, песчаник и сланцы, снег; все вокруг вздымается.
Озера" (3 октября
С 8 октября Гёте
снова в Штефе; дни были заполнены просмотром материалов, привезенных Мейером,
приведением в порядок впечатлений и мыслей и занесением их в дневник, занятиями
литературой: "От бесплодных вершин Готарда до чудесных произведений
искусства, привезенных Мейером, ведет нас извилистая, как лабиринт, дорога
через сложный ряд интересных предметов, которыми богата эта удивительная
страна" (Шиллеру, 14 октября
В последних числах
октября Гёте снова на несколь-
222
ко дней уезжает в Цюрих и еще раз встречается с
Барбарой Шультхес, которая слала умоляющие письма в Штефу, после того как он
написал ей оттуда: "Во всех моих желаниях мне пока что сопутствовала
удача, кроме одного, чего я так страстно желал бы: снова видеть тебя рядом,
сейчас же и непременно на старом месте" (17 сентября
В обратный путь
отправились 26 октября. С Мейером они еще раз совершили пешее путешествие к
Рейнскому водопаду. Затем возвращение домой: через Тутлинген, Балинген,
Тюбинген, Гмюнд, Эльванген, Динкельсбюль ("город старый, но чистый")
— в Нюрнберг, где он встречается с Кнебелем и проводит несколько дней; но в путевых
записях нет упоминаний об архитектурных сооружениях старого имперского города,
он не удостоился того искусства, которое может рассматриваться путешествующими
как образец описания, зато дневник пестреет именами купцов и посланников, с
которыми Гёте встречался здесь и беседовал. 20 ноября путешественник прибывает
в Веймар; поездка в Италию не состоялась. Неспокойное и даже опасное
политическое положение затрудняло переезд через Альпы. Впрочем, Гёте еще во
Франкфурте потерял охоту к большому и долгому путешествию — во всяком случае,
серьезных сетований по поводу расстроенных планов не было. Три месяца он
находился вне привычного тюрингенского окружения — возможность поразмыслить с
дистанции. И хотя "Аминт", баллады о мельничихе, элегия
"Эфросина" сверкали и переливались красками эротики, впечатление от
природы, бесед с Мейером об искусстве и планы на будущее стабилизировали
душевное состояние. По крайней мере как намекают попутные замечания. "Для
меня было радостью, — писал Гёте Карлу Августу 17 октября 1797 года после дней,
проведенных в горах, — снова увидеть эти предметы и испытать себя на
них..."
223
РАСЦВЕТ ВЕЙМАРСКОЙ КЛАССИКИ
Программа изобразительных искусств.
"Пропилеи"
Большое
энциклопедическое произведение об Италии не было написано. Но материал, собранный
в течение нескольких лет, предварительные наброски и заметки не должны были
остаться неиспользованными. Они относились прежде всего к изобразительному
искусству. Немало потрудился для этого Генрих Мейер, который во время своего
пребывания в Италии специально занимался изучением произведений искусства и
сделал массу ценных наблюдений и замечаний. Гёте на основе своих наблюдений и
знаний, приобретенных в Италии в 1786—1788 годах, продолжал все время
интенсивно размышлять о природе искусства, пытался отыскать его общие
закономерности. Начало, положенное статьями в "Тойчер Меркур" (в их
числе "Простое подражание природе, манера, стиль"), ждало своего
продолжения. Уже из Штефы Гёте писал Бёттигеру в Веймар, что, с того дня как он
снова встретился с Генрихом Мейером, они "занимаются теоретически и
практически" и задумали "составить несколько доступных широкой
публике томов в восьмую долю листа". К весне 1798 года план созревает
окончательно. Шиллер вступает в переговоры с Коттой; издатель, хотя и выражает
сомнение в успехе предприятия ввиду малочисленности "публики,
расположенной к искусству" (Котта — Шиллеру, 11 апреля
224
наблюдения и
рассуждения единомыслящих друзей о природе и искусстве; что касается сведений
из естественной истории, то авторы намерены помещать предпочтительно такие,
которые могут быть полезны художникам и использованы
ими в практических целях; под искусством подразумеваются преимущественно
пластические искусства. Авторы располагают частично материалами по истории,
теории, а также практическому обучению; но авторы намерены не упускать из виду
и другие искусства, поэтому, если к нам присоединятся, чего бы мы желали, еще и
любители поэзии и музыки, то и они найдут, что касается общих понятий,
удовлетворительные этюды" (Шиллер — Котте, 27 мая
225
а также выставки
конкурсных работ и подписывались в своих объявлениях часто сокращенно: "В.
Д. И.". Было известно, что за этой подписью стояли ревнители искусства во
главе с Гёте и Генрихом Мейером. С 1804 года к их кружку примкнул Карл Людвиг
Фернов.
Пропилеи —
преддверие афинского Акрополя, строение, через которое вступали в афинскую
крепость с ее храмами и святилищами. Название журнала намекало не только на
это. Мысль, "обусловившую настоящее заглавие", авторы сформулировали
с предельной ясностью уже в первых строках «Введения в "Пропилеи"»:
"Юноша, когда его влекут природа и искусство, верит, что живой порыв
вскоре позволит ему войти в святая святых; зрелый муж и после долгих странствий
видит, что все еще находится в преддверии" (10, 31). Авторы
"Пропилей" надеялись, что размышления, "разговоры и
дискуссии", которые они были намерены предложить читателям, "не будут
недостойными этого замечательного места". В упоминавшемся письме Шиллера к
Котте разъяснялось, чем будет заниматься журнал. Основные темы, которые авторы
собирались обсуждать на его страницах, — природа и искусство. Что касается
сведений о природе, то здесь, естественно, предполагалось давать только такие,
которые могли быть "полезны" художнику и "использованы" им
в его практике для целей искусства. Художнику необходимо, говорилось в другом
месте, где давались советы начинающим, "изучать человека, чтобы со временем
научиться изображать его в интересных моментах"; следовательно, нужно было
знание анатомии, морфологии. Живописец должен также усвоить общие понятия
физического учения о цвете, чтобы правильно применять краски. Эти
предусмотренные заранее темы в дальнейшем не были изложены авторами
"Пропилей" в развернутом виде. Кое-что частично было затронуто во
второй главе статьи «"Опыт о живописи" Дидро», например в разделе
"Основы гармонии", где Гёте, возражая автору, утверждал, что радуга
(спектр цветов) в живописи не есть то же самое, что генерал-бас в музыке (10,
146). В работе "Учение о цвете" (1810) и в тетрадях "К вопросу о
естествознании, в частности о морфологии" (1817—1824) Гёте возвратился к
означенной проблеме.
Искусство для
"Пропилей" означало почти исключительно изобразительное искусство;
статьи должны
226
были служить
практическим целям художников. Теоретические и исторические сведения могли быть
полезны, но теория, равно как и история искусства, никогда не была самоцелью.
Она рассматривалась только как подспорье в творческой практике, хотя и
чрезвычайно важное. Однако все, что признавалось действительным для
изобразительного искусства, могло относиться и к "искусству вообще".
Речь шла об "основах" для такого искусства, которое осознавало бы
свои теоретически сформулированные принципы и создавало бы произведения с
полным пониманием общественной значимости выдвинутых им критериев. Конечно, все
"друзья искусства" мыслились как желанные адресаты; журнал
задумывался как "легко читаемое, благожелательное для образованной публики
издание", которое будет "способствовать воспитанию и распространению
приятного и полезного".
В планах, набросках,
заметках и в почти готовых статьях не было недостатка. Список "материалов,
подлежащих обработке", был внушительный. Некоторые из идей так и остались
нереализованными, что-то из набросков сохранилось в рукописном наследии Гёте и
только впоследствии было включено в издание его произведений. Журнал,
просуществовавший недолгое время, поддерживался в основном статьями Гёте и
Генриха Мейера. Привлекать к сотрудничеству Шиллера было бесполезно:
по-видимому, он был прав, считая себя некомпетентным в вопросах
изобразительного искусства. Он принимал участие только в обсуждении текста «К
издателю "Пропилей"», касавшегося конкурсных заданий, и в формулировании
"Драматических тем для конкурса", помещенных в последнем выпуске.
Кроме Гёте и Мейера, на страницах журнала выступили еще Вильгельм фон
Гумбольдт, приславший из Парижа сообщение о французских театрах и краткий
разбор картин, и его жена Каролина, также представившая описание картин (все в
третьем томе).
Многочисленные
статьи строгого знатока искусства "Кунстмейера", как и статьи Гёте,
выдвигали требования, которые обсуждались на страницах журнала. В состоящей из
нескольких разделов статье "Об учебных заведениях изобразительных
искусств" он задается вопросом, что было причиной расцвета искусств в
разные времена и у разных народов и "как можно способствовать их
восприятию и предотвратить их упадок". У греков, считал он, была обще-
227
ственная потребность
в искусстве: "храмы, площади, дворцы со статуями и картинами"
доказывают это. Художникам хватало работы, и таким образом "между ними
возникало соревнование, стремление к более высокому и совершенному".
Наконец, "по тем или иным причинам, не обязательно могло возникать что-то
"лучшее", но по крайней мере "лишь нечто новое"; точно так
же обстояло дело с расцветом искусства, вызванного
"христиански-религиозными мотивами". (Мейер прямо свидетельствовал,
что без христианской религии искусства вряд ли могли бы "возродиться".)
В христианском искусстве господствующим было стремление нравиться, оно
приспосабливалось к "настроениям и потребностям" тех, "кто носил
их в себе". Теперь же дело, согласно Мейеру, обстояло иначе: "Наша
эпоха, в сравнении с прошлым, мало нуждалась в значительных произведениях
искусства, поэтому таковые и возникают единицами. Мы отошли от большой
общественной жизни и свели наше существование к ограниченным, семейным,
условиям; все вокруг нас стало значительно уже, единичнее, мельче, все
подчинено интересам частной собственности. Возможно, это и не сделало нас менее
счастливыми; но гражданское чувство солидарности, честь эпохи и наций при этом
мало выигрывали. Пусть поднимаются и цветут искусства; пусть
воцарит всеобщая увлеченность, устремляющаяся к великому. Художники должны трудиться достойно и
разнообразно, создавая значительные произведения".
В этих
историко-философских размышлениях об искусстве (критик, естественно,
провозглашал эпохами расцвета искусства те, в которые возникало утверждавшееся
им искусство) нашло отражение настроение "бюргерских" художников,
которые, хотя и достигли значительной независимости от церкви, двора и их
заказчиков, тем не менее чувствовали себя зависимыми от частного рынка,
неопределенных потребностей и вкусов. Как можно было в такой ситуации найти и
обосновать масштабы искусства, каким образом обстояло дело с заказами, с
возможностями работы? В аргументации Мейера обнаруживается очевидное,
неустранимое противоречие: "Требовали, чтобы художников выше чтили и лучше
вознаграждали! Это было бы естественно, справедливо и прекрасно на более
высокой ступени развития искусства; но позволим себе утверждать: никакое
подлинное, достойное высокой оценки искусство не воз-
228
никает или не может
возникать иначе как только ради самого себя".
Если все дело было в
том, что независимость искусства и автономность художественного произведения
должны были сохраняться вопреки всему, то следствием этого для искусства должно
было бы быть следующее: "утвердить правильные художественные нормы, распространить
их среди художников", стимулировать их через заказы, публичные выставки их
произведений и всеобщий интерес и таким образом пробуждать стремление
"соревноваться и совершенствоваться в мастерстве". Равным образом
нужно было воспитывать вкус публики и заказчиков в соответствии с
"правильными максимами". Именно в этой связи и шла речь об
"учебных заведениях" для художников.
В последнем
выступлении Гёте на страницах "Пропилеи" в связи с распределением премий
за 1800 год сквозил оттенок разочарования. Ведь в сфере искусства нельзя было
достичь единого мнения "ни в том, что должно создаваться, ни в оценке
созданных ценностей". Собственно, этого и следовало ожидать.
Художественная программа "Пропилей" не потому не соответствовала
времени, что ее поборники видели высший образец в искусстве Древней Греции и
Ренессанса, а потому, что, следуя этому ориентиру, они пытались составить свод
обязательных для всех теоретических правил. Удивительно, как Гёте, который прошел
школу Гердера и которому Мёзер указывал на продуктивность многообразия форм
исторического развития, мог долгое время полагать, что изобразительные
искусства должны ориентироваться на нерушимые нормы, если даже они и оставляли
значительный простор для творческой фантазии. Развитие искусства шло своими
путями. "Пропилеи" и конкурсы на заданные темы с выставками
конкурсных работ, проводившиеся в 1799—1805 годах "веймарскими друзьями
искусства", хотя и привлекли к себе некоторое внимание, не оказали решительного
влияния на развитие искусства на рубеже веков. Это не исключает того, что в
статьях Гёте, с которыми он выступил на страницах "Пропилей",
содержатся важные теоретические суждения и тонкие наблюдения. К тому же
некоторые моменты становятся понятнее в историческом контексте и в свете его
биографии. Во "Введении в "Пропилеи" и в "Объявлении
"Пропилей", которое было опубликовано в йенской "Альгемайне
229
литератур-цайтунг"
спустя полгода после выхода первого выпуска журнала (24 апреля
Сознание
незыблемости ценностей и законов искусства укрепляло чувство надежности и
устойчивости в собственной жизни с ее трудностями. Мир искусства как твердая
опора, противостоящая тревогам и волнениям, с которыми он принужден был
справляться один, не имея возможности поверять их ни Кристиане (ей меньше
всего, потому что многие щекотливые житейские ситуации касались ее в равной
степени), ни Шиллеру (самым интимным, что они обсуждали, были болезни), ни
другим, с кем он вел переписку и состоял в деловых контактах. Самым
доверительным собеседником, как ни странно это звучит, мог быть Карл Август, с
которым его жизнь была тесно связана с 1775 года. Но теперь герцог только качал
головой: "Гёте пишет мне такие реляции, что хоть сейчас помещай в журнал.
Просто удивительно, до чего торжествен
230
стал этот
человек!" (Кнебелю, 23 сентября
Статьи Гёте, опубликованные
в "Пропилеях", представляют собой разного характера эссе. Во
"Введении" обрисованы направление и общие положения программы
издания, которая потом была осуществлена только частично. Статья "О
Лаокооне" задумана как образец описания произведения искусства в
соответствии с признаваемыми теоретическими принципами. В статье "О правде
и правдоподобии в искусстве" Гёте использует форму сократовского диалога
для разъяснения основного убеждения о собственных законах, автономности
художественного произведения. В «"Опыте о живописи" Дидро» автор дает
перевод с собственными критическими комментариями и таким образом
"беседует" с умершим французом, оспаривая некоторые положения Дидро и
высказывая собственное понимание искусства. "Коллекционер и его
близкие" в эпистолярной форме предлагает высказывания друзей искусства о
любителях, знатоках и художниках. В последнем номере журнала издатель помещает
в связи с конкурсными темами 1800 и 1801 годов "Краткий обзор искусства в
Германии". В рукописном наследии поэта остались в известной степени
завершенные заметки: "О сюжетах изобразительного искусства",
"Искусство и ремесло", "О строгих суждениях", а также две
рецензии на работы молодых художников. Помимо этого, все разработки проекта конкурсов
и художественных выставок 1797—1805 годов, начиная от составленного Гёте и
Мейером "Уведомления художникам и конкурсные темы" за 1799 год и
кончая отчетами, опубликованными в "Альгемайне литератур-цайтунг",
после того как "Пропилеи" прекратили свое существование.
Статьи Гёте (равно
как и Мейера) касаются нескольких стержневых вопросов, тесно между собой
связанных. В чем своеобразие искусства в сравнении с природой? Каковы
отличительные признаки совершенного художественного произведения? Каковы
действительные критерии в оценке произведения искус-
231
ства? В чем
особенность художника, стремящегося к совершенству? Какие предметы пригодны для
изображения в искусстве? Какой должна быть эстетическая позиция знатоков
искусства?
Ответы на эти
вопросы Гёте искал и находил в античном искусстве, которое он считал
образцовым. "Какой из новейших народов не обязан грекам возникновением
своего искусства?" (10, 31.) Но не в рабском подражании древним видел Гёте
цель художественного творчества. Речь шла о том, чтобы обнаружить принципы,
которыми старые мастера руководствовались при создании своих произведений,
осмыслять их и творчески использовать в собственной практике. Цель,
следовательно, не имитация, а освоение того, что достойно примера, и применение
в собственном творческом процессе. Теория — для того, чтобы еще раз подчеркнуть
это, она — своего рода повивальная бабка искусства.
Гёте неустанно
подчеркивал начиная со времени своего пребывания в Риме отличие между природой
и искусством. При этом "главным требованием", предъявляемым
художнику, всегда оставалось требование "придерживаться природы, изучать
ее, воспроизводить и создавать нечто сходное с ее явлениями" (10, 35). Но
вслед за этим Гёте решительно утверждал: "Природа отделена от искусства
огромной пропастью, которую без внешних вспомогательных средств не может
переступить даже гений". Представление о гении в юности было иным.
Особенность его как раз и состояла в том, что он не должен подчиняться никаким
правилам; творческая воля гения, свободного от каких-либо сковывающих его
принципов, придает, считал он тогда, соответствующую произведению форму. Это
чувство творца прошло, не устояло перед опытом веймарских лет. Прометей ранних
гимнов был далеко в прошлом. Но сохранялась верность природе, частью которой
был сам художник как созидательная сила; природу Гёте по-прежнему рассматривал
как сокровищницу явлений, от которых не должны удаляться творения художника.
Однако цель искусства, сколько бы оно ни состязалось с природой, состояла вовсе
не в том, чтобы превзойти природу. Художник, утверждал Гете, призван творить
"нечто духовно органическое" и придавать "своему произведению
такое содержание, такую форму, чтобы оно казалось одновременно естественным и
сверхъестественным" (10, 35). Для этого ху-
232
дожник
должен обладать (как уже постулировалось в статье о стиле, опубликованной в
"Тойчер Меркур") умением проникать как "в глубь вещей", так
и "в глубь своего собственного духа" — сложный процесс: нужно взять у
"предмета" "содержание" (однако еще не каждый предмет
пригоден для этого) и придать произведению "форму", без которой не
может отчетливо выявиться "духовно органическое".
В чем художнику
следовало придерживаться природы, раскрывала следующая максима: "Человек
является высшим, исконным объектом изобразительного искусства", потому что
он — высшее творение органической природы, но, разумеется, и потому еще, что
тот, кто формулировал это положение, ориентировался преимущественно на
скульптуру, где человеческий образ, по его представлению, достигал предела
возможностей прекрасного воплощения. Человеческую фигуру, считал Гёте, нельзя
понять путем простого созерцания ее поверхности, художник должен познать
"основу явления": "Подлинный источник совершенного видения
заключен в нашем знании" (10, 36).
Особенно решительно
Гёте отстаивает свое понимание искусства как второй природы в воображаемом
разговоре с Дени Дидро, "другом и противником", который настаивал на
верном подражании природе, выступая как просветитель против пышности и
жеманства придворного искусства. Переводчик и критик упрекает его в том, что он
смешивает природу и искусство, "мы же озабочены тем", высказывает он
свое убеждение, "чтобы раздельно представить воздействие того и
другого". Возражение Гёте было таким резким, пожалуй, оттого, что постулат
естественности французского мыслителя слишком уж настоятельно отсылал к
конкретной действительности, перед лицом которой поэт не хотел представать
столь беззащитным после того, как ему пришлось испытать разочарования при
столкновении с веймарской реальностью. С впечатляющей — хотелось бы сказать: поэтической,
не теоретической — осмысленностью сформулировал Гёте свое понимание искусства в
те годы: "Природа создает живое безразличное существо. Художник, напротив,
мертвое, но значимое. Природа творит нечто действительное, а художник — мнимое.
Тому, кто созерцает творения природы, необходимо самому заранее придавать им
значимость, чувство, мысль, выразительность, воздействие на
233
душу, а в
художественном произведении он способен найти и действительно находит все это
уже наличным" (10, 118).
Но как бы ни
отличалось правдивое в искусстве от правдивого в природе, связь искусства с
природой была нерасторжимой: художник оставался обязанным придерживаться
природы, ее естественных явлений, он должен был "хотя бы отчасти
перенимать у природы те способы, которые она применяет при создании своих
творений". Общее в искусстве и природе Гёте видел в "высшей и
единственной операции" — "в формообразовании". Эту мысль он
высказывал в письме Цельтеру 30 октября 1808 года, когда обосновывал свою
критику молодых "поэтических талантов", у которых, на его взгляд, все
уходит "исключительно в бесформенное и бесхарактерное". (При этом он
упоминал среди прочих авторов Ахима фон Арнима и Брентано.)
За искусством
признавалось решительное превосходство, в этом его отличие от природы. То, что
в природе, которая в беспрерывном становлении творит ради себя самой и
равнодушно порождает как прекрасное, так и уродливое, заключено в возможностях
прекрасного завершения и проявляется только случайно, искусство запечатлевает
сознательно. Совершенное искусство ухватывает "природу в самой достойной
точке ее проявлений", перенимает у нее "красоту пропорций", с
тем "чтобы уже от себя их предписывать природе" (10, 121).
"Искусство не пытается состязаться с природой по всей ее ширине и глубине:
оно удерживается на поверхности явлений; но оно обладает своей особой глубиной,
своей особой силой; искусство запечатлевает наивысшие мгновения этих
поверхностных явлений, познавая и признавая заключенные в них закономерности,
запечатлевает совершенство, целесообразные пропорции, вершину прекрасного,
достоинство смысла, высоты страсти" (10, 121).
Художник добавляет
природе то, чего в ней, бездуховной, нет. Эти привносимые творческим духом
элементы искусства Гете обозначает понятиями, которые требовали подробных
разъяснений: смысл и достоинство ("О правде и правдоподобии в
искусстве"), форма и пропорции, "та живая целостность, которая
действует на силы нашего разума и нашей души, возбуждает наше вожделение,
возвышает наш дух, которая, став нашим достоянием, делает нас счастливыми,
234
все, что исполнено
жизни и сил, что развито и прекрасно" (10, 118).
Размышления Гёте
вливаются в многовековые раздумья об искусстве как мимесисе, подражании. Еще Аристотель
усматривал в мимесисе сущность художественного творчества: в художнике
показательным образом проявляется естественная склонность человека к
подражанию. Позднее под мимесисом стали понимать подражание природе, и вполне
естественно было, что к художественному мимесису предъявлялись разные
требования в соответствии с различным пониманием природы и ее определяющих
законов. Если, например, Готшед и другие видели в природе нечто упорядоченное,
то, что можно постигнуть разумом, что не содержит ничего противоречащего, имеет
свое достаточное основание и остается в пределах правдоподобия, то и в
искусстве и поэзии тоже все должно было "выдерживать испытание
разумом" и быть правдоподобным. Опера при этом, естественно, отвергалась,
потому что она допускала массу несуразных и невероятных вещей ("Опыт
критической поэзии", 1730). Почти через 60 лет после Готшеда Гёте в своем
диалоге "О правде и правдоподобии в искусстве" именно на примере
оперы и ее декораций размышлял о неправдоподобном в искусстве, которое навязывается
зрителю в театре. Но вместе с тем он, мягко убеждая, показывал "внутреннюю
правдивость, проистекающую от завершенности произведения искусства" (10,
61), и разграничивал высшую правду о жизни, к выражению которой должен
стремиться художник, и "натуральность", внешнее правдоподобие.
И разрушающая
правила творческая воля гения, каким он виделся Гёте в юношеский период,
понималась исключительно как мимесис, но здесь имелось в виду подражание
непрерывно порождающей и созидающей силе самой природы. Это было не копирование
самой природы, но
творчество по образу природы. Там, где субъективное стремилось к свободному
выражению, общеобязательные предписания и образец теряли свое значение. Теперь,
в пору расцвета веймарской классики, конечной целью искусства провозглашалась
красота, какой она была воплощена в творениях античных мастеров.
235
О прекрасном и о выборе предмета
Споры вокруг
прекрасного ведут свое происхождение с далекой древности; на протяжении истории
одни представления сменялись другими, предпринимались поистине отчаянные, хотя
и тщетные, попытки установить абсолютные законы красоты. Усилия Шиллера
свидетельствуют об этом. Кант также не верил, что может быть найдено
объективное понятие красоты. Винкельман, страстный проповедник греческого
искусства, в котором он видел непревзойденный и абсолютный образец,
рассматривал идею прекрасного как идеальный прообраз, от которого что-то
проявлялось в античных шедеврах, и он осознавал трудность всеобщего и ясного
объяснения красоты. Ибо наши знания, считал он, есть "представления в
сравнении", в то время как "красота не может быть сравнима ни с чем
более высоким". Идеал прекрасного существует в божественной, вневременной
сфере, где царствует совершенство и где все единичное является частью
гармонического целого: "Высшая красота в боге, и понятие о человеческой
красоте становится тем совершеннее, чем более оно приближается в нашем
представлении к высшему существу, которое воплощает понятие о единстве и
неделимости и отделяет его в нашем сознании от материи" ("История
искусства древности", 1764, 4-я глава). Таким образом, красота
представлялась Винкельману как некий воображаемый прообраз. Отличительные
признаки красоты, которые выделял Винкельман, признавал и Гёте: соответствие
различных частей целого, ясность и совершенство пропорций; но у Гёте
представление о красоте было теснее связано с порядком, который он видел в
природе. Уже в рецензии на книгу Карла Филиппа Морица "О пластическом
подражании прекрасному", опубликованной в 1789 году в "Тойчер
Меркур", он цитировал: "Всякая прекрасная целостность в искусстве
есть малый отпечаток наивысшей красоты природы в целом" 1. В этом взгляде Гёте укреплялся с годами все
сильнее, равным образом он отходил от критериев периода издания
"Пропилей". Вот два афоризма из "Максим и рефлексий":
"Прекрасное — манифестация сокровенных законов природы; без его
возникновения они навсегда остались бы сокрытыми" (10, 427); "Тот,
кому природа
1 Гёте И. В. Об искусстве. М., 1975, с. 89.
236
приоткрывает свою
тайну, испытывает непреодолимое стремление к самому достойному ее истолкованию
— искусству". Если следовать этим максимам, то названные выше принципы
красоты помогут меньше, чем размышления, в какой символической форме можно было
бы наглядно представить "сокровенные законы красоты". Красота в
понимании "веймарских друзей искусства" не означала приукрашивание
или исключение не-прекрасного. В письме от 7 июля 1797 года Шиллер иронизировал
над тем, как "новые аналитики своими усилиями выделить и представить в
известной чистоте понятие прекрасного почти лишили его всякого содержания и
превратили в пустой звук"; он обращал внимание на бессмысленные потуги в
поэзии, "чтобы грубые, часто низкие и безобразные явления у Гомера и у трагиков
согласовать с установившимися понятиями о прекрасном в искусстве греков"
(Переписка, 292). Он даже был бы рад, как признавался в том же письме, если бы
кто-нибудь отважился наконец «вывести из употребления понятие и даже слово
"прекрасное"». И все-таки примат прекрасной формы не отвергался. В
статье "О Лаокооне" Гёте изложил основные требования, которым должны
отвечать "величайшие произведения искусства": последние, писал он
здесь, показывают нам "живые, высокоорганизованные натуры",
"характеры", предметы "в спокойствии или в движении"; в
раздельчике, носящем подзаголовок "Идеал", он требует от художника
умения находить "момент величайшей выразительности" предмета, с тем
чтобы "вознести его над ограниченной действительностью" и "в
идеальном мире придать пропорции, границы, реальность и достоинство" (10,
49). Следующее качество высокохудожественного произведения, как его формулирует
Гёте, — это "обаяние" — как выражение "чувственных законов
красоты", а именно "порядка, ясности, симметрии, контраста и т.
п.", благодаря чему предмет "становится прекрасным для глаза, а это и
значит — обаятельным; и наконец, последнее условие, которому должно
удовлетворять "величайшее произведение искусства", — это красота —
как осуществление "закона внутренней духовной красоты"; она возникает
из "пропорций", которыми художник, "призванный изображать и
создавать прекрасное, умеет подчинить все, даже крайности". Таким образом,
с помощью "пропорций" художник должен был смягчать и воздействие
мучительного и безобразного и
237
вносить в
произведение то необходимое равновесие, благодаря которому не разрушалось
целостное впечатление о предмете как о прекрасном.
На группе Лаокоона
Гёте подробно разъяснял, как в этой скульптуре соблюдены все условия, которые
он предварительно набросал, и почему выбранный здесь момент в изображении
троянского жреца Посейдона и его сыновей со змеями следует признать в высшей
степени удачным с точки зрения осуществления принципа красоты. В соответствии
со своими взглядами на искусство в этот период Гёте предлагает в эссе "О
Лаокооне" анализ и собственное истолкование одного из "величайших
произведений искусства". В этом смысле данный анализ остается
показательным для Гёте-дилетанта. Эссе Гёте, как могло бы показать специальное
искусствоведческое исследование, было ответом (хотя автор и не заявлял об этом
прямо) Алоису Хирту, который в своей статье, помещенной в 1797 году в
"Орах", оспаривал утверждение Винкельмана и Лессинга, согласно
которому в Лаокооне проявляется "благородная простота и спокойное величие",
и пытался доказать, что эта скульптура не отвечает идеалу красоты, а скорее
выражает характерное. Своими статьями Гёте и Хирт, историк искусства из
Берлина, вступили в давнишнюю дискуссию о знаменитой скульптурной группе,
созданной около 50 года до н. э. мастерами из Родоса и найденной в 1506 году в
римских термах императора Тита. Знаменитыми словами Винкельмана о
"спокойном величии" — но отнюдь не бесстрастном — начинается его
разбор именно этой скульптуры: "Общей и главной отличительной чертой
греческих шедевров является, наконец, благородная простота и спокойное величие
как в позе, так и в выражении. Подобно тому как морская глубина вечно спокойна,
как бы ни бушевала поверхность, так и выражение в греческих фигурах
обнаруживает, несмотря на все страсти, великую и уравновешенную душу. Душа эта
отражается на лице Лаокоона, и не на одном только лице, несмотря на жесточайшие
страдания" 1
("Мысли по поводу подражания греческим произведениям в живописи и
скульптуре", 1755).
Он не поднимает
"ужасного вопля", замечает далее Винкельман, "как это поет
Вергилий в своем
1 История эстетики.
Памятники мировой эстетической мысли. Т.
238
Лаокооне". Лессинг, анализируя скульптурную
группу (1767), выразил несогласие с его оценкой римского поэта и, устанавливая
границы между изобразительными искусствами и поэзией, настаивал на
принципиально разных способах изображения в них одного и того же предмета.
Алоис Хирт в свою очередь утверждал, что страдающий не кричит потому, что в
этой смертельной схватке он попросту не был в состоянии кричать. Гёте видел
копию скульптуры в Мангеймском зале антиков в 1769 году и уже тогда внес для
себя ясность в знаменитый вопрос, почему Лаокоон изображен не кричащим, а
стонущим: "Он не мог кричать". А позднее в статье "О Лаокооне"
он, не останавливаясь специально на этом вопросе, подтверждал свою мысль:
именно в этот наиболее удачно выбранный момент, не момент смертельной схватки,
но перехода от одного состояния в другое — в момент "стремительности и
порыва, действенности и страдания, напряжения и покорности" (10, 52) — он
не мог кричать.
На группе Лаокоон
Гёте подробно разъяснял, в чем состоит преимущество выбранного здесь предмета и
почему представляется удачным момент, в который он изображен. Гёте, как и
Шиллера и Генриха Мейера, особенно занимал вопрос, какие предметы наиболее
достойны изобразительного искусства. Вопрос решался не просто. 15 сентября 1797
года Шиллер писал в Штефу, где Гёте и Мейер размышляли над предметами
искусства: "Превосходно было бы, если бы Вы совместно с Мейером развили
Ваши мысли о выборе сюжетов для поэтического и пластического изображения"
(Переписка, 330). Сюжет "Германа и Доротеи" оба находили в высшей
степени удачным. Но как можно было избежать ошибочного выбора, как найти выгодный
для изображения предмет? Этот вопрос Гёте и Шиллер неизменно обсуждали при
встречах и в письмах; показательным в этом отношении представляется особенно
интенсивный обмен мнениями и замечаниями по поводу сюжета о Валленштейне и
разработки его. Когда Гёте писал свою раннюю заметку "По Фальконе и
касательно Фальконе" ("Из записной книжки Гёте", 1775), ему еще
казалось, что художнику ничто не препятствует в выборе предметов: "Глаз
художника находит их везде: в мастерской башмачника и в хлеву, смотрит ли он на
лицо своей возлюбленной, на собственные сапоги или на античные статуи — везде
он за-
239
мечает эти чудесные
изменения и тончайшие нюансы, связующие все в природе". И все-таки в конце
он задается вопросом: "Насколько много предметов ты в состоянии так
воспринять, чтобы быть способным сотворить их заново?" После неудачных
попыток сделаться художником Гёте особенно интенсивно размышлял о том, какие
предметы и для каких видов искусства наиболее пригодны и наоборот. И как это
часто бывает, он, не решив окончательно этот вопрос для самого себя, уже давал
советы касательно художественного метода и выбора сюжетов художнику Фридриху
Мюллеру (письмо от 21 июня
Еще в Италии Гёте
обратил внимание на то, что древние придерживались ограниченного круга
предметов; выбор сюжета становится затем серьезной проблемой, над которой поэт не
перестает размышлять — по крайней мере теоретически и применительно к
пластическим искусствам. Но предметный отбор, важный сам по себе, должен
совершаться с учетом возможностей материала, его особенностей и требований,
которые он предъявляет, это Гёте уже отчетливо понимал, когда писал заметки
"Зодчество" и "Материал изобразительного искусства"
(опубликованы в "Тойчер Меркур" в 1788—1789 годах). То же относилось
и к поэзии; так, Шиллер в письме от 15 сентября 1797 года, вспоминая об
идеальном случае с "Германом и Доротеей", указывал, "что
определение предмета должно всякий раз совершаться при помощи средств,
свойственных данному роду искусства" (Переписка, 330). Следовательно,
нужно было выработать также ясное представление о поэтических жанрах. Так обозначился
широкий круг задач; тем не менее ни Гёте, ни Шиллер не создали специальной
обобщающей поэтики. Статья "Об эпической и драматической поэзии",
плод их совместных теоретических раздумий, хотя и содержит важные обобщения,
носит очерковый характер, а размышления о трагедии были обменом мыслями в чисто
рабочем порядке, отнюдь не предварительными этюдами, которые могли бы в
дальнейшем вылиться в связное изложение общетеоретических взглядов в форме
трактата о поэзии. Собственно, старания найти и сформу-
240
лировать законы
жанров в любом случае шли вразрез с временем. С тех
пор как нормативная, выдвигавшая правила поэтика примерно в 1770 году
обнаружила свою несостоятельность в свете принципов исторического подхода,
признававшего за историческими явлениями их собственное право, всякие попытки
обосновать пригодные для всех времен законы искусства и жанров и требовать их
признания были обречены на провал. То, что они свидетельствовали о
неуверенности в собственном положении и были естественным стремлением противопоставить
текущему и преходящему нечто постоянное, это очевидно. В сетованиях Гёте, что
"все мы, современные поэты", испытываем мучения при "выборе
предметов", сказывалось ощущение скудости эпохи, когда человек не был
больше окружен космосом истинных ценностей, который наглядно выступал в
чувственных мифологических сюжетах и образах. Христианские мифологемы были
чужды ему (самое большее, что он мог, — это использовать их в качестве
символических образов), ибо он не принимал провозглашаемые в них и выдаваемые
за откровение истины.
Мысли, набросанные в
Штефе в виде заметок "О предметах изобразительного искусства", Гёте
не развил дальше. На ту же тему написал статью для первого выпуска
"Пропилей" и Генрих Мейер, но и она представляла собой только очерк с
общей классификацией и подразделением сюжетов на выигрышные, безразличные и
непригодные. Тем не менее Гёте всю жизнь продолжал так или иначе размышлять о
предметах для искусства. Когда он критиковал тех или иных поэтов и художников
или давал советы, это часто сводилось к тому, что он либо иронизировал над
выбором предмета, либо рекомендовал выбрать другой. Вопрос оказывался трудным
еще и потому, что сами обозначения "предмет" и "материал"
(в нашем обиходе — сюжет, тема, мотив) сохраняли некоторую неясность, к тому же
предмет художественного изображения всегда выявляется лишь в самом произведении
и самый процесс обработки его не может быть объяснен до конца. Гёте хорошо знал
это; так, в письме Шиллеру от 6 января 1798 года он писал: "Покуда нет
налицо художественного произведения, никто не имеет понятия о возможности его
создания" (XIII,
170). Тем не менее, оценивая творческий процесс с дистанции времени, он исходил
из убеждения, что художник из всех имеющихся у него наго-
241
тове сюжетов
выбирает в качестве основы произведения один предмет и уже к нему присоединяет
другие, более или менее подходящие. Предмет уже привносит с собой смысл, считал
он, поэтому следует выбирать достойные и значительные предметы, которые могли
бы сообщить произведению значительное содержание. Разработать его — задача
художника и участие его в создании произведения. Если Гёте и говорил иногда,
что истинный художник должен уметь обращаться с любым предметом, то при этом он
все-таки неизменно подчеркивал плодотворную взаимосвязь между предметом и
художником. Когда художник завладевает каким-либо предметом в природе,
разъяснял он во «Введении в "Пропилеи"», то этот последний уже
перестает принадлежать ей — художник в это мгновение создает его,
"извлекая из него все значительное, характерное, интересное или, вернее,
впервые вкладывая в него эту высшую ценность" (10, 38). Оба слова:
"извлекать" и "вкладывать" определяют взаимосвязь между
предметом и художником настолько же точно, насколько и оставляют вопрос открытым.
После того как предмет благополучно найден, считал Гёте, начинается его
"обработка": "духовная", в процессе которой предмет
воссоздается "в его внутренней связи", "чувственная",
благодаря которой произведение становится "доступным чувственному
восприятию, приятным и радушным", и, наконец, "механическая",
которая средствами соответствующего материала "сообщает произведению его
бытие, его действительность". Все это только кажется понятным, иначе
обстояло на деле. Шиллера недаром охватывали сомнения: хотя он и заявлял, что
вопрос "о выборе сюжетов для поэтического и пластического
изображения" есть один из самых важных, он в то же время признавался, что
решение его трудно и "всегда, пожалуй, останется больше делом чувства и
чутья" (в письме в Штефу от 15 сентября
242
писателях, которые с тех пор давно получили широкое
признание и высокую оценку. И все же заслуживает уважения его глубокая
убежденность, вера в то, что значительное содержание в искусство привносят уже
сами предметы. Это убеждение могло основываться только на безграничной вере в
природу в самом широком смысле. В рукописных материалах "К истории моих
ботанических штудий" обнаруживается фраза, которая подтверждает это его
убеждение и желание удостоверения в объекте: "Как поэт я всегда стремился
к предметности выражения".
Художественное воспитание посредством конкурсов и премий
В своем увлечении
искусством античности и теоретическими рассуждениями на страницах журнала
"Пропилеи" Гёте и Мейер решили проводить конкурсы для художников.
Целью их было, конечно, не насаждение духа подражания античным образцам, а
художественное воспитание на практике. Они определяли тему, преимущественно из
античной мифологии, которая представлялась им значительной для изображения в
искусстве, и предлагали ее для разработки в соответствии с творчески освоенным
античным искусством. Таким образом, художник должен был упражняться в выборе
предмета и учиться искусству формы, ориентируясь на древних мастеров.
Объявление о конкурсе на заданную тему появилось в "Пропилеях" в мае
1799 года; оно было сформулировано Генрихом Мейером при участии Гёте и Шиллера
и опиралось на основные положения статьи Мейера "О сюжетах
изобразительного искусства". Каждому, кто хотел, предоставлялась
возможность "испытать на практике максимы, которые мы считаем правильными".
"С целью состязания мы предлагаем для всех художников сюжет, который нам
кажется подходящим для изображения; тот рисунок, который будет признан лучшим,
получит премию в 20, а следующий за ним — премию в 10 дукатов". Издавна,
говорилось далее, художники "черпали свои мотивы" из эпоса Гомера.
Многое у него "так живо, так просто и правдиво представлено, что художник
найдет свою работу уже наполовину выполненной". На этот раз в качестве
"сюжета" предлагалась сцена из третьей книги "Илиады", где
Венера возвращает Парису Елену. Живопис-
243
цам и скульпторам
(которые могли ограничиться рисунками) не давались указания относительно
размера, формата, расположения и соотношения частей, но выдвигалось требование
"наибольшей простоты и экономии в изображении". Предполагалось выставить
все предъявленные на конкурс работы и опубликовать "обоснованные
отзывы" на премированные рисунки. Назывались критерии оценки работ. Выше
всего ставилась "изобретательность" (все ли достаточно мотивировано,
"целесообразно задумано и внутренне прочувствовано"); затем
учитывалось "преимущественное выражение — живость, одухотворенность, после
чего уже рисунок и композиция [...]". Все происходило, как было обещано. В
1799 году было представлено только девять работ, но Гёте, хотя он и испытал
разочарование, продолжал устраивать конкурсы вплоть до 1805 года. На
последующие смотры, правда, присылалось уже больше работ, некоторые из них были
выполнены на темы, выбранные самими художниками. В течение 1800—1805 годов были
предложены следующие темы: Прощание Гектора; Смерть Реса (1800); Ахилл на
Скиросе; Ахилл и речные боги (1801); Персей освобождает Андромаху (1802);
Одиссей и Полифем; Побережье Циклопов (1803); Люди, которым угрожает вода
(1804); Подвиги Геркулеса (1805). Мейер писал рецензии — добросовестно, со знанием
дела, подробные, нередко утомляющие педантичностью; иногда писал отзывы Гёте,
слывший инициатором и покровителем конкурсов; велась обширная переписка, имели
место и неприятные моменты. И тогда уже спорным представлялся вопрос:
способствовали ли в действительности добрые намерения "веймарских друзей
искусства" развитию искусства на рубеже веков и могли ли указывать путь
современному и будущему искусству критические отзывы, основывавшиеся на
максимах "Пропилей"? Оценки и критерии, которыми Гёте и Мейер
руководствовались при разработке конкурсных заданий 1799—1805 годов, оставляют
впечатление хотя и высокообразованного, но музейного академизма. То, чем
занимался тайный советник, признавший свои собственные притязания в области
изобразительного искусства ложными тенденциями ("Самохарактеристика",
1797), было, в сущности, дилетантством; он рисковал распылить свои силы (чего
опасался Шиллер и о чем писал в письме Котте 10 декабря 1801 года), то есть
фактически занимался тем, о чем неодобрительно отзывался в своих
244
заметках "О
дилетантизме", может быть критически оценивая при
этом самого себя. Конкурсы не стали событием в культурной жизни; они привлекали
к себе некоторое внимание, но не оставили хоть сколько-нибудь значительного
следа в развитии искусства, не повлияли на его дальнейшие судьбы, хотя на них
были затрачены масса усилий и времени ; будущее принадлежало таким художникам,
как Филипп Отто Рунге, Каспар Давид Фридрих, художникам романтического
направления.
Еще раньше Гёте
намеревался на основе поступавшей информации составить общее представление о
состоянии искусства в Германии. В 1800 году он решил поместить в
"Пропилеях" "Краткий обзор искусства в Германии",
содержавший довольно смелые оценки. Критический выпад заслуживает того, чтобы
на нем остановиться подробнее. Фридрих Бури из Берлина, с которым Гёте
сблизился еще в пору своего пребывания в Риме, поставлял в Веймар информацию о
тамошнем искусстве, в частности описал организованную в берлинской академии
художественную выставку, на которой, по его словам, было представлено такое
множество "национальных картин", что трудно было удержаться от смеха.
Как показывает каталог выставки 1800 года, экспозиция состояла сплошь из картин
на отечественно-исторические темы, непременно прославлявших прусских королей
(Фридрих Вильгельм III в натуральную величину
на коне — как значилось в каталоге — "прусской породы"). В своем
"Обзоре" Гёте открыто писал: в Берлине, кажется, "более всего
проявляется прозаический дух времени". Всеобщее человеческое вытесняется-де
отечественным. Затем следовали много раз цитированные впоследствии фразы,
которые немцам не всегда были по вкусу: "Может быть, когда-нибудь поймут,
что патриотического искусства и патриотической науки не существует. Как все
высокое и благородное, они принадлежат всему миру [...]".
Выступил Готфрид
Шадов, берлинский критик. Хотя он и признавал, что Гёте направлял свой пафос не
против национального своеобразия, а против — как мы бы сказали — ограниченного
националистического духа в искусстве, но в своей статье в журнале
"Эйномия" за 1801 год выдвигал серьезные доводы против догматизма
теоретических построений веймарских ревнителей искусства. Он был против того,
чтобы современному искусству навязывать античный образец, и противопоставлял
классицистской одно-
245
сторонности
разнообразную по форме и содержанию поэзию самого Гёте, которая его восхищала.
"Пытаться стать подражателем Гомеру, когда есть Гёте! Если б имел я власть
пресечь столь непростительную скромность!" ("О нескольких
напечатанных в "Пропилеях" суждениях Гёте, касающихся состояния
искусства в Берлине").
В 1805 году от
конкурсов пришлось отказаться; Гёте полагал, что распознал главных виновников:
художников, которые не желали следовать веймарским художественным принципам,
тех живописцев, кто вроде Филиппа Отто Рунге признавались: "Мы не греки,
мы не можем испытывать те же чувства при созерцании их совершенных творений
искусства, еще в меньшей степени способны сами создавать нечто подобное"
(февраль 1802 года — письмо Ф. О. Рунге отцу). По прошествии времени, после
1812 года, разочарованный Гёте с горечью говорил о том, что распространилось
"искусство, приукрашивающее ханжеством безответственное устремление
вспять", и афористически обобщал: "Душа ставится над духом,
естественность над искусством, в выигрыше оказываются равным образом как
способный, так и неспособный. Душа есть у каждого, естественность — у многих;
дух — редкость; искусство — многотрудно". Еще в 1805 году, при обсуждении
с Мейером одной работы братьев Рипенхаузенов, перешедших в католицизм, они
придумали ярлыки, которые потом пускали в ход в борьбе с романтическими
тенденциями, представлявшимися им пагубными: "неокатолическая
сентиментальность", "монашеское штернбальдовское чудище".
Поводом послужили "Сердечные излияния отшельника — любителя искусств"
(1797) Вакенродера и "Странствования Франца Штернбальда" Людвига
Тика. "Веймарским друзьям искусства" могли казаться чудовищными
строки, которыми Тик, в память своего рано умершего друга Вакенродера, заключил
первую часть романа о Штернбальде: ему особенно претила "анализирующая
критика", которая противостоит "почитающей восторженности", и он
избрал "маску религиозного духовного лица", "чтобы свободнее
выражать свою кроткую душу, свою благоговейную любовь к искусству".
Основная мысль "Сердечных излияний" звучит: "Наслаждение
благородными творениями искусства я сравниваю с молитвой" 1.
1 Вакенродер В. Г. Фантазии об искусстве. М., 1977, с. 74.
246
Благоговение и
озарение, умиление и почитание — вот что, согласно Вакенродеру, необходимо для
наслаждения искусством. Различие в нюансах: почитание и состояние умиления,
естественно, не было чуждо и Гёте, но избыточность "души",
перескакивающей через "дух", — этого принять он не мог.
И то, что он в
последнем конкурсе присудил половину денежного вознаграждения Каспару Давиду
Фридриху, представившему сверх конкурсных работ на заданную тему два
рисунка-сепии ("Паломничество при закате солнца" и "Осенний
вечер на озере"), ничего в перспективе не меняет. Хотя впоследствии он
высоко оценивал его "чудесные ландшафты" (как назвал их в дневниковой
записи от 18 сентября
Классика и классическое.
Сомнительные понятия
Идеи, художественные
принципы и критерии, которые были выработаны "веймарскими друзьями
искусства" в десятилетие, охватывающее примерно 1795— 1805 годы, их
программу эстетического воспитания, которую они пытались осуществить на
практике, обычно обозначают определением "высокая классика". Оно,
несомненно, в какой-то мере соответствует действительности, если под
"классикой" — без учета времени и места ее создания — понимать
сознательную ориентацию на "классическую" античность. Лучше
247
говорить о
классицизме. Проблематичность этой терминологии достаточно общеизвестна.
"Классика" и "классическое" стали выражениями-штампами,
употребляемыми в различных смыслах. Стало привычным, что
"классическое" служит обозначением вневременной ценности
и вневременного стиля.
В значении наивысшей ценности
слово "классическое" употребляют в тех случаях, когда имеют в виду
нечто образцовое, достойное подражания. В разные эпохи
"классическими" могут называться произведения, образцовые для данного
времени. Здесь, однако, тотчас возникают трудности. Ведь то, что считает
достойным один, иначе оценивает другой. И то, что кто-то признает то или иное
художественное воплощение образцовым, зависит от мнения, сложившегося на основе
индивидуального социального опыта. В еще большей степени это относится и к самим
художникам. Тому, кто считает "Вильгельма Мейстера" Гёте или романы
Теодора Фонтане классическими образцами романа, трудно оценивать непредвзято
Джойса, Пруста и других — они могут оказаться недоступными для его восприятия.
А тот, кто оценивает стихи молодого Гёте или романтическую поэзию как
классические образцы поэзии, — как он будет воспринимать поэзию Брехта или
Хейсенбюттеля, Эрнста Янделя или Петера Рюмкорфа? Воздаст ли он им должное?
Ярлыки с оценкой "классическое" разумнее не наклеивать еще и потому,
что произведение, возведенное в ранг "классического", часто осуждает
публику на бездейственность, вызывает стремление цитировать, но не прочитывать.
Мы не можем, однако,
не признать, что установился канон "классических" произведений.
Определение "классическое" — это свидетельство о зачислении
произведения в разряд шедевров. В 90-е годы XVIII века немало сделали для создания всемирно-литературного канона братья
Шлегели. Нет оснований отвергать их оценки античных поэтов, Данте, Сервантеса, Шекспира,
Гёте и других поэтов и писателей. Важнее приятия их оценок стремление
разобраться в предпосылках и взглядах, которые заставили Шлегелей и других
создателей канона прийти к этим оценкам. (Не забывая, однако, о том, что
перешедший в католическую веру Ф. Шлегель судил иначе, чем молодой Шлегель.)
Применительно к стилю
понятие
"классического" проще. Если вывести общие признаки "классическо-
248
го" стиля, то
можно рассматривать "классические" формообразования средневековья и XX века и в другие эпохи. При этом как образец всегда остается в виду
античное искусство. Пропорциональность и стройность, ясность и строгая
очерченность линий — все это подразумевается, когда то или иное произведение
зачисляют в разряд "классических". Из работ Винкельмана, из статей в
"Пропилеях" видно, какие признаки эти авторы называли определяющими
для "классического" стиля; убедительные критерии содержит и работа
Генриха Вёльфлина "Основные понятия истории искусств" (1915). В
итоге: чтобы не обесценить другие признаки стиля, определение
"классический" применительно к стилю вернее было бы использовать
только как нейтральное описательное
понятие.
Слово
"классика" претендует также на обозначение отрезка жизни и творчества
писателя и эпохи в совокупности. Бесспорно, что Гёте пережил период творчества,
означавший его классику: стремление наследовать тем принципам, которые в
искусстве древних и их продолжателей он признавал образцовыми и достойными
подражания. Однако сомнительными представляются взгляды, подобные этому:
встретившись с античностью, он преодолевал чисто субъективную, разрушающую все нормы
эстетику "Бури и натиска" и обратился к искусству
"классики", в котором форма и содержание нераздельно связаны в одно
целое. Такие понятия, как "форма" и "закон", являются будто
бы выражением новой позиции. Если даже отвлечься от того, что и в поэзии
штюрмеров форма и содержание образуют единство, у трезвого наблюдателя
напрашивается вопрос: почему поворот к классическому должен непременно
означать, как об этом нередко приходится читать, преодоление прежних взглядов,
причем "преодоление" часто определяют как позитивный момент? Вот
ходячий пример: мятежная молодость уступает-де место уравновешенности и
зрелости. Тем самым предлагается чуть ли не программа воспитания: дескать, показательно,
что Гёте встал на этот путь, более того, в развитии Гёте от
"штюрмерства" к "классике" видят пример пути, который якобы
должен пройти человек. В старости, оглядываясь на пройденный путь и пытаясь
объяснить его как последовательное развитие, Гёте сам критически оценивал
период увлечения идеями штюрмерства, что было несправедливо по отношению к себе
и товарищам юности. Нам не следует повторять за ним
249
вслед
то же самое.
"Классика" Гёте — это отрезок, период творчества — не больше и не
меньше; на него не должны ориентироваться другие.
Когда говорят о
классическом применительно к эпохе, то возникают те же нелепости, что и при определении эпох вообще. Чтобы
выработать ясный взгляд на историческое развитие и его эпохи, надо стремиться
не подпадать под влияние сложившихся представлений об эпохах и их общеизвестных
обозначений. Разумеется, существует потребность в ориентации в разных
исторических периодах, тем более это относится к исследователю литературы,
стремящемуся упорядочить бесчисленное множество явлений и расчленить большие
временные процессы. Иначе и нельзя понимать усилия, направленные на вычленение
и обозначение эпох. Хотя во всякой тщательно разработанной концепции той или
иной эпохи можно найти уязвимые места и выдвинуть против них убедительные аргументы,
мы тем не менее отказываемся от этого бессмысленно-хитроумного занятия. Когда
несколько десятилетий назад начали активно оспаривать правомерность понятия
"эпоха барокко", романист Эрих Ауэрбах попытался компромиссно
разрешить этот вопрос: с этим понятием он обращался так же, как и со всеми
другими названиями эпох и общепринятыми определениями стиля — дескать, они
нужны нам, чтобы сделать нас понятными самим себе, хотя мы хорошо знаем, что
они никогда полностью не соответствуют действительному положению вещей.
Обозначения эпох не соответствуют прежде всего фактическому многообразию
содержания каждого данного периода. В одно и то же время сосуществует разное, и
эту одновременность разного не может покрыть какое-либо одно определение.
"Просвещение", "Буря и натиск", "Классика",
"Романтизм" — эти обозначения рождают иллюзию, будто бы действительно
существовали подобные эпохи, и к тому же последовательно сменяли одна другую.
Уже беглый взгляд на 90-е годы XVIII столетия со всей
очевидностью показывает, что ни одно определение эпохи не в состоянии охватить
все сосуществующее в них и несовместимое, что тут не все накладывается одно на
другое и соединяется в одно целое. Еще в достаточной мере сохраняли силу
воздействия эстетические воззрения Зульцера, так же характерно представлял этот
период Готфрид Август Бюргер (можно ли отделить его от данной эпохи?); в те же
годы существует то, что принято называть "поздним Просвещени-
250
ем", причем это самая яркая, многокрасочная пора
его существования (и вовсе нет оснований пренебрегать им в угоду иным позициям
и направлениям взглядов) ; в это же время на
литературной ниве трудятся якобинцы и либералы, напрягают свои усилия Гёте и
Шиллер, влияние которых в эти годы еще слишком ограниченно; братья Шлегели,
Новалис, Тик, Вакенродер, Бонавентура, Август Вульпиус (его "Ринальдо
Ринальдини" — один из наиболее читаемых в это время романов), Коцебу
(пьесы которого идут с шумным успехом) — все одновременно рядом друг с другом.
Из журналов в этот период издаются не только "Новая Талия",
"Оры", "Пропилеи", "Атеней", но и многие другие,
имевшие по крайней мере равный успех. А то, что "трех великих"
писателей (Жан Поля, Гёльдерлина, Генриха фон Клейста) мы не можем поместить ни
под какую крышу эпохи, показательно как явление, издавна и во все времена
имевшее место во всяких литературах. Как нельзя подводить под определение
"классика" весь жизненный путь, все творчество и взгляды
"классиков" Гёте и Шиллера, так недопустимо использовать и
определение "немецкая классика" применительно ко всему периоду
начиная примерно с 1796 года и по 1805 год. "Классический" период
составляет только часть творческого пути Гёте, в равной степени и
"немецкая классика" представляет собой лишь одно
течение наряду с другими в
то же самое время, лишь одну теорию и художественную и литературную практику наряду с другими. Ясное
осознание этого факта помогает непредвзято воспринимать и оценивать феномены,
которые не могут быть подведены под "классику" и даже находятся в
непосредственной и сознательной полемике с ней. В 90-е годы XVIII столетия
и в первые годы XIX века наряду с сочинениями классиков публиковались романы Жан
Поля, стихотворения Гёльдерлина, произведения ранних романтиков, выходили тома
"развлекательной литературы", печатались листки, журналы, стихотворения
и прочие произведения многочисленных авторов, стремившихся непосредственно
воздействовать в духе радикально-демократических изменений на
общественно-политические порядки и определявших задачи литературы иначе, чем
Гёте и Шиллер.
В конце XVIII столетия слово "классический" употребляли для обозначения
произведений, которые признавали образцовыми, а также всего искусства и
литературы античности. Гёте, испытавший прекрасные
251
переживания при
встрече с древним искусством во время своего большого путешествия в Италию,
даже саму почву южной страны называл "классической". Он
"познакомился с современностью классической почвы" и в своем позднем
"Втором пребывании в Риме" выражал "чувственно духовное
убеждение, что здесь было, есть и будет великое". "Чувствую радостно
я вдохновенье классической почвой" (перевод Н. Вольпин — 1, 185) — начинается одна из "Римских
элегий"; так и "Пропилеи" напоминали, что "не следует
удаляться от классической почвы". Август Вильгельм и Фридрих Шлегели
вначале называли все, что возникло после античного искусства,
"романтическим" в отличие от "классической" древности;
потом, когда Фридрих разработал свою концепцию "романтической поэзии"
как современного поэтического искусства, он употреблял это слово уже только для
обозначения той поэзии, которая удовлетворяла его идее романтического. Он
обнаруживал даже в античном искусстве "классически романтические"
произведения. Мы уже упоминали, что Шиллер использовал определение
"образцовое" применительно к поэтически совершенным произведениям и
был твердо убежден, что критерии нужно искать и находить в античном искусстве.
В статье "Литературное санкюлотство" Гёте не без основания выразил
убеждение, что "ни один немецкий писатель сам не считает себя
классическим" (10, 270), этого очевидного правила придерживались и
"наши классики". Они не употребляли слово "классика"
применительно к собственной эпохе и собственным достижениям. Но определение
"классическое" Гёте использовал для обозначения совершенных
художественных произведений, в которых он, если даже речь шла о современных
художниках, как, например, об Алессандро Мандзони, видел воплощенным нечто из
того, что воспринял и усвоил в античном искусстве.
Классицистическое кредо
Сознательный
классицист периода издания "Пропилей" и проведения конкурсов
неизменно использовал определенные слова и выражения; они концентрированно
отражали его основополагающие взгляды, в соответствии с которыми
формулировались требования, выдвигавшиеся перед художниками, и критерии
художественных произведений для любителей искусства.
252
Многими
из них он оперировал при анализе и истолковании группы Лаокоона: мера, границы,
расположение и соотношение частей, пропорции, порядок, ясность, симметрия,
очерченность контуров, разнообразие состояний — спокойствие и движение, контрасты
и постепенные переходы — все, чего художник в состоянии достичь только в том
случае, если он умеет проникать в глубь вещей, охватить предмет во всем его
объеме; одновременно он
должен уметь уловить благоприятный или, если использовать выражение Шиллера,
"выразительный" момент для его изображения. Но художник не может
навязывать произведению субъективное ощущение, а должен стремиться создать
"нечто духовно органическое", что возможно лишь при проникновении
одновременно "в глубь собственного духа" и "в глубь вещей".
К "классическому" в этом понимании относится и дистанция, с которой
объект обозревается и разрабатывается в его соотношении и пропорциях. К этой
позиции принуждал себя в эти годы беспрестанно терзаемый внутренним беспокойством
автор элегий "Аминт" и "Эфросина". Когда позднее он писал,
что "Овидий остался классическим даже в изгнании", что "он ищет
свое несчастье не в самом себе, а в своем удалении от столицы мира" (10,
427), то и это была максима желаемой позиции, на которую он осуждал себя. В
объективно увиденном никогда не должно было проявляться одно только особенное,
но единичное должно было обязательно содержать всеобщее. Так в скульптурной
группе Лаокоона, считал Гёте, выступает уже не троянский жрец, в нем "мы
видим только отца и его двух сыновей в беде — одолеваемых двумя опаснейшими
змеями" (10, 51).
Правду в искусстве
Гёте не отождествлял с правдой в природе. Но художественно воплощенное, считал
он, должно оставаться верным природе, оно не может противоречить красоте,
которую природа так часто обнаруживает в поверхностных своих проявлениях.
Насколько мало, однако, это понимание могло быть пригодным для всех времен,
показывает следующее место из статьи «"Опыт о живописи" Дидро»;
достаточно вспомнить хотя бы о картинах Пабло Пикассо, чтобы почувствовать
условность постулата Гёте, который не может претендовать на универсальность:
"Любое красивое лицо будет искажено, если свернуть нос на сторону. А
почему именно? Да потому, что нарушена симметрия, на которой основана красота в
253
облике человека. Ведь если говорят об искусстве,
пусть даже шутя, то вообще не должно быть речи о таком лице, в котором все
черты настолько смещены, что уже не приходится требовать какой-либо симметрии
отдельных частей" (10, 120).
Для завершающей
стадии периода строгой приверженности античным критериям характерна статья Гёте
1805 года, вошедшая в сборник, изданный Коттой: "Винкельман и его время. В
письмах и статьях". Письмами Винкельмана к другу юности Берендису,
состоявшему позднее военным советником в Веймаре и умершему в 1782 году,
владела герцогиня Анна Амалия; Гёте задумал издать их, поскольку они казались
ему важными для характеристики Винкельмана как человека. Что он думал о
сожжении писем своих адресатов теперь, по прошествии времени, когда писал эти строки:
"Письма принадлежат к наиважнейшим памятникам, которые может оставить
после себя отдельный человек"? Этот сборник содержал также работы Генриха
Мейера, Карла Людвига Фернова и филолога-классика из Галле Фридриха Вольфа.
Эссе Гёте представляет собой попытку истолкования восхищавшего его
исследователя греческого искусства, биографический очерк, в одиннадцати главках
которого освещены основные вехи личной жизни, влияния среды, сочинения и
основополагающие взгляды. Незадолго до этого, в 1803 году, вышла в свет книга о
Челлини; Гёте дополнил свой перевод жизнеописания художника XVI века приложением, содержавшим материалы для более основательного
изучения эпохи и условий, "которые могли способствовать формированию столь
удивительной и значительной личности"; но они носили "эскизный,
афористичный и фрагментарный характер", хотя в них и угадывались основные
направления, по которым могла бы быть разработана биография. Основываясь на
них, можно полнее раскрыть и обрисовать как саму эпоху, время и условия,
определившие путь развития, так и обстоятельства личной жизни и характеристику
произведений. То, что им было сделано в набросках в приложении к переводу
Бенвенуто Челлини и в очерке о Винкельмане как опробование принципов
биографического описания, нашло применение в собственных автобиографических
произведениях.
Восхищением и
уважением проникнуто эссе 1805 года о Винкельмане. Для Гёте это был повод еще
раз заявить о своих убеждениях классицистических лет.
254
"Античное"
— так называется одна из главок, в которой снова предстает идеальный мир
древних, противопоставляющийся современности, образ человека, жившего в
прекрасном согласии с самим собой. Греки были, как рисовало воображение,
"подлинно целостными людьми", счастливым уделом которых было
"равномерно соединять в себе все качества" (10, 160). Они в равной
мере были способны наслаждаться счастьем и переносить беду. "Такая
античная натура" возродилась, считает Гёте, в Винкельмане. Гёте еще раз
подчеркивает значение красоты в искусстве в отличие от природы и находит слова,
выражающие полное гуманистическое достоинство его собственных усилий и усилий
его друзей, следующих тому, кому он хотел здесь воздать должное. "Высший
продукт постоянно совершенствующейся природы — это прекрасный человек"
(10, 164). Однако природе, "идеям" которой "противоборствует
слишком много различных условий", редко удается создать его и даровать ему
длительное существование, "ибо, точно говоря, прекрасный человек прекрасен
только мгновение". Эту задачу, считает Гёте, берет на себя искусство:
"...человек, поставленный на вершину природы, в свою очередь начинает
смотреть на себя как на природу в целом, которая сызнова, уже в своих пределах,
должна создать вершину. С этой целью он возвышает себя, проникаясь всеми
совершенствами и добродетелями, взывает к избранному, к порядку, к гармонии, к
значительному и поднимается наконец до создания произведения искусства,
которому, наряду с другими его деяниями и творениями, принадлежит столь
блистательное место. Когда же произведение искусства уже создано и стоит в
своей идеальной действительности перед миром, оно несет с собою прочное
воздействие, наивысшее из всех существующих, ибо, развиваясь из соединения всех
духовных сил, оно одновременно вбирает в себя все великое, достойное любви и
почитания, и, одухотворяя человеческий образ, возносит человека над самим
собой, замыкает круг его жизни и деятельности и обожествляет его для
современности, в которой равно заключены и прошедшее и будущее" (10,
164—165). Эссе Гёте — не только выражение преклонения перед Винкельманом, это и
полемически направленное выступление. "Пропилеи" художественные
принципы, которые выдвигали "Пропилеи" и на которые их авторы
опирались, осуществляя эстетическое воспитание посредством кон-
255
курсов, решительно
оспаривались. Фридрих Шлегель, оставивший увлечения греческой древностью и
интеллектуальной игрой, что было заметно в его ранних философско-теоретических
работах, и уже сильно склонявшийся к католицизму, утверждал в своем разборе
картин, помещенном в издаваемом им журнале "Европа" (1803—1805),
совершенно иные идеалы и образцы: христианское искусство с изображаемыми в нем
мадоннами, страданиями, мучениками и святыми. Находясь под впечатлением картин
на христианские сюжеты, увиденных в 1802—1803 годах в Лувре, а затем
древнегерманского искусства, с которым он познакомился во время поездок
(начиная с 1804 года) с братьями Сульпицем и Мельхиором Буассере в Кёльн, по
Рейну и в Нидерланды, он сделался страстным проповедником этого искусства.
Новая вера ли сделала его восприимчивым к живописи на религиозную тематику,
само ли это искусство укрепило в желании перейти в другое вероисповедание,
никто не может это с точностью определить. Искусство, писал Ф. Шлегель, не
должно изменять "первоначальному назначению, какое оно имело в древние
времена, а именно — прославлению религии и раскрытию ее тайн еще прекраснее и
отчетливее, чем это может быть достигнуто с помощью слова". "Описание
картин из Парижа и Нидерландов" было полемически заострено против взглядов
"веймарских друзей искусства". Поэтому Гёте подтвердил в 1805 году
свое признание нехристианского искусства, назвав одну из главок своего эссе
"Языческое", в котором он видел "неистощимое здоровье", а
вступление Винкельмана, "прирожденного язычника", в католическую веру
оценивал как приспособление, к которому принудили его условия: она была для
него, писал Гёте, лишь "маскарадным нарядом", который он вынужден был
накинуть на себя (10, 167), иначе он "не достиг бы полностью своей
цели" (10, 166). Глава "Католицизм" была недвусмысленным ответом
на переход в другую веру — тенденция, которая довольно отчетливо уже
обозначилась в те годы: в 1800 году в католицизм перешел Фриц Штольберг, в 1804
году — братья Рипенхаузены, в 1808 году католическую веру принял и Фридрих
Шлегель. Это было бегство в лоно божественного милосердия, потому что было
подорвано доверие к тем высоким устремлениям, на которые отваживался субъект в
своем свободном самоопределении (как, например в афоризмах молодого Ф.
Шлегеля).
256
Попытки Гёте
содействовать развитию изобразительного искусства, ориентированного на античный
идеал, как уже говорилось, оказались безуспешными. Усилия Гёте, несмотря на
содержавшиеся в них действенно гуманистические устремления, ничему не
способствовали, то, что они, опиравшиеся на догматические построения, которые
могли разве только цитироваться при случае, не имели воздействия на
общественно-историческую действительность, ничего не вызвали к жизни и ничего
не породили — кроме постоянно производимых на свет статей и книг, — нельзя
ставить ему в упрек, по крайней мере огульно и без оговорок. Разумеется, он и
Шиллер должны были чем-то поплатиться за то, что резко отделили от реальной
жизни все свои размышления об искусстве и эстетическом воспитании. Формирование
общих принципов человеческого поведения, чувств человека, восприятия им удач и
поражений, преображение человека в гуманное и прекрасное существо — все это
входило в их планы, и все это они пытались осуществить, полностью отгородившись
при этом от "реального мира", не входя в проблемы данной эпохи и данного
общества. В письме к Гердеру от 4 ноября 1795 года Шиллер писал, что не видит
"для гения поэзии иного спасения, как покинуть область действительности и
направить свои усилия не на опасный союз, а на полный разрыв с ней"
(Шиллер, VIII, 517). Другими словами:
"гражданская, политическая, религиозная и научная деятельность",
являясь прозой, противостоит поэзии.
В свете подобных
размышлений сегодня, как и прежде, остается открытым вопрос: могут ли вообще
искусство и литература быть связаны с "действительностью" так, чтобы
от них исходили решительные действенные импульсы, и если уж они воспринимаются,
то не происходит ли это таким образом, что следы воздействия остаются
практически незаметными? Ведь еще в горечи шиллеровских выводов в
"Эстетических письмах" ("эстетическое государство" может
стать "действительностью", пожалуй, только "в некоторых
немногочисленных кружках". — Шиллер, VI, 387) слышалась надежда, что и усилия в
эстетической области когда-нибудь и где-нибудь окажутся небесплодными для
"действительности". Могут ли вообще художники и писатели творить без
этой надежды?
То, что Гёте
предписывал изобразительному искусству, ориентируясь преимущественно на
скульптуру, непросто было распространить на поэзию. Это
257
со всей очевидностью
показывают его собственные произведения. Хотя уже ямбическая форма
"Ифигении" и "Торквато Тассо" обнаруживает четкие
характерные контуры, продуманное соотношение образов, диалог с их тематической
определенностью и уплотненностью, с точностью рассчитанные реплики, нередко тяготеющие
к афористической четкости и меткости выражения, но принципам художественного
произведения, выводимым при анализе Лаокоона, интерпретируемого в духе
Винкельмана, ранние драмы не могли удовлетворять. Ни Орест, ни Тассо, с их
бурными и несдерживаемыми эмоциями; ни Фоант, ни Антонио, с их открытым
выражением страстей, не соответствовали классическому равновесию, когда
поверхность остается в сосредоточенном спокойствии, как бы ни бушевали глубины.
"Герман и Доротея" приобретала уравновешенность благодаря строгости и
величавости гекзаметра, достигала прекрасной соразмерности, хотя действие ее и
протекало не без напряженных моментов; эту поэму Гёте и Шиллер неизменно
упоминали в своих письмах как удавшееся произведение, когда они размышляли об
античных художественных принципах и назначениях жанра. Но таким нельзя было
признать "Вильгельма Мейстера", потому что уже его форме недоставало
классического, и Шиллер находившийся еще во власти предубеждений против жанра
прозаического романа, вполне мог отказывать ему, при всем своем восхищении, в
истинной поэзии. Элегии второй книги, после прелюдии "Римских
элегий", уже своими античными размерами указывали на связь с античными
образцами. Но то, что "Навсикая" и "Ахиллеида" остались незавершенными,
свидетельствовало о трудности, даже о невозможности оставаться в новое время,
несмотря на счастливый случай с "Германом и Доротеей", последователем
Гомера. Драмы "Внебрачная дочь", "Палеофрон и Неотерпа" и
"Пандора", в которых Гёте показал высокое мастерство и виртуозность владения
стихотворной формой и средствами языка, пытаясь разработать универсальную по
своей значимости тематику и прямо-таки показательно следовать требованиям,
очерченным им в статье о Лаокооне (например, спокойствие и движение, идеал,
обаяние, красота), тоже остались фрагментами или имели слабое воздействие — если их вообще уместно рассматривать под
углом зрения классицистической теории изобразительных искусств.
258
В результате
предписанные принципы изобразительного искусства никогда не были и уж тем более
не оставались правилами, которым он следовал в собственном поэтическом
творчестве. Гёте хотелось о них помнить, но они не связывали его. Он позволял
себе отходить от них и в письме Шиллеру 16 декабря 1797 года высказал
признание, в котором, однако, звучит оттенок огорчения: "К сожалению, мы
знаем по опыту, что находить для поэта сюжеты никто не может и что даже он сам
нередко ошибается в них" (Переписка, 367). Вообще заслуживает внимания
факт, что Гёте даже в период издания "Пропилей" часто не скупился на
похвалу литературных произведений, далеко не соответствовавших античным
художественным принципам. Так, рецензируя в 1798 году в "Альгемайне
цайтунг", издававшейся Коттой, "Стихотворения Грюбеля на нюрнбергском
наречии", он воздал должное стихам и их автору: эти диалектные стихи,
писал он, будут радушно встречены "друзьями немецкой литературы и
искусства"; в каждом из этих стихотворений "выражает себя
жизнерадостный человек, он в приятном расположении духа, глядит на мир
счастливыми здоровыми глазами и радуется, когда изображает увиденное просто и
наивно" 1.
Отголосок раннего сборника Гердера "О немецком характере в искусстве"
(1773), ощутимый в этих рассуждениях, помогает понять, почему Гёте рекомендовал
стихи: в них била ключом народная поэзия, к которой необходимо было
прислушиваться. (Сомнительное одобрение в конце рецензии: "Его
стихотворения никогда не переступают границ, положенных благомыслящему и
спокойному немецкому горожанину" — шло в заслугу закоренелому противнику
политических волнений и изменений.) В 1805 году он снова обращается к
стихотворениям Грюбеля, которые заслуживали, на его взгляд, того, чтобы
"называться наряду со стихотворениями Гебеля современными".
Нюрнбергский жестянщик, резюмировал Гёте, умеет без излишних рефлексий "передавать
существо дела". Гёте не забыл о народной поэзии, ее силе и достоинствах;
об этом свидетельствовали и другие его рецензии: например, на "Алеманские
стихотворения" Иоганна Петера Гебеля, сборник народных песен
"Волшебный рог мальчика" Арнима и Брентано, на стихотворения и
автобиографию Готлиба Хиллера, поэзию других народов. Вы-
1 Гётe И. В. Об искусстве. М., 1975, с. 354.
259
рабатывалось
представление о "естественном поэте", и чем более критическим становилось
отношение Гёте к немецкой литературе его эпохи, которую он охарактеризовал как
продукт "форсированных талантов", тем привлекательнее для него
становилась составлявшая полную противоположность той литературе поэзия
"естественных поэтов" ("Немецкий естественный поэт" Антон
Фюрнштейн).
Гёте не мог не
догадываться, сколь сомнительным было учение об идеале античного искусства в
новое время. Заметки "О дилетантизме" — собственно, обширные и
оставшиеся неразработанными наброски (теперь как приложение в Na 1),
в которых нашли отражение размышления Гёте и Шиллера о дилетантизме, — при всей
решительной критике времени содержат в себе многое от саморефлексии. Ведь то, в
чем Гёте упрекал дилетанта, который не придерживается твердых принципов,
нередко оказывалось в той или иной степени и его собственной проблемой. При
этом он понимал, что в общей культурной жизни эпохи участвуют наряду с
профессиональными художниками и дилетанты. Сфера художников, следующих в своем
творчестве продуманным и признаваемым принципам, — это еще не все. Хотя
дилетант находится на начальной ступени ("дилетантизм может быть полезен
только как ступень, ведущая к искусству, и никогда сам по себе"), он
все-таки всегда остается "любителем искусств". Он хочет не только
созерцать, но и творить. Но: "Искусство само определяет свои законы и
диктует их времени, дилетантизм же следует тенденции времени". В набросках
и специальных рубриках определяются и разграничиваются "польза" и
"вред" дилетантизма для отдельных видов искусства. Главный недостаток
дилетанта Гёте видит в том, что он не схватывает и не выражает характерное в
предметах — чего поэт требовал от художника, когда писал о "стиле",
обозначая этим словом высшую степень, которой может достигать искусство, — а
теряется в субъективных исканиях и потому не в состоянии создать "духовно
органическое" завершенного в себе художественного произведения. Резкой
критике подвергается дилетантизм в наброске "Лирическая поэзия". В
рубрике "Вред" он пишет: "Дилетантизм может быть двояким: либо
он пренебрегает
1 Schillers Werke. Nationalausgabe, begrundet von J. Petersen. Weimar, 1943 ff., Bd. 21.
260
необходимым
механическим, полагая, что уже достаточно делает, если выражает дух и чувство.
Либо он ищет поэзию в механическом, поднимая ремесло на высоту некоторого
сходства с искусством, но пренебрегая при этом духом и содержанием. Оба вредны,
но первый больше вредит искусству, второй — самому субъекту". Оба вида
дилетантизма Гёте расценивал как "полное ничтожество". Весьма
внушительно выглядит перечень того, что Гёте относил на счет дилетантизма в
новейшей немецкой литературе: альманахи муз, журналы, поэтическая проза
Гесснера, "влияние Бюргера на монотонность поэзии",
"клопштоковские оды", Клаудиус, "виландовская дряблость", —
и вывод: новейший дилетантизм опирается на богатый, развитой поэтический язык и
разрастается за счет внешних приемов. Здесь в общих чертах намечен образец, по
которому Гёте судил потом новейшую немецкую литературу своей эпохи, оказавшуюся
недоступной для его восприятия. В очерках о дилетантизме обнаруживается та
активная сила резкой критики времени, которая еще прежде вызвала к жизни
"Ксении", и вместе с тем скрытая тревога (или уверенность), что
художественные принципы "веймарских друзей искусства" могли потерпеть
крушение при столкновении с действительностью художественно-культурной жизни.
Гёте и сам продолжал дилетантские занятия, доставлявшие ему удовольствие. Это
показывают многочисленные стихотворения, написанные им на случай не только для
"дружеских сред" в 1801—1802 годах; эти стихотворения он включил
затем в группу "Песен для дружеского круга". Что угрожало
художественному произведению как неповторимому, единственному в своем роде
творению, Гёте прозорливо описал в небольшой заметке (оставшейся в рукописном
наследии) "Искусство и ремесло", предварившей те опасения, которые он
выражал в старости, и предвосхитившей анализ художественного произведения в
"век воспроизводимости его техническими средствами", развернутый в XX веке Вальтером Беньямином. Все, что "производится художником механически",
может быть изготовлено тысячу раз, и "машинное и фабричное
производство" в новейшее время использует возможности подобного
изготовления. "Высокоразвитый механизм, утонченное ремесло и фабричное
производство "искусства" приготовляют "настоящему искусству"
и "хорошо направленному художественному чувству" полную
261
гибель. "Если
действительно будет создана большая картинная фабрика, при помощи которой, как
они уверяют, можно каждую картину точно воспроизвести механическим способом,
причем эту работу может выполнять каждый ребенок, то, хотя этим можно будет
обмануть глаз толпы, они, несомненно, отнимут у художника много возможностей
заработка" 1.
"Деревенская фантазия" в Оберроссле
Обратимся снова к
жизненному пути Гёте. Третья поездка в Швейцарию была последним большим
путешествием, которое он предпринял. Правда, он охотно и подолгу бывал на
богемских курортах, но это были не те продолжительные путешествия, во время
которых он всецело отдавался наблюдениям и новым переживаниям, а выезды, предпринимавшиеся
скорее из желания сменить обстановку и разнообразить впечатления, и они не
мешали ему, как правило, осуществлять его текущие планы. Прочие выезды
ограничивались близлежащими местами: Гёттинген, Пирмонт, Лаухштедт, где
располагалась вторая сцена Веймарского театра, центральные области Германии —
Галле, Магдебург, иногда Лейпциг и Дрезден. А поездки в прирейнские области в
1814—1815 годах были встречей с давно знакомыми местами и окрестностями. Гёте
не тянуло больше в неизведанные дали. По-видимому, не столь уж и велика была
его зависть, когда он из своего Веймара, с его "ограниченными" — как
он полуиронически называл — условиями жизни, писал Вильгельму фон Гумбольдту,
пребывавшему в столице мира — Париже: "В то время как мы продолжаем
влачить существование в наших ограниченных условиях, Вы наслаждаетесь всем тем,
что Вам предоставляет ежедневно и ежечасно невообразимый Париж, и, стало быть,
мы могли бы Вам позавидовать" (7 февраля
1 Гёте И. В. Об искусстве. Л.—М., 1936, с. 27.
262
меру намерение
Гумбольдта отправиться в Испанию: "Тот, кто хочет наслаждаться иностранной
литературой, составить себе понятие об обитаемых частях мира, пораздумать о
народах, об их происхождении и условиях жизни, поступит разумно, объездив
несколько стран, дабы получить представление о них, которое никакая литература
не может ему дать" (26 мая
Остается загадкой
привязанность поэта в его неполные пятьдесят лет к насиженному месту, и
объяснением этой его особенности не может служить рассуждение, подобное тому,
что "мир"-де нашел его в Веймаре, хотя вслед за своей матерью, не
любившей путешествовать, он мог бы сказать: "Все они бывают у меня в доме,
и это гораздо удобнее — вот уж воистину, если кого бог изберет, того не оставит
и во сне" (23 декабря
263
"Анналах"
за 1797 год. — Шиллер выехал в сад, который он приобрел под Йеной; Виланд
поселился в Османштедте", располагавшемся в трех километрах от Оберросслы.
Герцогиня Анна Амалия, как известно, давно жила "по-простому" в
Тифурте. В июне 1798 года вступление во владение имением было соответствующим
образом отмечено: был устроен скромный деревенский праздник и дан обед на 20
персон, блюда для которого заранее продумала Кристиана: "1. Суп с саго. 2.
Говядина с горчицей. 3. Зеленый горошек с молодыми петушками. 4. Форели или
жареная рыба. 5. Жаркое из дичи и гуси. 6. Торты и печенье" (письмо Гёте,
18 июня
Впрямь ли настали
Вешние дни?
Солнце и дали
Дарят они.
1 Церера (римск. миф.) — богиня земледелия.
264
Что это — нивы?
Луг или лог?
Всюду бурливый
Плещет поток...
(Перевод Н. Вольпин — I, 257)
Первая строфа
стихотворения "Прочное в сменах" (1803) звучит как прощальный привет
при расставании с мечтой об Оберроссле:
Только б час над ранним краем
Вешний трепет простоял!
Но уж белый дождь, сдуваем
Теплым ветром, замелькал.
Надышаться не успеем
Влажной зеленью в бору,
Как, глядишь, сметен Бореем,
Лист трепещет на ветру.
(Перевод Н. Вильмонта — 1, 456—457)
Из письма Гёте
Кнебелю (23 августа
При исполнении служебных обязанностей
Собственные
пристрастия и занятия Гёте могли бы, конечно, целиком поглощать его время, но
поэта призывали к себе многочисленные служебные обязанности, требовавшие также
времени и внимания. За ним по-прежнему оставалось руководство театром; он
входил в состав комиссии по делам строительства; как
265
и прежде, был членом
тайного консилиума, герцогского кабинета и получал регулярно жалованье, если
даже не связывал себя текущими делами и присутствием на заседаниях. Он всегда
был желанным советчиком в разного рода частных вопросах. Тайный советник Фойгт
и герцог неизменно обращались к нему, когда требовалось обдумать или решить тот
или иной практический вопрос, касающийся науки или искусства в герцогстве.
Собрание "Документов служебной деятельности" 1 дает об этом подробную информацию. Он всегда
был готов исполнить особые поручения, и взял себе это за правило со дня своего
приезда в Веймар. Он осуществлял руководство и надзор за научными учреждениями,
был инициатором всякого рода начинаний в области науки и культуры; несколько
лет уже действовал основанный им кабинет естествознания; он пытался приобрести
для Йены библиотеку приглашенного в 1782 году из Гёттингена естествоиспытателя
и лингвиста Кристиана Вильгельма Бюттнера, страстного коллекционера, а после
смерти его в 1801 году разобрал и систематизировал его наследие. "Я и
понятия не имел о подобном хламе, полдюжины шарманок и цимбал, каковые
приводятся в действие вращением!" — писал он в письме Кристиане 22 января
1802 года. В этом "хламе" были также "антикварные мелочи,
физические приборы". Из переписки Гёте с Фойгтом видно, сколько стараний
приложили эти страстные книголюбы для создания и упорядочения фондов Йенской
библиотеки. Вместе с Фойгтом Гёте осуществлял надзор и за Ботаническим
институтом, а с конца 1797 года в их ведение перешли библиотека и кабинет
нумизматики в Веймаре и библиотека герцога в Йене. С 1803 года они осуществляют
общее руководство музеем в Йене, который непрерывно пополнялся новыми
экспонатами по медицине и биологии. Экспонаты находились во дворце, и их
хранителем был Иоганн Георг Ленц, председатель "Минералогического
общества", почетным членом которого стал в 1798 году Гёте. В 1809 году была
налажена координация управления отдельными учреждениями, а с 1815 года они
передаются под "общий надзор за учреждениями науки и искусства в Веймаре и
Йене", во вновь созданное ведомство, которое находилось в подчинении Гёте.
В 1812 году Кристиан Готлоб
1 Goethes Amtliche Schriften. Veroffentlichung des Staatsarchivs Weimar. Weimar, 1950 ff.
266
Фойгт и Гёте берут
на себя руководство новой обсерваторией, а в 1816 году — только что основанным
ветеринарным училищем.
В начале 1790-х
годов членами тайного консилиума оставались те же люди, что и до путешествия
Гёте в Италию. Возглавлял его действительный тайный советник его
превосходительство Якоб Фридрих барон фон Фрич. Вторым по старшинству был
Кристиан Фридрих Шнаус, третьим — Гёте и четвертым — Иоганн Кристоф Шмидт.
Методы работы не претерпели за это время решительно никаких изменений — разве
что герцог оставил за собой право поручать отдельным советникам разработку
особых вопросов независимо от круга их обязанностей в совете; таким образом,
многие советники, против прежнего обычая, уже задним числом узнавали о решениях
суверена; при таком положении консилиуму часто приходилось исполнять только
текущие дела. Старшим членам, Фричу и Шнаусу, например, сильно не нравилось
это, но Карл Август все же предпочитал доклад одного из своих министров "extra
ordinarie" 1, и
имел, вероятно, к тому основания. По-видимому, он думал таким способом добиться
более строгого режима правления (что при его частых отлучках из Веймара
временами приносило осложнения) и, может быть, надеялся способствовать
сохранению в тайне дел, которые в маленьком государстве, где все чиновники
состояли в приятельских отношениях, а то и в родстве, немедленно получали
огласку. То, что Гёте довольно быстро занял особое положение, было обусловлено
помимо прочего и тем, что он ни в каких связях и отношениях ни с кем в
герцогстве не состоял.
В 90-е годы
положение решающего советника и влиятельного министра все более упрочивается за
Кристианом Готлобом Фойгтом. Много лет он состоял на государственной службе в
Веймаре, был управителем и судьей в Альштедте, затем стал старшим
государственным чиновником в веймарском правительстве; в 1783 году он заступает
в должность тайного архивариуса. Гёте, оценив его как особенно сведущего и
заинтересованного в деле человека, приблизил его к себе и сделал своим
ближайшим сотрудником. С 1783 года они вместе трудятся в комиссии по
горным разработкам, а с 1785 года — в комиссии по налогообложению Ильменау.
Начало их совместной дея-
1 Вне обычного порядка (лат.).
267
тельности для обоих
было счастливым событием. Их отношения, продолжавшиеся на протяжении всей
жизни, трудно определить с точностью каким-либо одним словом; они не были
друзьями в собственном смысле, но не были и только коллегами. Их отношения
всегда были подчеркнуто учтивыми, особенно со стороны Фойгта, и позднее у обоих
вошло в привычку обращаться друг к другу не иначе как со словами "ваше
превосходительство". Выросшие на почве обоюдных государственных интересов,
взаимной преданности общему делу, их отношения стали основой, на которой
возникли и окрепли личные симпатии и доверие друг к другу, еще более укрепившие
их отношения; отношения не двух художников, но двух мужей, подходивших к
общественной деятельности со всей ответственностью как к исполнению своего
долга и близко знавших политические убеждения друг друга; иначе они не
оставались бы на своих местах в Веймаре. Сколько бы Гёте, вернувшись из Италии,
ни исследовал своеобразие правды в искусстве, он никогда не отделял себя от
сферы практической деятельности, ведь и журнальная практика, как показывали
"Пропилеи", а позднее журнал "Об искусстве и древности"
(1816—1827) с их стремлением художественного воздействия, была той же
общественной деятельностью, только другими средствами. Переписка Гёте и Фойгта,
составившая четыре объемистых тома и замечательно прокомментированная,
охватывает период с 1784 года по 1819 год. Уже на смертном одре Фойгт вывел
дрожащей рукой строки: "Жестокая мысль, что это мое последнее слово к
Гёте, ах, дорогой Гёте, будем же душой вместе" (21 марта
В 1791 году Кристиан
Готлоб Фойгт стал членом консилиума, а в 1794 году был произведен в тайные
советники. В его лице Гёте имел доверительного коллегу, с которым он всегда мог
достигнуть взаимопонимания, Фойгт же знал, с кем он мог посоветоваться в нужную
минуту и обсудить — часто незамедлительно — тот или иной вопрос. Он был
безотказным в работе, нередко брал на себя обязанности других членов
консилиума, когда те не справлялись, по болезни или каким-либо другим причинам,
и часто вез один непосильный воз. И дел еще прибавилось, когда
268
умер в декабре 1797
года Шнаус и вышел в отставку 1 апреля 1800 года барон фон Фрич. Тогда думали,
что Гёте, как старший по рангу и единственный из тайных советников дворянского
звания, станет преемником Фрича, но он не хотел больше брать на себя повседневную
работу в совете. Он исполнял обязанности представителя, к примеру, на заседании
комитета сословий в Веймаре. В дневнике помечены сроки между 17 мая и 27 июня,
которые он соблюдал. Часто он бывал официально "при дворе", а 23 мая
"принимал к обеду сословное представительство". В конце 1801 года в
консилиум был введен барон фон Вольцоген, проводивший переговоры в связи с
заключавшимся браком наследного принца Карла Фридриха и великой русской княжны
Марии Павловны, а в 1803 году он стал тайным советником. Фойгт, однако,
по-прежнему оставался перегружен работой, ибо Вольцоген слишком много хлопотал
вокруг молодой пары. 13 сентября 1804 года все тайные советники были
произведены в действительные тайные советники, и титул "ваше
превосходительство" с этого времени неизменно украшал и письма,
адресовавшиеся Гёте. Одно время, с 1802 по 1806 год, к консилиуму был
прикомандирован в качестве помощника тайный советник-ассистент Кристиан Август
Тон, но, человек не совсем здоровый, он так же мало мог помочь Фойгту, который,
по существу, вез на себе всю работу, ибо и от советника Шмидта, страдавшего
старческой немощью, не было проку — с мая 1805 года он уже не являлся и на
заседания. Фойгт справедливо сетовал 6 июня 1806 года своему коллеге фон
Франкенбургу из Готы: "Право, мне не везет на сослуживцев. Тон страдает
ипохондрией и придет ли в себя еще к июлю, Шмидт озабочен тем, чтобы попасть в
рай, Гёте парит над земным и нуждается в непрерывном отпуске для своих занятий
и воспарений собственного духа". С победой Наполеона над Пруссией в
сражениях при Йене и Ауэрштедте 14 октября 1806 года и с угрозой, нависшей над
герцогством генерала прусской службы Карла Августа, окончился десятилетний
мирный период "классического" Веймара, в продолжение которого
Кристиан Готлоб Фойгт оставался самым значительным государственным лицом под
верховной властью своего герцога.
Мнения и соображения
Гёте по тем или иным государственным вопросам изложены в докладных записках и
официальных письмах, некоторые из его
269
суждений,
содержащихся в письмах Фойгту и герцогу, можно рассматривать как вотум;
множество соответствующих высказываний и разговоров отражено также в дневнике.
Особого внимания, как кажется, заслуживает заключение, составленное им в апреле
1799 года. Начало неприятной истории положила публикация, в которой увидели
атеистические мысли; привлекшая к себе всеобщее внимание, она взбесила
финансистов университета, в частности герцога Готы. 15 апреля Гёте составил,
"чуть ли не экспромтом", записку, в которой изложил свой взгляд на
проблему цензуры. Она начинается так: "Конфликт между авторами, требующими
безусловной свободы печати, и правителями, которые могут позволить таковую лишь
в той или иной мере, продолжается со времени изобретения книгопечатания и
всегда будет иметь место. Поскольку можно не сомневаться в том, что писатели и
впредь будут пытаться расширить самовольно присвоенное себе право, а
правительства со своей стороны будут все более ограничивать его, вследствие
чего неизбежно будут возникать новые и новые конфликты, то представляется
целесообразным подумать над тем, нельзя ли найти возможность предотвратить зло
в том кругу, где живешь и работаешь".
Противнику волнений
и переворотов казалось логичным предоставить "правительству" делать
все, что могло способствовать поддержанию порядка и спокойствия. Но для
писателя Гёте главное было в том, чтобы обеспечить по возможности наибольшую
свободу творческому исследованию и публикациям. В поисках компромиссного
решения он предлагает установить в Веймаре, "где до сих пор не существовало
цензуры", следующий порядок: типографиям не принимать ни одной рукописи,
которая "не будет подписана тремя состоящими на княжеской службе
лицами"; в этот совет из трех человек имеет право входить, считает Гёте, и
сам автор, если он из местных ученых, таким образом принимается совместное
решение, "можно и нужно ли печатать" ту или иную рукопись. Гёте
полагал, что так возникнет "общий цензорат". Он предлагал установить
твердый принцип, согласно которому "ничто не должно печататься, что бы
противоречило существующим законам и порядкам", и с такой точки зрения
оценивать рукопись. Сочинения, которые необходимо было бы рассматривать
специально и которым можно было бы
270
предоставлять особое
разрешение, в его записке не оговаривались. Но заключительная фраза со всей
очевидностью свидетельствует о том, что компромиссный путь, к которому в душе
склонялся тайный советник, был возможен: он высказал пожелание, чтобы "мы,
пользовавшиеся доселе репутацией величайшей либеральности, смогли эту
либеральность выказать на деле в необходимых пределах". То, что Гёте
вообще обдумывал мысль о цензуре, связано в том числе с его пониманием
взаимообусловленности терпимости и нетерпимости; об этом он попутно высказался
пять лет спустя в рецензии на "Лирические стихотворения" Иоганна Фосса:
"Можно ли принять эту на первый взгляд справедливую, но пристрастную и
ложную в своей основе максиму, достаточно дерзко требующую от истинной
терпимости быть терпимой и по отношению к нетерпимости? Ни в коем случае!
Нетерпимость всегда активна и агрессивна, и ей можно противостоять только также
непримиримыми и активными действиями". Каждый читатель сегодня знает,
насколько актуальной остается и останется эта проблема. На предложение Гёте о
создании цензуры не последовало никаких практических действий; остался
документ. Позднее, когда после 1815 года журналисты пытались полностью
воспользоваться свободой печати в Великом герцогстве Веймар, снова встал остро
вопрос, можно и нужно ли принимать меры и какие.
Хлопоты о Йене
Много сил и внимания
отдавал Гёте начиная с 90-х годов университету в Йене. Делал он это не столько
по обязанности, сколько из собственных побуждений: вопросы высшей школы
официально не входили в его компетенцию, только с 1815 года они вошли в круг
его специального ведения. Но благодаря своему авторитету и осведомленности в
вопросах культуры он приобрел большое влияние, тем более что всегда работал в
тесном контакте с министром Фойгтом, с 1797 года ведавшим всеми вопросами
высшей школы. Уже и раньше он имел право решающего голоса при назначении на
должность, и можно составить длинный перечень значительных и авторитетных лиц,
работавших в разное время в основанной в 1558 году академии, часто в стесненных
материальных условиях.
271
Для некоторых из них
"Заальские Афины", как именовали студенты свой город в долине Заале,
был только промежуточной станцией в молодые годы, слава к ним пришла позднее.
Среди филологов, философов, теологов, историков, преподававших там в разное
время или одновременно, были Шиллер, Фихте, Шеллинг, братья Шлегели, Гегель,
Генрих Эберхард Паулюс, Кристиан Готфрид Шютц, Генрих Карл Айхштедт, Генрих
Луден, среди естествоиспытателей и медиков — Юстус Кристиан Лодер, Август
Иоганн Батч, Кристоф Вильгельм Хуфеланд, Иоганн Вольфганг Дёберейнер, Лоренц
Окен, и Гёте учился у них. Решение любого вопроса, касавшегося Йенского
университета, приходилось согласовывать с другими финансистами
("кормильцами"): с Заксен-Готой, Альтенбургом, Заксен-Мейнингеном,
Заксен-Кобург-Заальфельдом; это было часто непростым делом, ибо веймарская либеральность
внушала подозрение.
Вообще йенские дела
не всегда доставляли Гёте только радость. Студенческие обычаи прорастали
дурными привычками: способность пить и не пьянеть часто ценилась выше умственных
способностей; прочно вошли в университетский обиход дуэли и потасовки
объединившихся в орден студентов. "Докладные записки" показывают, что
Гёте не раз приходилось иметь дело с подобного рода случаями. "Философские
умы", какими их Шиллер рисовал в своей знаменитой вступительной лекции в
противоположность "ученым, зарабатывающим хлеб насущный", были
редкостью. Когда в начале 90-х годов студенты выступили с предложениями реформ,
требуя предоставления возможности самоконтроля в студенческих делах и участия в
их обсуждении и принятии решений, они пытались и Гёте привлечь к работе над
проектом. Они знали, что в 1790 году, после столкновения студентов с военными
стражами, он настоял на том, чтобы произвели суд и военных привлекли к
ответственности. "Честно будет, — полагал министр Гёте в докладной записке
от 12 марта 1790 года, — если им [студентам. — К. К.] дадут сатисфакцию". Итак, в начале 1792 года он вынес решение,
которое одобряло желание студентов, но и принимало в расчет ситуацию после
Французской революции, идеи ее веяли над Йеной и будоражили умы, — реформы
должны были способствовать также остужению горячих голов. Тем не менее в
записке чувствуется решимость пойти на уступки студентам: "Если разумным
молодым людям
272
дать возможность
частично участвовать при обсуждении отдельных вопросов, то мы увидим, как на
всю академию прольется новый свет". Но надлежащих действий это предложение
не возымело, хотя в записке в обосновании возможных реформ учитывались интересы
верховной власти. Во Франции революция, в Йене участие студентов, хотя бы и
ограниченное, в их делах — это для герцога, очевидно, переходило всякие
границы! Летом 1792 года в Йене возникли новые волнения, почти 500 студентов
даже "эмигрировали" и пытались поступить на учебу в Эрфурте, входившем
в состав курфюршества Майнцского; дело угрожало обернуться не лучшей стороной
для университета, который существовал на деньги студентов. И снова Гёте
принимает деятельное участие в улаживании конфликта. "Эмигрировавшие"
студенты, торжествуя победу, вернулись назад, в Йену.
Когда Гёте
ходатайствовал о приглашении в Йенский университет Иоганна Готлиба Фихте, он,
конечно, меньше всего думал о том, чтобы насадить в Йене реформистские или тем
более возмущающие спокойствие идеи, им руководило, скорее, желание добыть для
академии многообещающих, интересных ученых. Риск при такой политике назначения
был. "Смелостью, даже удалью", возможно, представлялось позднее
автору "Анналов" привлечение к преподавательской деятельности в
университете радикально и прогрессивно мыслящего автора "Требования к
правителям Европы о возвращении свободы мысли, которую они до сих
подавляли" и "Опыта освещения суждений публики о Французской
революции" (1793). Фихте был приглашен на место переехавшего в 1794 году в
Киль кантианца Рейнхольда. Новый профессор собирал большую аудиторию, его
лекции завораживающе действовали на слушателей, строгость и последовательность
мысли пробивали кору студенческой вялости. С Гёте у него был хороший контакт;
еще в начале 1797 года они вместе вечерами читали "новое изложение его
наукоучения" (Мейеру, 18 марта
273
Якоби, 2 февраля
То, что Фихте, уже
вскоре после назначения его в Йену, навлек на себя подозрение в якобинстве,
Гёте и Фойгта мало тревожило. Их вполне удовлетворяло, что новый профессор
парировал обвинения. И его желание читать лекции по воскресеньям, в свободное
от церковной службы время, было герцогом удовлетворено, хотя поначалу он
выразил сомнение, не будет ли это мешать богослужебному порядку. В нападках на
Фихте не было недостатка и в последующие годы. Положение усугубилось осенью
1798 года. В йенском "Философском журнале", который Фихте издавал
совместно с Нитхаммером, были напечатаны статья одного из его учеников
"Развитие понятия религии" и его собственная, в дополнение к первой,
— "О причине нашей веры в божественное мироправление". Хотя Фихте
видел основание религии в вере в сверхчувственный моральный миропорядок, против
него было выдвинуто обвинение в безбожии. "Спор об атеизме"
разрастался. Вмешалось курфюршество Саксонское, потребовав от содержателей университета
в Йене принять соответствующие меры против "атеистических" происков;
в противном случае его подданным будет-де запрещено посещать Йенский
университет. В рождественские дни 1798 года Фойгт и Гёте подолгу обсуждают
ситуацию. Герцога расстроили новые жалобы, и он дал выход своему раздражению в
двух письмах к Фойгту 26 декабря; в одном из них он излил свою желчь на Гёте:
тот-де, "как мальчишка, смотрит сквозь пальцы на всю эту глупую
философскую критику" и находит еще некое удовольствие в том, что "сильно
напортил своим ближним". Гёте невозмутимо перенес гнев своего господина и
предложил (в письме Фойгту 26 декабря
274
опубликованные
философемы о боге были схожи с атеизмом" как две капли воды, однако же это
сошло ему с рук; затем он заявлял о своем намерении уйти, если только получит
выговор, и, наконец, предрекал уход единомыслящих друзей, которые в оскорблении
его свободы почувствуют оскорбленными и себя. Ситуация обострилась. Фойгт и
Гёте были задеты вызывающим тоном письма, которое рассматривали как
принуждение, но продолжали обдумывать положение и искать формулировки указа по
университету, которые удовлетворяли бы критиков Фихте, но не были бы слишком резкими
и позволяли бы избежать негативных последствий для свободы преподавания.
Нитхаммеру и Фихте следовало поставить на вид их опрометчивость, а от
преподавателей ожидалось, что они будут "воздерживаться в своих лекциях от
высказываний, которые противоречили бы всеобщему почитанию бога". Герцога
между тем невозможно было уговорить отказаться от намерения уволить
непокладистого профессора. Фихте еще до этого, правда, пытался смягчить
воздействие своего резкого письма, но ничто уже не могло поправить дела.
Действия против
Фихте, последовавшие из-за публикации, несправедливо признанной атеистической,
несомненно, означали посягательство на свободу преподавания, у герцога же
прорвалась ненависть ко всем, кто симпатизировал революции, когда он в своем
письме Фойгту указывал, что, к сожалению, не ознакомился с "чистой
книгой", "которая сделала его тогда знаменитым" (1793) и в
которой Фихте разоблачал себя как "бунтаря". Затем следовал вывод:
"Люди, не знающие, о чем они должны умалчивать ради всеобщей пристойности или
по крайней мере не говорить об этом публично, в высшей степени непригодны и
вредны". "Пристойность" всегда была и остается тем, что хотят
выдать за нее и о чем пекутся правители, чтобы не подрывались основы их власти.
Не подлежит сомнению и то, что Гёте, постоянно обсуждая с Фойгтом ситуацию,
пытался спасти, что можно было спасти, пока Фихте не решился на столь
амбициозное письмо, хотя и оправданное, но в высшей степени — при том положении
вещей — неуместное. Впоследствии Гёте при случае осведомлялся о Фихте у Цельтера — с 1811 года философ был первым
избранным ректором Берлинского университета. Когда Гёте и Фихте повстречались
летом 1810 года в Теплице, прежние огорчения уже сгладились; "Скоро проща-
275
ние с Фихте", —
сообщает запись в дневнике Гёте от 11 августа. "Речи к немецкой
нации", прочитанные философом в Берлинском университете в 1807— 1808
годах, едва ли могли найти сочувствие у Гёте, если он вообще был с ними знаком.
Мог ли он разделять иллюзию о немцах как "пранароде", заносчивые
утверждения, что-де только немцы "истинный народ" и только они
"способны к подлинной и разумной любви к своей нации"; мысль о
"вечном порядке вещей", который не допускает "примешивание и
порчу чем-либо чуждым" (Восьмая речь), клеветническое заявление, что
"немец говорит на живом языке с самого момента его извержения из недр
природы, в то время как прочие германские племена говорят на языке, только на
поверхности движущемся, а в корне мертвом"? (Четвертая речь). Поборнику
идеи всемирной литературы не могли ли не быть чуждыми подобные настроения, и на
самом деле их едва ли можно извинить бедственным положением немецкого народа
под властью французских завоевателей. В "Анналах" Гёте имя Фихте
начиная с 1803 года больше не упоминалось.
В самом начале
нового столетия университет в Йене переживает тяжелый кризис. На Гёте ложится
бремя забот. Многие профессора покидали Йену и принимали приглашения из других
учебных заведений, где условия были лучше. Едва ли правомерно видеть в этих
уходах сказавшиеся со временем последствия увольнения Фихте (за которым вопреки
его предсказанию тогда не последовал никто из его коллег). Более убедительными
причинами представляются беспрерывные дрязги среди профессоров, у которых
обнаруживались зависть, стремление занять положение и приобрести влияние,
соперничество и комплекс неполноценности. При очень низком жалованье
приглашения на лучше оплачиваемые должности, разумеется, представляли большой
соблазн. Увеличить расходы не решались, Йене грозила опасность потерять свой
авторитет. Ушел медик Кристоф Вильгельм Хуфеланд ("Анналы" за
276
да) выходившего
рецензионного журнала, который приобрел международный авторитет и упрочил славу
Йены, перевел свое издание в Галле. Гёте развил лихорадочную деятельность,
чтобы предотвратить полный развал. Лишившись "Альгемайне
литератур-цайтунг", Йенский университет окончательно потерял бы свою
репутацию. По счастью, Гёте удалось создать новый журнал для освещения научных
вопросов и привлечь к его работе сотрудников разных специальностей. С 1804 года
он стал выходить под названием "Йенская альгемайне
литератур-цайтунг". Генрих Карл Абрахам Эйхштедт, ранее сотрудничавший в
журнале Шютца, затем занявший его кафедру, оказался деятельным редактором и
многие годы старательно трудился при активном содействии и влиянии Гёте;
благодаря их усилиям издание скоро стало авторитетным и просуществовало до 1841
года. Естественно, здесь поместил ряд важнейших рецензий и Гёте с целью
обнародования своих взглядов. Кредитором журнала был, между прочим,
комиссионный советник Карл Готлоб Замуэль Хойн, выпустивший под псевдонимом
Генрих Клаурен несколько опусов в жанре развлекательной литературы, в том числе
роман "Мимили" (1816), сумевший взволновать сердца многих читателей и
читательниц.
Веймарский воспитательный театр
Все эти годы Гёте не
забывал и о своих обязанностях директора театра. Бывали, разумеется, периоды,
когда он меньше занимался им, ибо что-то другое сильнее притягивало его или
требовало внимания. Но он всегда чувствовал свою ответственность за театр;
впечатляет, с каким чувством понимания составлялся репертуар, всегда строго
продуманный и отличающийся жанровым многообразием: от легких развлекательных
пьес до серьезных музыкальных и драматических постановок. Прочное место в нем
занимали оперы Моцарта. 13 октября 1791 года здесь впервые была поставлена
опера "Похищение из Сераля", созданная Моцартом еще в 1782 году и
поначалу не произведшая впечатления на Гёте. В сравнении с этим произведением
оказались столь ничтожными его собственные усилия по созданию зингшпиля в
содружестве с композиторами Кайзером и Рейхардтом; перед "Похищением из
Сераля" "все померкло". Имеются подписанные Гёте подробные
указания, касающиеся режиссуры
277
"Дон
Жуана" (первая постановка в Веймаре была осуществлена 30 января 1792
года). "Свадьба Фигаро" впервые была здесь поставлена 24 октября 1793
года, "Волшебная флейта" — 1 февраля 1794 года; 10 января 1797 года
состоялась премьера оперы "Так поступают все женщины", в 1799 году —
"Милосердие Тита". Поистине впечатляющий цикл моцартовских вещей,
поставленных еще при жизни композитора и в первые годы после смерти! В период с
1794 года по 1817 год состоялось 82 представления оперы "Волшебная флейта";
6 апреля 1799 года Кристиана, страстно любившая театр, слушала ее в тридцатый
раз.
В 1795 году Гёте
даже взялся писать продолжение: "Волшебная флейта. 2-я часть". Но в
течение ближайших лет он смог только завершить первый акт и едва приступил к
написанию второго. Тем не менее он опубликовал фрагмент в 1802 году книжкой
карманного формата в память о Моцарте. Может быть, он уже видел, что символику
"Волшебной флейты" невозможно разработать дальше, а может быть, в его
воображении вырисовывалась основная символика "Фауста", и это
оттеснило "Волшебную флейту" на задний план. Предлагая либретто
второй части венскому композитору Павлу Враницкому, Гёте так обрисовал свой
замысел: "Я пытался предоставить самые широкие возможности для композитора
и перепробовать все формы поэтического выражения — от самого высокого чувства
до самой легкой шутки" (24 января
278
Новое действие
строилось на развитии мотива неудавшейся попытки мести. Добро и зло здесь резко
противопоставлены друг другу. Ребенок Памины и Тамино похищен Моностатосом и его
приспешниками; его скрывают в гробу. Папагено и Папагена, огорченные
исчезновением ребенка, обретают наконец свое дитя в забавной для зрителей
сказочной игре. Вообще все здесь представлено в более сказочном виде, в более
проникновенных речевых диалогах в сравнении с оперой; а в конце действия из
ящика, в который превратился гроб, восстает "гений":
Я здесь, дорогие!
Я ваш не шутя.
Приемлют родные
Пенаты дитя?
Я ночью родился
В прекрасному дому
И вдруг очутился
В чаду и в дыму.
Меня окружали
И люди, и кони,
Войска угрожали
И злые драконы.
Но все они вместе
Не сломят меня...
(Перевод А. Гугнина)
Этот конец
напоминает сцену с Эвфорионом из второй части "Фауста". Возможно, это
Поэзия, которую должен символизировать гений, ребенок Памины и Тамино,
выдержавших все испытания. Подвергшаяся опасности, она возносится потом
все-таки примирительно над всеми противоречиями. Вполне возможно, что
"Волшебная флейта. 2-я часть" в завершенном виде должна была
воплощать то, что афористически сформулировано в "Паралипоменах":
"Любовь и воля человека сильней любого волшебства".
Еще в
"Анналах" за 1796 год Гёте расхваливал гастрольные спектакли в
Веймаре с участием знаменитого актера Августа Вильгельма Ифланда, вспоминая о
"поучительном, восхитительном, бесценном примере" его выступления. В
"Журнале изящества и мод" ("Журнал дес Люксус унд дер
Моден") хвалили "разнообразие" и "задушевность" его
игры, "психологическую и драматическую правду", "мягкую
грацию" и "величавость жеста". Высшее искусство в нем,
отмечалось
279
там же, "подобно
живой природе" (май 1796). Придерживаться природы, создавать "нечто
сходное с ее явлениями" (10, 35) — это правило выдвигали и
"Пропилеи", выводя его, разумеется, из античных образцов. Стремиться
к "художественной правде" на сцене — такую задачу ставил Гёте как
режиссер, в этом его активно поддерживал с 1796 года Шиллер. На веймарской
сцене получил развитие своеобразный стиль игры, которая не всегда встречала
одобрение. То, что благодаря "веймарскому стилю" театр мог
превратиться просто в "воспитательный театр", отрицать трудно. Но
здесь же в период сотрудничества Гёте и Шиллера был осуществлен ряд
значительных постановок, вписавших яркую страницу в историю театра.
Художественная программа, которую Гёте осуществлял в театре, соответствовала общей
эстетической позиции "веймарских друзей искусства" и журнала
"Пропилеи". Сформулированным в статье о Лаокооне определяющим
принципам ("живые, высокоорганизованные натуры, предметы в спокойствии и
движении, идеал, обаяние, красота") должны были удовлетворять и
сценические постановки, где речь и движения актеров, костюмы и декорации
синтезировались в целостное сценическое произведение искусства. Замечания Гёте
во вступительной речи к торжественному представлению пьесы "Палеофрон и
Неотерпа" (1800) можно перенести и на другие постановки, осуществлявшиеся
на веймарской сцене: автор имел "своей целью напомнить о древнем
изобразительном искусстве и наглядно показать зрителю словно бы живое,
одухотворенное пластическое произведение". Бурные проявления эмоций, равно
как и резкие, беспорядочные перемещения на сцене были недопустимы. Гёте
добивался пластической картины, согласованности всех движений, поз и
группировки на. сцене, гармонического соотношения частей. "Ему страшно
мешало, — сообщает актер Генаст в своем "Дневнике старого актера"
(1862—1866), — когда два, три или четыре действующих лица стояли вплотную на
той и другой стороне сцены или посреди ее перед суфлерской будкой, если того не
требовало действие, тем самым создавая пустое пространство в картине".
Необходимо было
систематическое обучение актеров декламации стихов и выразительным, точным
жестам, которые должны были подчеркивать смысл слов. 14 марта 1800 года в
Веймаре решились наконец поставить драму Шекспира в стихах —
"Макбет". Долгое
280
время на сцене оказывали
предпочтение "естественной" речи. Стихотворная речь не
соответствовала естественному стилю Конрада Экгофа. И в Веймаре также поначалу
обходились прозаическим вариантом "Дон Карлоса", принадлежащим самому
автору. При этой практике постепенно сложились "Правила для актеров";
в соответствии с указаниями Гёте они были записаны в 1803 году двумя молодыми
актерами, а впоследствии отредактированы и изданы Эккерманом. Это свод правил,
в котором нашла отражение практика Веймарского театра и особенности его стиля.
Режиссер стремился не к тому, чтобы использовать пьесу в качестве материала для
собственных экспериментов, он не пытался навязать свой взгляд на мир и показать
себя изобретательным интерпретатором — его целью было как можно глубже
проникнуть в замысел произведения, в сущность вещей (полностью в духе понимания
Гёте искусства, обладающего стилем) и ясно выразить это, а следовательно, быть
верным произведению.
Событием для театра
стали первые постановки драм Шиллера. В конце 1799 года Шиллер переехал из Йены
в Веймар, где жил до апреля 1802 года в переулке Виндишенгассе у мастера
Мюллера, изготовлявшего парики, потом он смог купить дом на Эспланаде, который
известен как дом Шиллера; в те времена он располагался прямо на лоне природы. В
ноябре Карл Август пожаловал Шиллеру дворянский титул, таким образом и жена
Шарлотта, урожденная фон Ленгефельд, получила наконец доступ ко двору и по
общественному положению была теперь не ниже своей сестры Каролины с мужем
Вильгельмом фон Вольцогеном.
В 1798 году архитектор
Туре, руководивший строительством замка, перестроил внутренние помещения
придворного театра, увеличив их и приспособив к современным требованиям.
Открытие состоялось 12 октября премьерой драмы Шиллера "Лагерь
Валленштейна" (в тот же вечер давалась также пьеса Коцебу
"Корсиканцы"). В "Прологе", написанном специально для этого
торжественного случая, Шиллер высказал свои художественные убеждения тех лет.
Хотя муза, говорилось в "Прологе", претворяет действительность "в
веселую игру искусства", зритель не должен заблуждаться и думать, что все
это только искусство, художественная правда всегда предполагает раскрытие
правды жизни. В заключительной строфе автор не без основания, как мы теперь
знаем, обращался к пуб-
281
лике, призывая ее
понять непривычную для театра стихотворную речь:
И если нынче муза,
Богиня пляски вольная и пенья,
По праву немцев давнему, себе
Потребует и рифмы — не взыщите!
И будьте благодарны, что она
Суровую действительность в игру
Искусства претворяет, что сама
Свои же чары рушит, не идет
На то, чтоб ими правду подменить.
Сурова жизнь, но радостно искусство.
(Перевод В. Н. Зоргенфрея — Шиллер, IV, 6)
С завершением
"Пикколомини" Шиллер впал в депрессию. От имени "уполномоченной
Мельпоменой комиссии по делу Валленштейна", как значится в полном юмора
письме от 27 декабря 1798 года, Гёте и Кирмс насели на драматурга: дескать,
"отряд гусаров" получил "приказ любой ценой овладеть
Пикколомини, отцом и сыном, и доставить их, если уж не сразу обоих, то по
крайней мере поодиночке". Шиллер взялся за работу, и уже 30 января 1799
года была поставлена вторая часть, а 20 апреля — и третья часть трилогии —
"Смерть Валленштейна". Остальные драмы Шиллера: "Мария
Стюарт" (14 июня
282
доктора Шютца с
целью выяснить, как он "мог позволить себе подобное уклонение от наших
правил", ибо известно, "сколь пристойное спокойствие, к нашему
удовольствию, царило в Веймарском театре" (23 марта
Дочь библиотекаря
герцогини-матери Анны Амалии, она была звездой Веймарского театра, с тех пор
как в 1797 году, двадцатилетней, замечательно подготовленной, успешно выступила
в опере Враницкого "Оберон" и в роли Констанцы в "Похищении из
сераля" Моцарта. В спектакле "Мария Стюарт" она играла
Елизавету, до этого выступила в роли Теклы в "Валленштейне". Гёте
ценил ее как высокоодаренную актрису; герцог питал к ней чувство большее, чем
только восхищение: он предложил ей вступить в любовную связь с ним —
разумеется, на длительное время. После долгих раздумий она согласилась, взяв,
видимо, в соображение выгоду, которую могла принести ей герцогская милость. С
1802 года она стала официально второй женой Карла Августа. Герцогиня Луиза
согласилась на эту связь, понимая, что в противном случае ее собственное
положение только ухудшится. От связи Карла Августа с Каролиной родилось трое
детей (1806, 1810, 1812), они жили в доме рыцаря тевтонского ордена, где у
Ягеман была квартира; о своей второй семье герцог так же внимательно заботился,
как и о первой. В 1809 году он возвел Каролину в дворянское достоинство, сделав
ее госпожой фон Хейгендорф, и пожаловал ей поместье (тоже Хейгендорф)
неподалеку от Альштедта. Когда он в 1828 году умер, примадонна Веймарского
театра, дворянка и помещица, покинула (что было похоже на бегство) резиденцию.
Скольких бы
переживаний это ни стоило герцогине Луизе, ее брак с человеком, с которым она
уже, види-
283
мо, давно не жила
как с мужчиной, превратился после заключения "соглашения" в холодный,
поддерживаемый вниманием и доверием союз, оправдавший себя и выдержавший
испытания в трудные дни и недели после Йены и Ауэрштедта. Она была обручена с
веймарским принцем совсем юной девушкой, его страсти и бурные увлечения всегда
тяготили ее. И сам Карл Август, соединившись с Каролиной Ягеман, отчасти
успокоился и обрел равновесие. Одна из его выходок до этого имела неприятные
последствия. Луизе фон Рудольф было 14 лет, когда она со своей матерью, вдовой
прусского офицера, поселилась в Веймаре; через несколько лет она стала камерной
певицей у Анны Амалии, но выступала только в обществе и в концертах. Девушка
попалась в сети Карлу Августу, женскому угоднику, и в 1796 году родила
мальчика. Нашелся все-таки человек, который женился на молодой матери и
усыновил ребенка, Карла Вильгельма, — Карл Людвиг Кнебель, закадычный друг
Гёте, ему было тогда уже за пятьдесят; брак получился вполне терпимый. Ведущее
положение, которое Каролина Ягеман быстро заняла в театре, часто доставляло
Гёте трудности в работе и осложняло отношения с герцогом. Тщеславная примадонна
вмешивалась во все театральные дела, рассчитывая на высочайшую поддержку.
Тяжелая атмосфера, в которой Гёте пришлось работать в течение ряда лет, едва не
заставила его покинуть театр, только к 1808 году обстановка несколько
разрядилась. При уходе его в 1817 году с поста директора решающую роль, однако,
сыграла все та же Ягеман: она настояла, поддерживаемая своим герцогом, чтобы на
сцене выступал дрессированный пудель.
Только желанием Гёте
разучивать и ставить строгие по форме драмы можно объяснить то, что в 1802 году
были инсценированы пьесы "Ион" Августа Вильгельма Шлегеля и
"Аларкос" Фридриха Шлегеля. Обе премьеры доставили неприятности, о
которых следует коротко напомнить. "Ион" был обработкой Еврипида и трактовал
мифологическое событие о Креусе и ее сыне, Ионе, родившемся от связи ее с
Аполлоном. Видимо, Гёте потому взялся за пьесу, что почувствовал в ней нечто от
мира древних. Премьера ее состоялась 2 января 1802 года. Пьеса не всем пришлась
по вкусу. Бёттигер, освещавший в "Журнале изящества и мод"
284
театральную жизнь,
написал уничтожающую рецензию, в которой обрушился с критикой и на автора пьесы
и на руководство театра. Гёте узнал о ней раньше, чем она была напечатана. Почувствовав
себя оскорбленным в своей театральной деятельности, он, решив во что бы то ни
стало воспрепятствовать публикации, предпринял ряд акций и привел все в
движение; прежде всего он насел на издателя Бертуха, угрожая, что добьется
вмешательства герцога: "Я потребую, чтобы меня либо немедленно освободили
от должности, либо гарантировали на будущее от подобных безобразий" (Ф.
Бертуху, 12 января
285
Если бы составить из
нынешних пьес "репертуар, дабы передать его потомству", писал он, в
первую очередь надо было влиять на образ мыслей публики, развивать в ней
многосторонность и широту взгляда. А многосторонность и широта взгляда,
разъяснял автор, "состоят в том, чтобы не смотреть на каждую пьесу как на
фрак, в точности подходящий тебе по мерке и удобно облегающий тело. Не должно
искать в театре лишь средства удовлетворения всех непосредственных потребностей
сердца, разума и духа; куда лучше считать себя тут путником, отправившимся в
чужие, неведомые края ради познаний и для удовольствия пренебрегавшим ради них
теми удобствами, которые имел он у себя дома" (10, 282).
На премьере
"Аларкоса" Фридриха Шлегеля произошел неприятный инцидент. Коцебу и
его приверженцам, которые взирали на воспитательный театр тайного советника
едва ли не иронически и радовались всякой его неудаче, этот инцидент, наверное,
доставил истинное наслаждение, а может быть, даже и спровоцирован был не без их
помощи. В драме, более всего подходящей из-за разнообразия использованных в ней
стихотворных размеров (по образцу Кальдерона) для упражнений в "ритмической
декламации", разрабатывался сюжет одного испанского романса XVI века и представлялись конфликты, проистекавшие из столкновения испанского
кодекса чести и католической веры. Но она изобиловала нелепостями; о смысле
некоторых диалогов можно было только догадываться; главный герой, постоянно
превозносимый в его достоинствах, компрометировал себя на каждому шагу,
обнаруживая далеко не столь высокие качества, и чем дальше "развивалось
действие, тем неспокойнее становилось в верхнем ярусе и в партере, — как сообщает
об этом Генриетта фон Эглофштейн. — Я не знаю, то ли тонко образованному вкусу
веймарской публики чего-то недоставало в старой испанской трагедии, то ли
старания Коцебу не прошли даром, только в сцене, где сообщается, что старый
король, которого убитая по его приказу супруга Аларкоса заклинала судом
всевышнего, "от страха умереть он умер наконец" — зал разразился
диким смехом... в то время как сам Коцебу, словно одержимый, неистово
аплодировал.
Но это было только
мгновение. Гёте вскочил со своего места и громовым голосом крикнул, сделав при
этом угрожающий жест: "Тихо, тихо!", и это магически подействовало на
бунтовщиков".
286
Актер Генаст в своих
воспоминаниях утверждает, впрочем, что Гёте, призывая к порядку, выкрикнул:
"Прекратить смех!" Как бы то ни было, но "Аларкоса" в
Веймаре больше не ставили. Но в Лаухштедте, куда труппа выезжала на летний
сезон, пьесу давали еще много раз, и она имела успех. Молодые критики и авторы,
например Коллин, Фуке, Лёбен, не скупились в прессе на похвалу. Фридрих Аст,
ученик Шлегеля, отзывался о ней даже как об удачном синтезе
"фантастического духа романтического с совершенной формой античной
поэзии" ("Система учения об искусстве",
Гастроли в Лаухштедте
Спектакли в
Лаухштедте означали для Веймарского театра, как известно, желаемый приработок.
Когда Гёте впервые посетил этот небольшой курортный городок вблизи Мерзебурга,
мы не знаем. В 1802 году под его руководством там начали перестраивать театр,
ибо старое здание пришло в такую ветхость, что уже промокало под дождем; с
этого времени ему пришлось чаще наведываться туда. Если он выезжал из Веймара в
четыре часа утра, то прибывал на место после обеда к пяти часам
("Дневник", 19 мая
287
стом случайных
встреч людей всех звании и сословий, сюда охотно заезжали студенты из Галле.
Бывало даже, что с окончанием театрального сезона наплыв курортников резко
уменьшался. 26 июня 1802 года, едва закончились строительные работы, состоялось
открытие театра представлением оперы Моцарта "Милосердие Тита" и
Прологом Гёте "Что мы ставим на сцене". "Из Лейпцига, Галле, со
всех окрестностей стеклась масса народа, желавшего присутствовать на этом
представлении. К сожалению, здание не могло вместить столь огромное количество
зрителей, и пришлось распахнуть двери в коридор — настолько был велик наплыв
публики", — вспоминал об этом дне Эдуард Генаст ("Из дневника старого
актера", 1862).
"Что мы ставим
на сцене" — небольшая пьеса в 23 сценах, из разряда тех многочисленных
текстов, которые Гёте писал специально для подобных случаев. Прологи и эпилоги
входят в некоторые издания Гёте под общим названием "Театральные
речи". Пьеса, написанная для Лаухштедта, полна намеков на перестройку
театра, персонажи задуманы как образы, символизирующие разные виды театральных
пьес, и о "блеске художественной натуры", которая должна чувствовать
себя в театре как дома, тоже упоминалось здесь (18-я сцена). Налет загадочности
и волшебства также не воспрещается в театре, например, когда ковер на стене
ветхого дома стариков (о которых позаботились — конечно же! — музы, как о
Филемоне и Бавкиде) превращался вдруг в ковер-самолет и уносил их в прекрасный
новый зал. Чтобы каждый зритель понял, что имелось в виду, Меркурий разъяснял
подробно, кто такие и что именно должны означать отец Мэртен и матушка Марта,
нимфа, Фона и Пафос. Так Гёте в написанной за несколько дней пьесе на случай
наглядно и красочно показал, "что происходило в последнее время в немецком
театре вообще и в частности на веймарской сцене. Фарс, семейная драма, опера,
трагедия, наивная пьеса с масками демонстрировали свои особенности, разыгрывали
или объясняли сами себя или разъяснялись другими" ("Анналы" за
1802 год).
Пролог имел такой
большой успех, что его хотели даже напечатать. Но в напечатанном виде пьеса,
несомненно, много теряла из того, что делало ее столь привлекательной, когда
она игралась в праздничной атмосфере, и обнаруживала несколько навязчивую
простоту аллегории. Шиллер справедливо заметил в письме
288
Кернеру 15 ноября
1802 года: "В ней есть прекрасные места, но они вплетены в пошлый диалог,
словно звезды на одежде нищего" (Шиллер, VIII, 825).
Кристиана также
присутствовала на открытии театра; она сидела в ложе вместе с Гёте и
наслаждалась овацией, которую устроили студенты ее мужу по окончании спектакля.
"Он сидел сзади меня, но я встала, и ему пришлось выступить вперед и
раскланяться с публикой. После комедии была устроена иллюминация, и также был
иллюминирован портрет тайного советника и его имя" (Н. Мейеру). В
последующие годы Кристиана еще много раз бывала в Лаухштедте: здесь она могла
веселиться от души, чувствуя себя свободнее, чем в Веймаре, и в полной мере
наслаждалась театром и танцами, которые были ее страстью. Тайному советнику она
подробно сообщала о пьесах и актерах в своих письмах — это своеобразная театральная
страничка из истории постановок в Лаухштедте, отражающая взгляд наивной и
восторженной почитательницы театра.
Драматические опыты периода "классики".
"Внебрачная дочь"
В то время как Гёте
осуществлял постановки драм Шиллера и пьес братьев Шлегелей, его занимала мысль
написать собственную трагедию. Еще в ноябре 1799 года Шиллер обратил его
внимание на вышедшую год назад автобиографию одной женщины под названием
"Исторические мемуары Стефании Луизы Бурбон-Конти, написанные ею
самой". Стефания Луиза утверждала, что она по крови принадлежала к
бурбонскому роду, но, будучи внебрачной дочерью французского принца, терпела
притеснения от сводного брата, законнорожденного сына ее отца, не желавшего
признавать ее своей сестрой. Она вышла замуж за бюргера, пережила бурные годы
революции в Париже и к тому времени, когда выступила со своими воспоминаниями,
впечатляющими, но не во всем достоверными, еще не сумела добиться узаконения
своего положения как дочери принца. В начале 1799 года Гёте, не посвящая никого
в свои замыслы, набросал схему драмы-трилогии. Этот обширный план не был,
однако, осуществлен. В течение нескольких лет ничего не было слышно о работе
над пьесой, но к началу 1803 года уже было написано по крайней мере пять
289
актов — первая часть
задуманной трилогии. "Пропилеи" к этому времени прекратили свое
существование; художественные конкурсы еще устраивались, хотя и не давали
желаемых результатов; постановки пьес братьев Шлегелей доставили неприятности,
и публикой Гёте уже давно был втайне глубоко недоволен, хотя она и устроила ему
овацию, что не могло не вызвать приятного чувства. Все, что он задумывал и
делал в течение всех этих лет, как возвратился из Италии, публика встречала,
мягко выражаясь, сдержанно. Даже "Герман и Доротея" имели весьма
умеренный резонанс. Теперь он сделал еще одну попытку показать, каким должно
быть сценическое искусство и на что он способен. Уединившись, Гёте засел за
работу. Шиллер сообщал Вильгельму фон Гумбольдту 17 февраля 1803 года, что Гёте
стал настоящим монахом и живет в одинокой созерцательности: "В продолжение
трех месяцев, не будучи больным, он ни разу не вышел из дома, даже из
комнаты" (Шиллер, VIII,
829); если бы Гёте сохранил еще веру в возможность добра и "был бы
последователен в своей деятельности", сетовал Шиллер в том же письме,
"то многое в искусстве вообще и в частности в драматическом могло бы быть
реализовано тут, в Веймаре". Именно на это и направил свои усилия Гёте,
затворившись в келье; временами он испытывал мрачное, тяжелое состояние духа.
Ходили слухи, будто он намерен вовсе покинуть Веймар. Но 2 апреля 1803 года, к
величайшему изумлению всех знакомых, состоялась премьера "Внебрачной
дочери". Все до самого последнего дня сохранялось в тайне, даже Шиллер
ничего не знал об этой работе Гёте (как сообщала Шарлотта фон Шиллер в своем
письме Ф. фон Штейн 31 марта
Многие замыслы
связывал Гёте со своей трагедией. Спустя десятилетия он писал в
"Анналах" за 1799 год: "Мемуары Стефании Бурбон-Конти вызвали у
меня замысел "Внебрачной дочери". Я надеялся, как в од-
290
ном сосуде, собрать
все то, что не один год думал и писал о Французской революции и ее
последствиях". Он оставил надежду на это и в статье "Значительный
стимул от одного-единственного меткого слова" (1823), когда говорил о тех
"безграничных усилиях поэтически овладеть" Французской революцией в
ее "причинах и следствиях", он называл в качестве примера
"Внебрачную дочь". Он все еще думал о продолжении, но не находил
мужества "взяться за разработку". Все это были только благие
пожелания, он не смог собраться с духом. Поскольку мы располагаем только первой
частью задуманной трилогии, нельзя судить о том, в какой мере удалось бы ему
поэтически "овладеть" революцией. Сохранилась схема второй части, о
третьей части вовсе ничего сказать нельзя, ибо нет даже набросков. Следовательно,
приходится отказаться от всяческих предположений, каким должно было быть целое
или в каком направлении по крайней мере он задумывал разрабатывать продолжение.
"Действие" пятиактной драмы "Внебрачная дочь" пересказать
несложно. Вскоре после смерти принцессы герцог открывает свою тайну королю:
достигшая совершеннолетия Евгения — его дочь, прижитая им с принцессой; теперь
он хотел бы, чтоб король признал ее. В это время приносят Евгению, девушка в
обмороке — на охоте она сорвалась вместе с конем с отвесной кручи; король, идя
навстречу пожеланию герцога, готов признать ее за свою родственницу. Евгения с
нетерпением ждет назначенного королем дня, когда она официально будет
узаконена; обуреваемая любопытством, она открывает ларец с нарядами и
драгоценностями, приготовленными ей отцом для этого дня, хотя ей не велено было
делать это до поры до времени (почему, однако, — в дальнейшем никак не
раскрывается). Между тем судьба Евгении давно уже находится в опасности. Ее
сводный брат, законный сын герцога (как действующее лицо он не появляется в
пьесе), всячески пытается помешать предстоящему акту узаконения Евгении и
признания за ней прав, он — единственный законный наследник и хочет остаться им
до конца. Секретарь и придворная дама, воспитательница Евгении, — послушное
орудие в руках темных сил. Евгению похищают и хотят насильственно увезти на
отдаленные острова, герцогу же объявляют, что она умерла. Воспитательница видит
еще возможность спасения Евгении в браке с судьей, на которого указывает ей.
Девушка готова встать под его защиту, но
291
с браком хочет
повременить: "Придет и этот день и, может быть, / Соединит теснее нас
обоих" (5,415) 1.
Как показывает уже
этот в основных моментах изложенный сюжет, в первой части трилогии Французская
революция и ее последствия не только не представлены, но даже и не упоминаются.
К изображению конкретных исторических событий и подлинных их участников Гёте,
по-видимому, и не стремился. Об отказе от изображения конкретного и частного и
о тенденции к общему говорит уже то, что все действующие лица не имеют
индивидуальных имен, а называются по их общественному положению: король,
герцог, граф, воспитательница, секретарь, священник, судья, губернатор,
игуменья, монах; исключение автор делает только для главной героини, которая
носит имя Евгения ("высокородная"). О времени, в которое происходит
действие, нельзя сказать ничего, кроме того, что оно предшествует, очевидно,
крушению строя, и с большей вероятностью это можно утверждать потому, что здесь
представлена — как это видно по всему — абсолютная монархия с придворной
знатью, а также говорится о буржуазной торговле и "толпах, снующих в
трудолюбивом рвенье" (5, 411). В этом можно видеть косвенное указание на
предреволюционную эпоху XVIII столетия, участниками
событий здесь являются представители дворянства. Несомненно, что речь идет о
людях Ancien regime 2. Настроения бюргерства выражает только судья.
С уверенностью можно сказать одно: если Гёте и хотел в своей трилогии
"поэтически овладеть" Французской революцией, то в завершенной части
ее — драме "Внебрачная дочь" — он не вывел на сцену третье сословие,
эту основную историческую силу революции. Учитывая это, правомерно поставить
вопрос: можно ли было, не принимая во внимание движущие исторические силы,
соответствующим образом осмыслить революционные события? В любом случае,
однако, Гёте не сомневался, что причиной революций являются упущения и
недостатки в правлении, отсюда становится понятным, почему автор начал трилогию
с пьесы, тематически связанной с этой проблематикой.
Трудности, которые
представляет эта пьеса для читателей и интерпретаторов, связаны прежде всего
1 Здесь и далее "Внебрачная дочь" цитируется в переводе Н. Вильмонта.
2 Старого режима (франц.).
292
с тем, что речь в
ней идет не об определенных интересах дворянства и бюргерства — о народе здесь
говорится только мимоходом, — а о "зависти",
"недоброжелательстве", "клевете"; характер и смысл
оппозиции остаются неясными, поведение многих персонажей часто слабо или вовсе
не мотивировано, Гёте не раскрывает причинных связей, а прибегает к
символическим эквивалентам и сентенциям.
Гёте не замышлял
историческую драму; перерабатывая и осмысляя опыт революции, он стремился
отвлечься от частного и в поэтических событиях и символах показать типические
движения, мотивы и конфликты, которые он считал действенными в означенную
эпоху. Данный прием вполне согласуется с его интерпретацией Лаокоона, в котором
он видел выражение общей идеи, освобожденной от всего несущественного, что, по
его мнению, отличает совершенное произведение искусства: Лаокоон — только имя,
утверждал он; "художники освободили его от всего национально-троянского,
от священнического сана", "мы видим только отца и его двух сыновей в
беде — одолеваемых двумя опаснейшими змеями" (10, 51). Соблюдение такого
принципа изображения в пьесе дало свои результаты: с одной стороны, это —
отвлеченность и безличность событий и ситуаций, не соотнесенных непосредственно
с событиями Французской революции, и возвышенно-поэтический, впечатляющий своей
образностью и отточенностью сентенций язык персонажей, свободный от частностей
и деталей бытовой речи; с другой стороны — утрата необходимой аналитической
конкретности, с помощью которой только и можно приблизиться к осмыслению
исторических феноменов — а ведь к этому, по его собственному признанию, автор и
стремился. Некоторыми интерпретаторами предпринимаются попытки истолковать
изображенную здесь ситуацию как "основную человеческую ситуацию", к
воспроизведению которой якобы должно стремиться поэтическое; это, однако, мало
может помочь тому, кто убежден, что всегда существуют конкретные исторические
ситуации, в которых живет человек, — он хотел бы увидеть человека в истории,
вне ее и не существующем.
Дворянский мир, как
он представлен во "Внебрачной дочери", неустойчив, расшатан изнутри и
раздираем интригами и борьбой за власть. Слабохарактерный король, на которого
твердо полагается Евгения, видящая в нем олицетворение власти и общественно-
293
го порядка, окружен
людьми, преследующими своекорыстные цели, стремящимися удовлетворить прежде
всего собственную потребность во власти, влиянии и богатстве: здесь "самый
воздух дышит преступленьем" и "зависть людям распаляет кровь";
здесь поступают в соответствии с максимой: "И что полезно нам, для нас
закон" (5, 330; 342). За честолюбивыми помыслами забыт истинный долг
дворянства. В разговоре между Евгенией и герцогом, в контрастирующих друг с
другом репликах — доверчивой, исполненной радужных надежд молодой девушки и
трезво оценивающего положение вещей отца — отчетливо вырисовывается сложная
обстановка в монархии:
Евгения. Сдается, он несчастлив... А так добр!
Герцог. И доброта подчас плодит врагов.
Евгения. Кто недруг доброчестному монарху?
Герцог. Кто ждет добра от строгости одной.
(5, 328—329)
Доброта неуместна, нужна
твердая воля короля, гаранта порядка, если необходимо пресечь попытки
дворянства интриговать, строить заговоры и призвать его к исполнению забытого
им долга — служения общегосударственному делу. Совершенно очевидно, что здесь
действует оппозиция, к которой герцог не хочет примыкать. Но как она
складывается, какие цели преследуют отдельные ее участники, кто стоит во главе
ее — остается скрытым; в пьесе содержатся только намеки, которые не позволяют
сказать ничего конкретного ни о ситуации, ни о действительных ее участниках.
Гёте удовлетворился обозначением противодействующих порядку сил и общих
движущих мотивов, точнее, указал на их существование. Устои уже настолько
расшатаны, что рушатся сами ценности, на которых основываются естественные
связи между членами семьи.
В этот мир
устремляется Евгения из своего укромного уголка, уединенной жизни, что означает
также изолированность ее положения среди дворянства, отрезанность от круга
высшей знати, в который она должна и хочет войти. Так символический смысл приобретает
ее падение с отвесной кручи на охоте и обморок, после которого, придя в
чувство, она и получает наконец признание короля. Она, веря в незыблемость
устоев монархии и будучи преданной королю, полагает, что дворянство чисто в
своих помыс-
294
лах, что у него не
может быть иного дела, как только безупречно исполнять свой долг. Таким
образом, она — Евгения, то есть высокородная, в двух смыслах: по крови (пусть
даже ее положение не узаконено) и по своим помыслам — в деятельной жизни, к
которой она стремится, она хочет с честью нести свое дворянское достоинство, а
не быть впутанной в сеть интриг и закулисную борьбу. Ко дню, назначенному
королем для ее узаконения, герцог приготовил ей наряды и драгоценности; Евгения
не может устоять перед соблазном и открывает ларец раньше, чем ей было велено.
Гёте хотел, чтобы эту сцену играли "с приличием и достоинством"
(Кирмсу, 17 июня
Наружный блеск — что стоит без души?
Но сер лишенный блеска мир душевный.
(5, 350)
Иной предстает перед
нами Евгения в конце пьесы: подвергнувшись гонениям, она научилась быть
терпеливой, теперь она готова к тому, что ей придется, быть может, долго ждать,
пока настанет день, когда и для нее (в изменившихся условиях) откроется
возможность осмысленной деятельности. Готовый к самоотречению уже не поступит
опрометчиво. Накануне дня, когда ее должны узаконить, Евгению решают похитить и
сослать на острова; это "решают" нельзя перевести в личную форму;
конечно, в действиях, направленных против Евгении, замешан сын герцога, который
хлопочет о своих правах как законный наследник, несомненно, он, не выступающий
в пьесе собственной персоной, является направляющей силой; разумеется, приговор
об изгнании Евгении подписывает король, но нигде не разъясняется, что именно
содержится в этой роковой бумаге, кто вытребовал ее, чем обоснован жестокий
приказ; ничто не конкретизируется, говорится о "силе", "благом
творце", "власти". Создается впечатление, будто власть злых и
низких сил превратилась в некую абстрактную величину и все исполнители
выступают только как агенты зла. Происходит чудовищное извращение разум-
295
ных человеческих
поступков: все действующие лица как будто бы видят негативные стороны своих
поступков и тем не менее совершают их; ведь они следуют рационализму частных
аргументов, не заботясь о том, выдерживают ли эти аргументы проверку с точки
зрения более значительных ценностных взаимосвязей. Это порочное в человеческом
воспитательница, которая поступает вопреки своим лучшим побуждениям — хотя они
тоже своекорыстны, — образно характеризует словами "холодное,
бесчувственное сердце":
Зачем, скажи, природа одарила
Неотразимой прелестью тебя,
Когда она в твою вложила грудь
Холодное, бесчувственное сердце?
(5, 338)
Секретарь и
священник — пособники того рода, из которых можно сколотить лагерь насилия и
истребления во все времена:
Но если сила, что нещадна к нам,
С нас жертвы требует, то мы ее
С кровоточащим сердцем ей приносим.
(5, 338)
В изображенном мире,
где правит безличностная "сила" и использует разум людей в качестве
орудия для достижения своих целей, можно видеть пророчески набросанную
символическую картину современных обществ с их замаскированными средствами
принуждения.
Действие двух
последних актов происходит в гавани. Здесь Евгения, осужденная на изгнание, получает
еще один шанс изменить предрешенную участь: это брак с судьей, который дал бы
ей возможность на время уединиться в деревне и устраниться от борьбы партий. В
заключительных сценах особенно обнаруживается, как Гёте свое видение
исторического процесса вложил в образную речь персонажей, в которой
раскрывается их общественное положение. Только если обнажить этот пласт речи,
можно заметить и другие аспекты "политического содержания" драмы
"Внебрачная дочь". Приведем несколько примеров: судья достаточно ясно
высказывается о своей политической функции в обществе, с которым он связан уже
по
296
долгу службы.
Евгения спрашивает его, представителя права, о том, как можно совместить
стремление бюргерства к гарантированному праву с феодально-абсолютистским произволом:
И вы на что, кичащиеся тем,
Что правом усмирили произвол?
(5, 382)
В ответе судьи
выражено его политическое самосознание:
Лишь в тесном круге подчиняем мы
Законности что происходит в жизни
Обыденной, на малой высоте.
Но что творится в выспренних пределах,
Что там вершат и тайно замышляют,
Возносят, губят, бога не спросясь, —
Иною мерой мерится, видать.
Какою? Остается нам загадкой.
(5, 382)
Позиция судьи по
отношению к насилию и произволу, творимым в высших кругах, нетверда. Он
колеблется между моральным осуждением (высказываемым весьма завуалированно) и
добровольным отречением от того, что, собственно, и является подлинным делом
бюргера. Эта позиция вырисовывается уже в первом его разговоре с
воспитательницей, когда он сразу же четко отграничивает собственную сферу.
Перед этим воспитательница характеризует его как человека "праведного и
доброго", которого чтут давно "в прошедшем — как адвоката, ныне — как
судью" (5, 373). Когда она, решившись посвятить его в свои дела, дает ему
прочесть "бумагу", содержащую приговор, он — как человек и как судья
— выражает "возмущение":
В ней речь идет не о суде и праве,
А о насилье, явном, неприкрытом.
(5, 373)
И все-таки потом,
как юрист, он признается ей, что его долг "содействовать во всем и
почитать слова ее законом". Он оправдывает подчинение феодальному
произволу, хотя и признает, что это произвол, объясняя свою позицию не
собственным стесненным поло-
297
жением, а добровольным
подчинением, которое, в сущности, не что иное, как апология несправедливости:
Судить тебя не буду. Признаюсь,
И мысли я не допускал, что власти
Творят такое. Видно, и они,
Кичась величьем, редко поступают,
Как честь велит и совесть. Ужас, страх
Пред большим злом великих принуждают
Зло истреблять спасительным злодейством.
(5, 374)
Признавая зло
несправедливостью, он в то же время рассматривает его как спасительную меру.
Этого бюргера не интересует расширение бюргерских прав. Право здесь выступает
как средство размежевания третьего сословия и дворянства. И все же этот идеал
бюргера, который благодаря отказу от политических прав может довольствоваться
счастьем "лишь в узком круге" (5, 375), — только модель, ее нельзя
претворить в таком виде в жизнь, потому что бюргер не может полностью отделить
себя от власть имущих, он зависит от благосклонности сильных мира сего.
Вторжение Евгении в его жизнь разрушает эту модель якобы существующего в чистом
виде разделения частной жизни и общественной. Вот как судья воспринимает ее
появление:
Несчастная! Тебя с твоих высот
Низвергла беззаконная комета
И, падая, мой путь пересекла.
(5, 381)
Важнейшее социальное
место, которое судья отводит бюргеру, — это семья, показанная главным образом
как сфера, противостоящая одновременно дворянским кругам и плебсу, угрожающим
насилием. На предложение судьи вступить в брак с ним Евгения отвечает вопросом:
Уж не ошибся ль ты? Ужель дерзнешь
Ты с силой, мне враждебной, потягаться?
(5, 388)
С убежденностью,
своеобразно контрастирующей с его бессилием как юриста, бюргер отвечает с
позиции супруга и "человека":
298
Не с ней одной! Желая оградить
Нас от мирской, вседневной суеты,
На пристань нам всевышний указал,
Лишь в доме, где спокойно правит муж,
Бытует мир, который ты напрасно
Искала бы в далекой стороне.
(5, 388)
Брак рисуется как
гуманная идиллия, как счастье "среднего сословья" (5, 375), мир
которого обозначен как "заповедный круг", куда "нет
доступа" "ни зависти, ни гнусному коварству, / Ни клевете, ни буйным
схваткам партий" (5, 389). За этот мир, будто бы свободный от своевластья,
судья может поручиться, и в нем видит спасение для Евгении, ибо достоинство
мира определяется исключительно частной, личной инициативой бюргера.
Муж в бюргерской семье
— "король и бог" (5, 389). Так, судья может обещать, что
"никогда / Ей в помощи, в поддержке не откажут" (5, 386). В словах
судьи, превозносящего власть главы бюргерской семьи, являющегося хозяином в
доме, отражены патриархальные черты этой идиллии, где "все мужья"
чувствуют свою силу,
И добрые и злые. Никогда
Власть не вторгалась в дом, где муж глумится
Безбожно над страдалицей женой,
И не препятствовала самодуру
В несчастной радость жизни убивать.
Кто слезы ей осушит? Ни закон,
Ни трибунал вины с него не взыщет.
Он здесь король и бог! Жена ж безмолвно
Обиды терпит, вянет, сходит в гроб.
Обычай и закон издревле дали
Супругу нерушимые права,
На ум мужской и сердце полагаясь.
(5, 389)
Редко где Гёте
описывал патриархальный уклад бюргерской семьи так зло и так безжалостно. Здесь
возникает картина, противоположная элегии "Аминт": там любящий
оказывается под угрозой быть задавленным притязаниями возлюбленной. В качестве
решения проблемы предлагается только "ум мужской и сердце"; политически,
в сфере права, и в частной жизни, в супружестве, судья надеется решать
конфликты
299
с помощью гуманного
поведения, личной безупречности и чистоты. Как гражданин, оставаясь бессильным
перед дворянством, бюргер считает себя всемогущим как частное лицо, как муж в
семье: "Как муж и с королем я потягаюсь" (5, 389). Принимая во
внимание эту негативную сторону бюргерского брака, можно понять, что значит для
Евгении "отречение в браке", на которое она в конце концов
отваживается. Свой первоначальный отказ от брака с судьей она мотивировала
ограниченностью частной жизни, отрезанностью от общественной жизни круга, в
который она вступила бы как жена бюргера, и, кроме того, зависимостью от мужа
(5, 393). Она чувствует себя не в силах отказаться от предназначенного ей,
дворянке по происхождению, высокого положения и политической — в рамках
феодального общества — деятельности и "обратить взор [...] к домашнему
укладу и семье" (5, 375). От этой принципиально негативной оценки счастья
"среднего сословья", бытующего в "узком круге", Евгения не
отрешается и позднее. Еще монаху она говорит, что брак лишил бы ее
"высокой доли" (5, 409). В конце концов она все же вынуждена
отказаться от высоких притязаний, чтобы уберечь себя для будущего.
По-прежнему остается
непростым решение вопроса, какие политические перспективы открывает эта драма,
в которой поэт задумывал поэтически "овладеть" Французской революцией
в ее "причинах и следствиях". Поскольку трилогия осталась
незавершенной, возможны только приблизительные толкования. Как раз в
заключительных сценах Евгения осознает свой долг, к которому ее обязывает
происхождение и принадлежность к высшей знати, — долг вступиться за
"отечество", то есть за то, что с точки зрения части дворянства
является "добром для отечества" (5, 329). Брак с судьей она рассматривает
как средство для достижения этой цели: "Он будет / Хранить меня, как
чистый талисман" (5, 413). Дворянка, преследуемая представителями ее же
сословия, хочет переждать лихолетье, смутное время с шаткой властью короля и
раздорами придворной знати, в браке с бюргером, чтобы потом, когда
восстановится твердый сословно-государственный порядок, она,
"уцелевшая" (5, 473), могла исполнить данное ею на словах и письменно
(в сонете, посвященном королю, — 5, 346) обещание с преданностью служить своему
государю. То, что бюргеру в этом политическом строе отведено только
300
скромное, зависимое
от милостей дворянства место, видно из заключительного диалога между Евгенией и
судьей. Бюргер говорит языком "сердца" о браке и любви:
Сочту за благо
Жить близ тебя, тобою любоваться,
Служить тебе. Пусть назначает сердце
Твое условье нашего союза.
(5, 414)
Для Евгении
неприемлем брак с бюргером на основе чувства любви; она запрещает себе на
первое время всякие встречи с супругом:
Отправь меня с слугой надежным в глушь
И там на срок меня похорони [...].
(5, 414)
Таким образом, о
равноправном союзе дворянства и бюргерства, который наметился было в финале, не
может быть и речи. Несомненно, что речь идет о сохранении сословного порядка —
разумеется, с нравственно возрожденным, готовым к реформам дворянством, видящим
свой долг в служении отечеству. О расширении прав и участии в общественной
жизни третьего сословия ничего не говорится; активно действующее бюргерство
здесь не выводится. В политической жизни бюргер не играет никакой роли. Судья
выступает чуть ли не как deus ex machina 1, чтобы помочь выжить в трудные годы дворянству
— лучшей его части. Даже и на гуманность бюргера падает бледный свет: лишь в
ограниченной сфере частной жизни может она проявиться, да и то весьма
противоречиво. Значение, отведенное бюргеру в драме "Внебрачная
дочь", совпадает с высказыванием поэта, которое Эккерман датировал в своих
"Разговорах с Гёте" 18 января 1827 года: "Странная это штука со
свободой — ее не трудно достигнуть тому, кто знает себя и умеет себя
ограничивать. А на что, спрашивается, нам избыток свободы, которую мы не можем
использовать [...] Человеку хватает той свободы, которая позволяет ему вести
1 Бог из машины (лат.). — драматургический прием, использовавшийся в античной трагедии, когда запутанная интрига получала неожиданное разрешение вмешательством бога, появлявшегося на сцене с помощью машины. Искусственная, неправдоподобная развязка драматического произведения.
301
нормальную жизнь и
заниматься своим ремеслом, а это доступно каждому. Не надо еще забывать, что
все мы свободны лишь на известных условиях, нами соблюдаемых. Бюргер не менее
свободен, чем дворянин, если он только держится в границах, предуказанных
господом богом, который назначил ему родиться в этом, а не в другом сословии.
[...] Свободными нас делает не то, что мы ничего и никого не считаем выше себя,
а, напротив, то, что мы чтим все, что над нами. Ибо такое почитание возвышает
нас самих, им мы доказываем, что и в нас заложено нечто высшее, а это и
позволяет нам смотреть на себя как на ровню" (Эккерман, 208—209).
И все же на пьесу
падают отблески обозначившихся тенденций развития. В грандиозной картине
крушения, которую рисует монах, заключена прозорливая догадка, предвосхищение
будущих общественных процессов. Возвратившись от "диких племен" (5,
410), монах характеризует общество, в котором живут Евгения и судья, как
"мерзость запустенья", где царствует "утонченный блуд в стогнах
града" и "преступный разгул себялюбья" (5, 410). Он набрасывает
полную ужаса картину будущего, каким оно предстает его воображению:
Когда я прохожу в дневное время
Неспешно по роскошным площадям,
Гляжу на башни грозные, на храмы
Священные, на мачты кораблей,
Стоящих на причале в людном порте,
Мне кажется: все это на века
Построено и пригнано. И толпы,
Снующие в трудолюбивом рвенье,
Мне представляются все тем же людом,
Незыблемо в бессчетных обновленьях
Хранящим свой, нам всем знакомый лик.
Но только в час полуночный в моем
Сознании встает виденье града,
Как тут же вихри подымают вой,
Земля дрожит, шатаются твердыни,
Каменья падают из прочных стен.
И в крошево, в зыбучий прах времен
Распался город. Те, что уцелели,
Взбираются на вновь возникший холм,
И под любой развалиной — мертвец.
Стихию обуздать невмоготу
Согбенной, обезлюдевшей стране,
302
И хляби, набегая вновь и вновь,
Песком и илом засыпают бухту!
(5, 411)
Нас не оставляет
впечатление того, что Гёте, в то время как писал эти слова, думал о страшном
землетрясении в Лиссабоне в 1755 году, которое навсегда осталось в его сознании
как зловещее предзнаменование. Воображаемую монахом картину можно наложить на
многие катастрофы, включая и ту, которой угрожает человечеству ядерная война.
Несомненно, страшное пророчество тотально относится как к миру забывшего свой
долг дворянства, так и к кругам, в которых живет и действует бюргер-судья. И
все же читатель может и должен определить сущность этого пророчества и в более
конкретном социально-историческом плане. Здесь обнаруживается критика
буржуазной экономики.
Взгляд монаха (а вместе
с ним и читателя) останавливается на гавани, центре бюргерской деятельности,
"людном порте" со стоящими на причале кораблями (5, 411); затем монах
обращает свой взгляд на "толпы, снующие в трудолюбивом рвенье",
которые ему представляются людом, "незыблемо в бессчетных обновленьях /
Хранящим свой, нам всем знакомый лик". Судя по всему, это высказывание
монаха должно относиться к круговороту товаров; обозначив этим сущность
нарождающихся буржуазных отношений, вытесняющих свободное хозяйство, монах,
который представлен незнакомцем в собственной цивилизации, рисует затем картину
— "виденье", встающее в его сознании в "полуночный час", —
гибели страны. Если вначале на это "бессчетное обновление" одного и
того же "знакомого лика" падает еще светлый луч похвалы бюргерского
"трудолюбивого рвенья", то теперь оно предстает в мрачном образе
живущего по своим законам мира, не останавливающегося перед уничтожением тех,
кто приводит его в движение. Это понимается как предчувствие противоречивости
расширяющегося товарооборота: производство общественных благ происходит в
условиях примата экономики, примата меновой стоимости над потребительской
стоимостью, что приводит к обособленному беспрерывному обновленью одного и того
же. Эта противоречивость находит отражение и в других поздних драмах Гёте, в
образе Прометея в "Пандоре", в судьбе Филемона и Бавкиды во второй
части "Фауста". Максима секретаря
303
"и что полезно
нам, для нас закон" (5, 342), в сущности, не отличается от логики
товарообмена, каким его видит монах. В стороне от этого только судья — в силу
своей гуманности, гуманности смирившегося перед властью законов бюргера.
Так трагедия
"Внебрачная дочь" пронизана опасениями за общество, в котором автор
разглядел и предугадал действующие в нем разрушительные силы, — общество, из
которого изгнана Евгения и для которого автор не видит иного исцеления, кроме
как восстановления прежнего порядка на основе свежего, обновленного духа, когда
бы надежды и чаяния "высокородной" могли осуществиться: может быть, с
помощью народа, на который Евгения однажды, раздумывая, осторожно обратила со
смутной надеждой взор:
Там, в городе, я жизни жду от жизни,
Там, где народ довольствуется малым,
Где сердце каждого из горожан
Открыто сострадательной любви.
(5, 395)
304
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОКРУЖЕНИЕ И КОНТАКТЫ
Между античным образцом и современными набросками
Когда листаешь
дневники Гёте, то утопаешь в море имен, которыми пестрят страницы. Трудно
представить, что этот человек мог чувствовать себя одиноко. Непрерывная цепь
посещений и встреч, разговоров и обмена мыслями — разве что он намеренно
уединялся, чтобы иметь возможность спокойно работать. Тогда он хотел только
таких контактов, которые пробуждали в нем живой интерес. Кристиана тяжело
переносила частые его отлучки; и все-таки Гёте был непреклонным в тех случаях,
когда считал, что ему необходимо еще задержаться в Йене, в малоудобных
помещениях дворца, или продлить путешествие. Напрасно она ждала его возвращения
к рождественским праздникам в 1800 году, он приехал только 26 декабря, и никто
не знал, почему он задержался. Мы остаемся в нерешительности, когда вопреки
всему этому читаем подобные этим строки: "Сердечно рад снова видеть тебя и
сказать тебе, что не знаю ничего лучшего на свете, как быть у себя дома рядом с
моей любимой; у кого нет этого, тот все равно в конце концов ищет и дом и
любимую" (Кристиане, 19 июля
305
и экстенсивно
заниматься тем, чего хотел сам, из духовных побуждений, и к чему призывали
обязанности, требования текущего дня.
Дневник с
упоминанием многочисленных имен, посещений, встреч, разговоров в большинстве
случаев фиксирует только внешнюю жизнь; в какой мере все эти контакты
становились событием внутренней жизни, затрагивали глубины его существа,
остается скрытым. Письма и сочинения местами проникнуты меланхолией; всему
этому он пытался противостоять только тем, что с головой погружался в
безграничную деятельность; будучи уже старцем, оглядываясь на прожитые годы и
постоянно взвешивая и оценивая, что принесла ему жизнь, он вынужден был порой
делать многозначительные признания, подобные этому: "Изучение метеорологии,
равно как и многое другое, доводит меня до отчаяния. Начальные строки
"Фауста" и в этом случае подходят как нельзя лучше. Но в
подтверждение истины я должен все же добавить: тот, кто не требует большего,
чем суждено человеку, и в этом случае вознаграждается за потраченные усилия. Но
отречение — не есть удел всякого человека" (Цельтеру, 4 марта
И в эти годы
суждения тех, кто близко наблюдал поэта, весьма противоречивы. Восхищение,
доброжелательность, уважение, критика, враждебность —
306
все имело место в
отношении и в чувствах, которые он возбуждал к себе. Когда Фарнхаген в 1823
году издал собрание документов — свидетельств и суждений о Гёте, он заметил:
"Выпустили том форматом в восьмую долю листа: "Доброжелательные
отзывы современников о Гёте", теперь, я считаю, нужно было бы издать в
противоположность этому сборник "Недоброжелательных отзывов современников
о Гёте"; то же самое он советовал и своему внучатому племяннику Николовиусу
(2 октября
Иоганн Фридрих
Абегг, для которого Гёте был, правда, "человеком неба на земле",
более тепло отзывался в своем "Путевом дневнике 1798 года"
(Франкфурт, 1976): "Гёте один из немногих прекраснейших людей, которых я
когда-либо встречал. Почти на полголовы выше меня, очень хорошо сложен,
умеренно упитан, и взгляд его в действительности вовсе не столь резок, как на
гравюре [И. X.
Липса]. Спокойствие, самостоятельность и некоторое приятное удовлетворение
выражаются во всем его поведении... Вообще он указывает рассудительность и
благородство, возможные лишь среди самых воспитанных придворных. Этим качеством
он обладает, однако, лишь наряду с другими своими недостижимыми
преимуществами".
Когда Гёте взялся поставить
на сцене драмы брать-
307
ев Шлегелей, это
было в том числе и выражение его благодарности обоим. Ведь они были первыми из
тех, кто признал за ним всемирно-историческое значение как писателя. В разделе
"Эпохи развития поэтического искусства" из "Разговора о
поэзии", опубликованном в 1799 году в "Атенее", имя Гёте стояло
в одном ряду с корифеями мировой литературы, после великих древних мастеров:
Данте, Петрарки, Боккаччо, Сервантеса и Шекспира, — Фридрих Шлегель, выдвигая
его в качестве образца, призывал немцев следовать ему. В работе "Об
изучении греческой поэзии" (1795—1796) он провозглашал: "Поэзия Гёте
— это заря настоящего искусства и чистой красоты". В уже упоминавшемся
эссе "О Вильгельме Мейстере Гёте" автор тонко исследует поэтические
особенности этого романа, примешивая, правда, и собственные взгляды на поэзию.
В литературно-историко-философской концепции Шлегеля, соединявшего с изучением
греческой литературы анализ современной поэзии, Гёте предстает как возможный
посредник между античностью, в которой была достигнута непревзойденная
прекрасная объективность, и современностью с ее проблематичной субъективностью.
Ф. Шлегель видел в "Мейстере" "античный дух, распознаваемый при
ближайшем рассмотрении повсюду под современной оболочкой"; соединение его
с "индивидуальностью" романа Гёте, считал он, "открывает
совершенно новую, бесконечную перспективу в том, что представляется высшей
задачей всякого поэтического искусства, — в гармонии классического и
романтического". Гёте, предрекал Шлегель, "станет основоположником и
главой новой поэзии для нас и наших потомков" 1.
Август Вильгельм
Шлегель вслед за младшим братом не скупился на похвалы "Вильгельму
Мейстеру". Рецензируя "Оры", он рассматривал "Римские
элегии" как единственное в своем роде явление в новейшей поэзии,
"Германа и Доротею" он также удостоил высшей оценки. Существенные
черты эпоса здесь можно выделить также хорошо, считал он, как и в гомеровских
песнях: спокойствие изображения, "полное живое раскрытие главным образом
благодаря речам", "неизменно сдержанному, нигде не замедляющемуся и
не ускоряющемуся ритму". Однако Фридрих Шлегель с самого начала подходил
дифференцированно
1 Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. В двух томах. Т. I. М., 1983, с. 412—414.
308
к оценке Гёте; каждый
раз он делал все новые оговорки. "Вертер, Гёц, Фауст, Ифигения и некоторые
стихотворения выказали в нем великого человека, но скоро этот человек стал
придворным", — писал он своему брату в начале ноября 1792 года. В частных
высказываниях и письмах все чаще проскальзывали критические ноты. Скоро он уже
жалел об отсутствии "религии", о чем он особенно упрямо твердит и в
чем неизменно упрекает Гёте, оценивая его творчество, после того как перешел в
католичество. Поэтические же достоинства творчества Гёте он никогда не
оспаривал.
С 1796 года Август
Шлегель жил в Йене, был привлечен Шиллером к сотрудничеству в "Орах",
а в 1798 году стал профессором университета. С Гёте у него установились добрые
отношения. Этому в немалой степени способствовала Каролина Шлегель, умная
хозяйка дома и почитательница Гёте. Она была одной из образованнейших женщин
своего времени; овдовевшая Бёмер, Каролина была участницей событий в Майнце,
поддерживала дружеские отношения с Георгом Форстером, а после побега и
интернирования за подозрение в якобинстве в 1796 году стала женой Августа
Вильгельма Шлегеля. С ним Гёте не раз советовался в вопросах стихосложения. С
Фридрихом же, который в 1796 году также поселился в Йене и прожил там год, дело
обстояло сложнее. У него всегда были напряженные отношения с Шиллером,
приведшие затем к конфликту; в него вмешался и Август Шлегель. В этой ситуации
нелегко пришлось Гёте, который долгое время пытался посредничать между ними.
Какими бы прекрасными ни казались кому-то эпиграммы на Шиллера и пародии на его
стихи, сочиняемые в кружке Шлегеля (опубликованы были позднее), как, например,
пародия на "Песнь о колоколе", они свидетельствовали о глубоких
разногласиях. Разрыв Шлегелей с Шиллером был ознаменован открытием собственного
журнала. В 1798—1800 годах вышло три выпуска-ежегодника "Атенея"
(переиздание в
309
мися, остроумными и
философичными афоризмами Фридриха Шлегеля, со знаменитыми
"Фрагментами" (опубликованными в одной книжке с эссе о
"Вильгельме Мейстере") выражал новый взгляд на поэзию, еще не было
отчетливо видно. Концепцию всеобъемлющей, удовлетворяющей всем чувствам и
мыслям "романтической поэзии", которая в 116-м фрагменте определялась
как "прогрессивная универсальная поэзия", Гёте, конечно, разделять не
мог. "Прогрессивная универсальная поэзия", постулировал Фридрих Шлегель
в этом фрагменте, призвана к тому, "чтобы вновь объединить все
обособленные роды поэзии и привести поэзию в соприкосновение с философией и
риторикой. Она стремится и должна то смешивать, то сливать воедино поэзию и
прозу, гениальность и критику, художественную и естественную поэзию, делать
поэзию жизненной и общественной, а жизнь и общество — поэтическими,
поэтизировать остроумие, а формы искусства насыщать основательным
образовательным материалом и одушевлять их юмором. Она охватывает все, что
только есть поэтического, начиная с обширной системы искусства, содержащей в
себе в свою очередь множество систем, и кончая вздохом, поцелуем, исходящим из
безыскусной песни ребенка" 1.
И все это должен был охватывать роман, как наиболее подходящий для этого жанр.
Подобные идеи не могли, конечно, найти сочувствие у Гёте в период издания им
"Пропилей". Если Шлегель утверждал смешение жанров, то
"веймарские друзья искусства", наоборот, стремились к четкому
определению отдельных жанров, а о "художественной и естественной
поэзии" Гёте никогда не высказался бы подобным образом: он, хотя и
признавал общее между искусством и природой, тем не менее проводил между ними
строгую границу.
Шлегели в 90-е годы
вместе с Вакенродером, Тиком и Фридрихом фон Харденбергом, который выступал под
псевдонимом Новалис, принадлежат к поколению "ранних романтиков". Так
утверждает история литературы, стремящаяся все систематизировать и
классифицировать. При том, что тенденции "Атенея" явно расходились с
направлением "Пропилей", все-таки нельзя упускать из виду, что
Шлегели в ранние годы испытывали такой же восторг перед греческой античностью,
как и Винкельман и Гёте, и образцовость
1 Там же, с. 294.
310
античного искусства
для них также не подлежала сомнению. В дальнейшем размышления об искусстве, в особенности
Фридриха Шлегеля и Харденберга, пошли в ином направлении, и свои представления
о новой современной поэзии они уже не связывали с античностью как с образцом,
на который следовало ориентироваться. Но на рубеже веков "классиков"
и "ранних романтиков" разделяла не столь глубокая пропасть, как те
или иные кружки, нападавшие друг на друга, вроде Коцебу и его сторонников,
который, к примеру, высмеял в своем памфлете "Гиперборейский осел, или
Нынешнее образование" "ранний романтизм" Фридриха Шлегеля, направив
против него каскады цитат из его же сверхспекулятивных и головоломных
построений. Сложившиеся представления о соотношении группировок в 90-е годы и
различиях во взглядах одних и других давно требуют пересмотра. Как обстояло с
фронтами на деле, иллюстрирует замечание Шиллера, который, как известно, давно
не ладил со Шлегелями: "Школа Шлегеля и Тика становится все более и более
пустой и карикатурной, ее антиподы — все более и более пошлыми и жалкими, а
публика колеблется между этими двумя направлениями" (В. фон Гумбольдту, 17
февраля
Говоря яснее [и, конечно,
упрощенно. — К. К.]: ничем не сдерживаемая радикальность — вот что
было определяющей чертой молодого поколения в целом. Она выражалась,
разумеется, не в политических акциях. В послереволюционный период в стране,
которая хотя и нуждалась в решительных общественных преобразованиях, но в
которой они не могли быть осуществлены, это поколение с сознательной реши-
311
тельностью,
казалось, хотело испробовать и осуществить возможности и способности человека в
его мыслях, чувствах, переживаниях, вплоть до утверждения их ради них самих,
так, как если бы обоснование в "Я" было единственно возможным
осуществлением в данных общественных условиях. Один открывал перед другим
только все большие возможности для своевольно-свободного человека, часто имея в
виду возможное государство. Это было подобно завоеванию мира для свободно
действующего субъекта. Оно осуществлялось различными способами: у Фридриха
Шлегеля, у Тика и еще у Вакенродера в его безудержной жажде наслаждения
искусством. Но сразу же обнаруживалась проблематичность подобной установки,
беспочвенность и шаткость "Я": в "Вильяме Ловеле" Тика, в
"Берлингере" Вакенродера и в дальнейшем жизненном пути самого
Фридриха Шлегеля. Радикально направленное бытие человека с необходимостью несло
в себе разрушающую силу — это доказал Вильям Ловель, не в меньшей степени
Рокероль Жан Поля, в конечном счете это заставляло искать связи надличностного
характера, церковные или другие сообщества.
В 1796 году Жан Поль
снова приехал в Веймар и задержался на длительное время. Уже публикация
"Геспера" в 1795 году сделала его знаменитым. Еще до своего приезда
он послал Гёте, которым восхищался, "Невидимую ложу" (1793) и
"Геспера, или 45 дней собачьей почты" (27 марта
312
Видел я в Риме китайца; его подавляли строенья
Древних и новых времен тяжестью мощной своей...
(Перевод С. Ошерова — 1, 239)
Это была расплата за
нелестное высказывание Жан Поля о холодности и суровости великих веймарцев. Но
презрительные замечания о своевольном писателе на этом не прекратились. Для Жан
Поля решающее значение имел визит к Гёте 17 июня 1796 года. Приехав в Веймар,
он попал в очень сложную ситуацию. С давних пор он мечтал о личном знакомстве с
Гердером и лишь теперь узнал, какое взаимное отчуждение царило в хваленом
Веймаре. От Гердера он услышал мало хорошего о Гёте: отношения между бывшими
друзьями дали трещину. Жан Поль переступал порог дома на Фрауэнплане с
надеждами и предрассудками, они должны были либо развеяться, либо
подтвердиться. Его отношение к Гёте определялось тремя моментами: восхищение
его творчеством; жалобы семейства Гердера на холодного, эгоцентричного,
замкнутого в себе тайного советника и образ человека, сконструированного в
собственных романах Жан Поля, в которых "возвышенные личности",
исполненные сострадания и "всеобщей любви", противостояли
эгоцентрикам, замкнувшимся в поверхностном эстетизме. В большом письме другу
Кристиану Отто, через день после обеда у Гёте, Жан Поль рассказал о своих
впечатлениях (18 июня
1 Грязь (франц.).
313
он ничем уже не восхищается,
даже и самим собой, каждое слово его ровно ледяная глыба, в особенности же он
холоден к чужим, которых редко допускает до себя — в нем застыла какая-то
черствая гордость уроженца имперского города; только искусство, кажется, еще
способно разогреть его... Я шел без теплоты, из одного любопытства. Его дом —
дворец — поражает, единственный в Веймаре в итальянском вкусе, с этакими
лестницами, целый пантеон картин и статуй, леденящий страх сжимает грудь —
наконец вышел бог, холоден, односложен, однотонен; Кнебель, например, говорит,
что французы вступают в Рим. "Гм", — произносит бог. В облике его
чувствуется энергическое и страстное, взгляд светится (но без приятного огня).
Скоро шампанское и разговоры об искусстве, публике и прочих предметах разгорячили
его — и тут мы увидели наконец Гёте. Он говорит не так гладко и цветисто, как
Гердер, зато весьма определенно и спокойно. Напоследок он прочел нам [...]
великолепное, еще не напечатанное стихотворение, и тут вспыхнувшее в сердце
пламя растопило ледяную кору, и он пожал руку потрясенному Жан Полю. На
прощание он снова протянул мне руку и звал к себе еще. Он считает, что его
поэтический путь закончен. Клянусь богом, мы все же полюбим друг друга [...]. А
еще он ужасно много жрет; одет же весьма и весьма изысканно".
В этом письме вся
оценка Гёте Жан Полем — восхищение вперемежку с предубеждениями. Жан Поль
упрекал классика в том, что он проповедует абстрактный эстетический формализм;
по мнению Рихтера, это происходило оттого, что Гёте как человек и художник не
стремился к развитию субъективности, исполненной фантазии, и не добивался
морального воздействия. Жан Поль пародировал классицистическую эстетику в
«Истории моего предисловия ко второму изданию "Квинта Фикслейна"», в
вымышленном разговоре между собой и советником искусства Фрайшдёрфером, который
происходит по дороге из Гофа в Байрейт.
Фридрих Рихтер
сделал принципом своего повествования совершенно раскованную субъективность,
которая позволяла ему затрагивать, высказывать и смешивать самые разные вещи. Если
для "классического" романа воспитания была характерна строгая
привязанность к "внутренней истории" (Фридрих фон Бланкенбург) и
повествовательные средства и компо-
314
зиция подчинялись
заданной теме, то для Жан Поля роман определялся "широтой его формы, в
которой могли быть заключены все другие формы". В "Приготовительной
школе эстетики" (1803 и сл.) он спрашивает: "Почему не должно
существовать поэтической энциклопедии, поэтической свободы всех поэтических
свобод?" Даже для Фридриха Шлегеля, несмотря на его собственную теорию
романтического романа, это требование представлялось настолько чрезмерным, что
он заметил по поводу буйно разросшейся прозы Жан Поля: мол, у него
"местами очень хорошие массы" растворяются "во всеобщем хаосе".
Поздний Гёте, уже размышлявший
над "Годами странствий Вильгельма Мейстера", попытался определить
положение Жан Поля в литературе в «Примечаниях и исследованиях к
"Западно-восточному дивану"»; своеобразие Рихтера он характерным
образом обосновал ссылкой на смутные условия времени: "Если по отношению к
нашему столь ценимому, равно как и плодовитому, писателю мы признаем, что он
[...], чтобы оказать влияние на свою эпоху, должен был постоянно намекать на
наше раздробленное состояние, столь бесконечно обусловленное нарушением нормальных
связей в искусстве, науке, технике, политике в военные и мирные времена, то тем
самым приписанные нами ему восточные черты уже в достаточной степени будут
обоснованы". В подготовительных работах к автобиографии, оставшейся
незавершенной, "Описанию собственной жизни", которую Жан Поль во
многих отношениях замышлял как противопоставление "Поэзии и правде",
содержатся формулировки, позволяющие понять, в чем он, оценивая по прошествии
времени пройденный путь, видел свое отличие от чисто эстетическо-художественного
уровня: "Гёте в своих путешествиях все воспринимает определенно, я же не
так: у меня все романтически расплывчато. Индивидуальный момент в Фикслейне
всего лишь создание искусства, он путешествует по городам, но ничего не видит в
них, только чудесную местность, которая поддерживает романтическое настроение,
или хорошую музыку, человека или книгу. Хотя он знает (и видит) все
индивидуальные проявления жизни (например, когда путешествует), но эти
подробности его не интересуют, и он о них забывает".
315
В 1795 году возник
острый конфликт с Гердером, в особенности с Каролиной. Герцог в свое время
обещал позаботиться о расходах на образование детей суперинтенданта. Неожиданно
Каролина запросила большую сумму денег сразу — после того как, не уведомив об
этом заранее, уже поместила своих детей в учебные заведения за границей. Гёте
30 октября 1795 года пишет Каролине подробное письмо: в резких выражениях он
указывал на недопустимо требовательный тон ее письма и на необоснованность
притязаний, но в конце выражал готовность дружеского участия и помощи: "Я
знаю, что за выполнение возможного не питают благодарности к тому, от которого
требовали невозможного; но это не помешает мне сделать для Вас и Ваших все, что
в моих силах" (XIII,
85). Дружба с Гердером давно дала трещину. В "Анналах" за 1795 год
Гёте писал: "Гердер чувствует себя задетым некоторым моим отдалением,
которое становится все более заметным, и ничем нельзя помочь возникающему из
этого неудовлетворению. Его антипатия к философии Канта, а отсюда к Йенской
академии все возрастала, в то время как я благодаря отношениям с Шиллером все
больше с ними срастался. Поэтому бесполезной была любая попытка восстановить
прежнюю дружбу". Между Шиллером и Гердером тоже не было единогласия. Тем
не менее в "Орах" в 1796 году появился диалог Гердера
"Идуна", в котором обсуждался вопрос о значении скандинавской
мифологии для поэзии ("Что такое эта мифология? Откуда она? В какой мере
она нас касается? Чем она может быть нам полезна?"); здесь отчетливо
чувствовался отказ от признания образцовости греческой античности и
преимущественного использования содержащегося там мифологического арсенала и
содержалось указание на современное и отечественное: "Я не хочу признавать
ничего другого, как только то, что каждый поэт или рассказчик может черпать из
достояния чужого, далекого или отжившего народа, то есть он может использовать
богатства, которые ему предоставляет этот народ и его время". Шиллер уже в
письме от 4 ноября 1795 года оспаривал мысль Гердера о том, "что поэзия
порождается жизнью, временем, действительностью" (Шиллер, VIII, 516). Мысли Гердера об отечественном как
необходимой почве поэзии не нашли сочувствия и не могли устоять перед
почитанием классической древности. Он в противоположность теоретикам и
практикам идеалистического
316
учения об искусстве
и красоте оставался верным тому, что еще в 1773 году в "Переписке об
Оссиане" назвал важной чертой "поэтического творчества древних и
диких народов", тому, что "порождено непосредственной
действительностью, непосредственной взволнованностью чувств и воображения и в
то же время в нем содержится множество неожиданных переходов и
скачков" 1. Бессильным
протестом против Канта (при всем уважении к философу), а также против Шиллера
выглядит "Каллигона" (1800), где обстоятельно и в то же время
вымученно он пытается оспорить кантовское определение прекрасного как
"предмета наслаждения, свободного от всякого интереса" 2, и против шиллеровского понятия игры в
эстетике.
До самой смерти
Гердера (18 декабря
1 Гердер И. Г. Избранные сочинения. М.—Л., 1959, с. 46.
2 Там же, с. 203.
317
лю", —
свидетельствовал со слов Гёте И. Д. Фальк.
Вильгельм фон
Гумбольдт все годы сохранял верность Гёте, но все же их контакты не всегда были
в равной мере интенсивными, хотя бы потому, что они жили на отдаленном друг от
друга расстоянии, работали в разных областях. Гумбольдт не был рожден поэтом,
но он глубоко чувствовал поэзию, эстетические проблемы, хорошо знал народы,
языки, культуры и был их незаурядным истолкователем и посредником. В пору
своего пребывания в Йене, где он жил, за исключением выездов на более или менее
продолжительное время в Тегель и северную Германию, с 1794 по 1797 год,
Гумбольдт, друживший с Шиллером и принимавший участие в "Орах",
естественно, примкнул к кружку "веймарских друзей искусства". Своей
жене он писал тогда, что Гёте, как он признавался ему, еще не встречал,
пожалуй, кроме Мерка и Морица, никого, с кем бы он мог находить такое
взаимопонимание в разговорах "об эстетических предметах" (7 апреля
318
собна дать природа,
живая реальность, и одновременно чистые и идеальные, какие никогда не способна
представить действительность"; значение Гёте как поэта он обосновывал тем,
что тот полно развил себя как индивидуальность; "близкий к классическому
духу древних, пронизанный духом лучших новейших поэтов", он сумел
"свести в единство поэтической идеи свой опыт человеческой жизни и
человеческого счастья" 1 и
во всем совершенстве исполнил эту идею: в поэтической индивидуальности Гёте он
видел воплощение всего человечества. Позднее Гумбольдт написал еще одно
обширное эссе о творчестве Гёте — "Второе пребывание в Риме", —
которое вышло в 1830 году.
Для Гёте всегда
очень важно было получать информацию от этого человека, который много
путешествовал, а потом жил в Тегеле и еще несколько раз бывал у него в гостях,
— сообщения и суждения Гумбольдта об искусстве и литературе во Франции, обычаях
чужих народов, о своей культурно-политической деятельности в Пруссии, о
достижениях сравнительного языкознания — предмета специального изучения этого
ученого, писателя, дипломата и политика. Принципы наблюдения, которые Гумбольдт
использовал при своей попытке обосновать "совершенно новую науку", а
именно "сравнительную антропологию", совпадали с собственным методом
Гёте: стремиться к познанию человека в частностях, "которое достаточно
эмпирично, чтобы оставаться доподлинным, и достаточно философично, чтобы быть
пригодным для большего, чем только данный момент" (письмо Гумбольдта Гёте
в начале апреля
1 Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры. М., 1985, с. 165, 166, 224.
319
последнее, которое
он написал в своей жизни и в котором он обобщил взгляды, весьма близкие
Гумбольдту: для всякого таланта необходимо нечто "прирожденное, что
действует само по себе и бессознательно приносит с собой необходимые основы, а
потому действует так непроизвольно, что, хотя и подчиняется известному
внутреннему закону, в конце концов все же не может протечь бесцельно и
бесполезно. Чем раньше человек поймет, что существуют навыки, что существует
искусство, помогающее ему последовательно совершенствовать свои природные
способности, тем он счастливее. [...] Высший гений — это тот, кто все впитывает
в себя, все умеет усвоить, не нанося при том ни малейшего ущерба своему
подлинному, основному назначению". При подобном развитии таланта
"проявляются многообразные связи между сознательным и
бессознательным". Эти связи он образно определил, прибегнув к понятиям из
техники ткацкого ремесла: "Сознание и бессознательность будут здесь
относиться, как поперечные нити ткани, переплетающиеся с нитями основы, —
сравнение, которое мне очень нравится". За пять дней до своей смерти Гёте
еще строил планы, но последние слова письма словно бы подытоживали его жизнь:
"Я чувствую насущную нужду совершенствовать в себе и по возможности
концентрировать все то, что во мне еще сохранилось, так же как делаете это Вы в
своем замке" (XIII,
521— 523).
Философские идеи,
молодого Шеллинга на рубеже столетий настолько совпадали с основополагающими
взглядами Гёте на природу, что он написал молодому профессору в Йену: крайне
редко испытывал он склонность к какому-то определенному способу исследования
природы, но вот теперь "Ваше учение меня покорило. Хотелось бы полностью
проникнуться им, чего я надеюсь достичь с помощью дальнейшего изучения Ваших
сочинений" (27 сентября
320
основополагающие
принципы всех природных явлений. В своей книге "О мировой душе"
(1798) Шеллинг усматривал в магнетизме и электричестве те же самые полярные
принципы в действии, а в химических процессах, помимо этого, видел еще и
синтез. Универсум, рассуждал он во многих сочинениях, является единственным
организмом, на который распространяются законы мыслящего духа. Все в универсуме
одушевлено, и все вещи содержатся в боге. Природа и дух, считал он,
неразделимы, но природа — это зримый дух, а дух — невидимая природа. На вопросы
о том, что такое природа вне нас и как ее можно познать — о чем размышляли Кант
и Фихте, — Шеллинг отвечал: проблема должна разрешаться "в абсолютной
тождественности духа в нас и природы вне нас", тем самым может быть дан
ответ на вопрос, "каким образом природа возможна вне нас" ("Идеи
к философии природы", 1797). Но природа не есть нечто статичное, она
находится в становлении, в которое включен и человеческий дух. Эти
основополагающие положения были общими для Гёте и Шеллинга, независимо от того,
до конца ли понимал Гёте в высшей степени умозрительные ходы мысли философа. В
1803 году Гёте написал стихотворение "Мироздание", позднее получившее
название "Душа мира", оно нашло свое место как в "Песнях для
дружеского круга", так и в разделе "Бог и мир".
Рассейтесь вы везде под небосклоном,
Святой покинув пир,
Несите жизнь, прорвавшись к дальным зонам,
И наполняйте мир!
Вы божьим сном парите меж звездами,
Где без конца простор,
И средь пространств, усеянных лучами,
Блестит ваш дружный хор...
(Перевод С. Соловьева — 1, 455)
Возвышенное
стихотворение о счастливом включении человека в одушевленную динамическую
вселенную. Позднее поэт с легкой иронией и достаточно отстраненно оценивал свою
экзальтированность, напоминая в письме Цельтеру от 20 мая 1826 года, что этой
песне "добрых тридцать лет от роду и она возникла в те времена, когда
бесконечно юношеская отвага еще отождествляла себя со вселенной и ве-
321
рила, что способна
заполнить и даже частично воссоздать ее" (XIII, 498). С Шеллингом, покинувшим Йену в 1803
году, Гёте состоял в переписке до 1827 года и постоянно держал его в поле
зрения. Но настроенный на чувственное созерцание, веймарский естествоиспытатель
весьма сдержанно относился к слишком расплывчатым и туманным спекуляциям: когда
в 1816 году ему предложили снова пригласить Шеллинга в Йену, Гёте отказался это
сделать. Его раздражала склонность философа к мистически-религиозному
миросозерцанию и католицизму: "Мне представляется смешным, что нам к
торжеству трехсотлетней годовщины нашего протестантского, поистине великого
завоевания приходится наблюдать попытки воскресить затасканную, отжившую труху
в обновленной, мистико-пантеистической, невнятно-философской форме, которую я в
душе все же в известной мере не считаю достойной презрения" (Фойгту, 27
февраля
Только 26 декабря
1800 года Гёте возвратился из Йены домой. Катар, который он подхватил в дороге,
усилился, и в начале нового года поэт свалился с тяжелой болезнью. Рожистое
воспаление поразило его от левого глаза через нос, включая носовую полость, до
слизистой оболочки ротовой полости. Отек гортани и распухание миндалин вызывали
тяжелые приступы удушья; госпожа фон Штейн сообщала сыну Фрицу 3 января 1801
года: "Ему нельзя лежать, и приходится поддерживать его в стоячем
положении, иначе он задохнется". Воспаление мозговой оболочки еще более
ухудшило его самочувствие, многие дни он был в бессознательном состоянии,
бредил вслух и как будто бы читал наизусть отрывки из своего юношеского стихотворения,
"поэтических размышлений о нисхождении Иисуса Христа в ад". Опасались
за его жизнь. Недели через три наступил кризис, и 1 февраля он отметил как день
"возвращения к жизни" (как он сообщал матери). Это была первая
серьезная болезнь, которую он перенес в зрелые годы. Со времени участия в
походе 1792 года он периодически страдал ревматическими болями, может быть, это
было свя-
322
зано также с плохим
состоянием зубов; он часто жаловался на зубные боли (бич тогдашнего времени).
Впоследствии много страданий ему доставляли колики в почках — видимо, не в
порядке была и печень. Весной 1805 года, незадолго до смерти Шиллера, все эти
болезни особенно его донимали. В последующие годы колики постоянно
возобновлялись, но, как правило, они мешали ему только в периоды наиболее
сильных приступов; смягчение болей и отдых приносило лечение на курортах.
Возможно, помогала и длительная езда по тряской дороге в Богемию, хотя о выходе
у него почечных камней нет никаких сведений. Гёте не был терпеливым пациентом.
Постоянно страдавший Шиллер написал однажды Гёте, жаловавшемуся тогда на катар:
"В этих обстоятельствах желаю Вам обладать моим умением переносить нездоровье, тогда это
состояние было бы для Вас менее невыносимым" (27 февраля
Весной 1801 года
здоровье Гёте заметно пошло на поправку, и он стал чаще бывать в своем имении в
Оберроссле, в марте и апреле он провел там больше месяца. Ему было предписано
лечение на водах, и в начале лета он на многие недели уехал в Пирмонт в
сопровождении сына Августа и секретаря Гайста. Поездку, начавшуюся 5 июня, Гёте
использовал, с тем чтобы дважды заехать в Гёттинген, причем на обратном пути из
Пирмонта он задержался там на целых четыре недели — с середины июля до середины
августа. В Гёттингене представилась возможность встретиться и побеседовать с
университетскими учеными, а богатая библиотека облегчила ему дальнейшую
разработку истории учения о цвете. И в Пирмонте, где день начинался с приема
минеральной воды и купаний, он уделял время занятиям естествознанием и диктовал
Гайсту. Находились здесь и интересные камни, так что мог развлечься и Август,
которому скоро должно было исполниться двенадцать лет. "Сегодня четыре
недели как ты уехал, но для меня как будто три месяца прошло", — писала
ему 3 июля Кристиана. Вместе с Мейером она выехала потом навстречу
возвращавшимся мужу и сыну и остановилась, поджидая их, в Касселе, где 15
августа они отметили свою встречу после разлуки в здании почты на Кёнигсплац.
"Пять по большей части дождливых и неприятных недель в Пирмонте, зато пять
— поучительных и доставивших удовольствие — в Гёт-
323
тингене", —
сообщал он о своих впечатлениях Фрицу Якоби (23 ноября
Собрания по средам и песни для дружеского круга
Со сколькими людьми ни
встречался и ни переписывался Гёте, в глубине души он все же нередко испытывал
чувство одиночества. Гумбольдт впоследствии тоже полагал, что Гёте недостает
равновесия, что у него слабые корни в действительной жизни, а
"идеальное" вдохновляет лишь в моменты восторга, в обыденной же и
внешней жизни оно совершенно не помогает. "Поскольку он не сходится с
людьми, то и другие не могут сближаться, именно эта неспособность вынуждает его
быть одиноким" (В. фон Гумбольдт своей жене, 31 июля
1 Двор любви (франц.).
324
Гёте: "Без
разрешения мы не могли ни пить, ни есть, ни вставать или садиться, не говоря
уже о том, чтобы вести беседу, как кому нравилось, Гёте неизменно направлял
разговор, как хотелось ему". Зато Шиллер, сообщавший о кружке Кёрнеру,
отмечал, что "время проходит очень весело" и мы "усердно поем и
пьем" (16 ноября
Даже в некоторых
стихотворениях "Западно-восточного дивана" за философской подоплекой
чувствуется песенная основа. Стихотворение "Земною тварью был Адам"
("Создать и оживить") предназначено для застольного веселья
("Для доброго де-
325
ла собрались мы тут,
/ Друзья мои! Ergo bibamus!" 1 — Перевод А. Глобы — 1, 275), также и стихотворение
"Дивана" "Кельнеру. Трактирщику" ("Эй, ты, негодяй, /
Не можешь поставить ты вежливей кружку?!", вошедшее затем в качестве
"Песни турецкого трактирщика" в сборник студенческих застольных песен,
где, однако, "красивый мальчик" превратился в "красивую
девочку".
Ко всей застольной
лирике Гёте, которая часто и несправедливо не принимается во внимание, можно
было бы поставить в качестве девиза длинное стихотворение 1813 года
"Открытый стол":
Пусть друзья ко мне идут,
Уж пора садиться!
Много выставил я блюд —
Дичи, рыбы, птицы.
Запируем до зари,
Чу! звонок в передней.
Ганс, сходи-ка, посмотри,
Кто придет последний?
(Перевод А. Гугнина)
Для этих
"сред" Гёте написал несколько стихотворений по конкретному поводу,
например "Песня на основание кружка", "К Новому году!"
(Старый уходит / Новый приходит, / На перепутье / Радостным будь"),
"Весеннее пророчество" (с намеками на "Волшебную флейту", а
также на "Песню на основание кружка"), "Всеобщее покаяние"
("Выслушайте, о, друзья, / Каюсь перед вами я"), которое должно было
напоминать "Gaudeamus igitur" 2, "Застольная" ("Дух мой рвется
к небесам / В заблужденье странном"), переработанная "Песнь
содружества" 1775 года, начальные строки которой провозглашают культ
дружеской песни:
В хороший час, согреты
Любовью и вином,
Друзья! Мы песню эту
О дружестве споем!
(Перевод Л. Гинзбурга — 1, 127)
Шиллер тоже сочинял
стихотворения подобного рода, например "Друзьям", "Четыре
возраста все-
1 А посему выпьем! (лат.)
2 Итак, будем веселиться! (лат.) — начало старинной студенческой песни, возникшей из застольных песен вагантов.
326
ленной",
"Блаженство мгновения". Раздел "Песен для дружеского круга"
заключает веселое стихотворение "Веймарские проказницы" 1813 года
("В бельведере мы в четверг, / Пятницу проводим в Йене"), посвященное
веселому времяпрепровождению в Веймаре и его окрестностях. Этому стихотворению
предшествовало письмо Кристианы от 27 марта 1799 года, в котором она,
забавляясь, перечисляла, что она делала день за днем в отсутствие хозяина дома.
Гёте неоднократно
положительно отзывался о "поэзии на случай", при этом нужно помнить,
что под словом "случай" он подразумевал часто все, что давало повод к
сочинению, следовательно, и то, чем поэт мог лично быть затронут в своей каждодневной
текущей жизни, индивидуально и по-своему им переживаемой. Тем самым он хотел
подчеркнуть, что его стихи, как и всегда, были вызваны действительностью, что
они не были пустой фантазией и игрой ума. Но даже и те произведения, к
написанию которых послужил чисто внешний случай и которые предназначались для
определенных лиц, он принципиально считал полноценной поэзией. В
"Извещении о собрании сочинений Гёте", последнем прижизненном издании
своих сочинений, поэт определенно высказался о группе стихотворений, написанных
по случаю торжества: "Поскольку все больше и больше учатся понимать
высокую ценность стихотворений на случай и каждый талантливый автор находит для
себя радость оказать почтение любимой и уважаемой личности в торжественную
минуту дружески-поэтическим словом, то и эти мелочи могут представлять
интерес". Написанные им в 1810—1812 годы семь стихотворений, шесть из них
по заказу, по случаю пребывания австрийской императрицы Марии Людовики в
Карлсбаде и визита императора Франца I и других императорских
особ, он немедленно включил в новое издание своих сочинений. Он очень ценил эти
стихи, правда, их названия (например, "Прибытие императрицы",
"Бокал императрицы", "Отъезд императрицы", "Ваше
Императорское величество Австрии") могли бы быть
более развернутыми и цветистыми, как и Casual carmina, стихотворения на случай, в XVII веке. Возвеличиванием поэзии на случай в целом, значением, которое он
ей придавал, Гёте надеялся, быть может, также
оградить себя от возможных упреков, после того как он столь естественно устроился
при Веймарском дворе и помогал как поэт более торже-
327
ственно обставлять
придворные празднества. Если все его стихотворения были вызваны к жизни, как он
считал, тем или иным случаем, если "всякое особенное какого-либо события
или состояния" "непреодолимо" требовало написать то или иное
"стихотворение на случай" (статья "Значительный стимул от
одного-единственного меткого слова"), то и в поэзии на случай в узком
смысле не могло быть ничего позорного.
"Среды"
продержались недолго. Не так легко оказалось прочно наладить желаемое общение.
Уже в начале 1802 года cour d'amour распался.
В немалой степени этому способствовали возникшие споры об участии в нем Августа
Коцебу, преуспевающего драматурга, который хлопотал о том, чтобы быть принятым
в уважаемых кругах. Когда это не удалось, он попытался другим способом
выдвинуться: он задумал устроить 5 марта 1802 года пышное торжество в честь
именин Шиллера и просил для этого новый зал ратуши. В помещении ему было
отказано под предлогом того, что оно, дескать, только что обновлено и никто не
мог гарантировать от возможных повреждений во время мероприятия. Ему не выдали
напрокат и единственный оригинальный бюст Шиллера, хранившийся в герцогской
библиотеке, потому, естественно, как иронически заметил Гёте в "Анналах"
за 1802 год, "что еще ни разу ни один гипсовый бюст после того или иного
торжества не водворялся в целости и сохранности на свое место". Гёте и
позднее считал это дело настолько серьезным, что на многих страницах в своих
"Анналах" высказался по этому поводу. В намерении Коцебу устроить
торжество он видел попытку перетянуть к себе Шиллера и в собственном кружке со
знаменитостями создать противовес ему и его руководству театром. Поскольку
кое-кто из "веймарской общественности" разделяли желание Коцебу
устроить торжества в честь Шиллера и во всяких напастях, которые их настигали,
подозревали Гёте как тайного инициатора, то возникавшие вследствие этого
неприятные и досадные моменты сказывались и на атмосфере кружка, собиравшегося
по средам.
Несмотря на то что Гёте
пьесы Коцебу считал чисто развлекательной продукцией, они все же регулярно
ставились на веймарской сцене. Репертуар включал в себя и легкие, и серьезные
вещи, и на составлении его не сказывались личные антипатии. Август фон Коцебу
был коренным веймарцем, он родился в 1761
328
году в семье
советника посольства, изучал юриспруденцию и в 1781 году уехал в качестве
секретаря в Петербург, где сделал удивительную карьеру. В 1785 году он,
женившись на эстонской дворянке, стал президентом Ревельского магистрата в
Эстонии и был возведен императрицей Екатериной в дворянское достоинство. В это
время он начал писать пьесы, две из которых: "Ненависть к людям и
раскаяние" и "Индейцы в Англии" (обе в 1788 году) — сделали его
знаменитым. Коцебу вел неспокойную жизнь. В 1795 году он оставил службу, много
путешествовал, в 1799 году обосновался в Веймаре. Он написал направленный
против "ранних романтиков" памфлет "Гиперборейский осел" и
стремился достичь такого же общественного признания, каким пользовались оба
великих веймарца. В 1800 году Коцебу снова отправился в Россию, был заподозрен
в якобинских взглядах, арестован и сослан в Сибирь. Но через четыре месяца
Павел I, которого восхитила его
пьеса о Петре III,
вернул его из ссылки и назначил интендантом Немецкого придворного театра в
Петербурге; уже в 1801 году Коцебу оставил этот пост. С тех пор он жил в
Веймаре, Йене, Берлине, ездил в Париж; затем сделался резким противником
Наполеона, и свой журнал "Прямодушный" ("Дер Фраймютиге")
использовал как орган, в котором ругал все, что ему не нравилось:
"классиков", "романтиков", Францию. После поражения в 1813
году Наполеона он снова в качестве советника поступил на русскую службу и
писал, начиная с 1817 года, сообщения царю из Веймара, чем навлек на себя подозрения
в шпионской деятельности. Его реакционные политические взгляды дискредитировали
его в глазах студентов; на Вартбургском празднике в 1817 году летели в огонь и
его сочинения. 23 марта 1819 года Коцебу был убит Карлом Людвигом Зандом,
вартбургским студентом, прямо в своей квартире в Мангейме, где он с некоторых
пор жил со своей третьей женой и многочисленными детьми.
Прямо-таки
неистощимой была литературная продуктивность Коцебу. Более чем двести пьес для
театра написано им; из тогдашних авторов его пьесы ставились больше и чаще
других. Только 638 вечеров в Веймарском театре, в то время когда им руководил
Гёте, были заняты представлениями его пьес. С этими пьесами, бьющими на
умиление и смех, предлагающими беззаботное развлечение и не отказывающимися от
фривольной шутки, легко разделаться
329
как с не
представляющей ценности, легковесной, хотя и крепко сработанной халтурой. В то
же время ни один театр не отказывался от них; публика, как бюргерская, так и дворянская,
не могла не видеть, что в этих пьесах высказывались их собственные чувства, что
они взывали к их настроениям и задушевным фантазиям, что в них безболезненно
разрешались конфликты. В них автор мог показать как в зеркале бюргерскую
ограниченность, как, например, в комедии "Провинциалы", название
городка "Krahwinkel" 1 стало нарицательным и до сих пор
употребляется в насмешку как обозначение "захолустья". Коцебу не
стремился предложить публике нечто большее, чем развлекательное
времяпрепровождение, только иногда подбрасывая едкие замечания, и не без
основания чернил высоких судей искусства. Он, мол, знает, что заслуживает
только подчиненное место в литературе, писал он во вступительном слове к
"Графу Бургундскому", но: "Воздействие моих пьес связано с их
исполнением на сцене: этой цели они достигают, и с такой точки зрения их и
должно судить; но этого не хотят делать". Гёте попытался все же дать ему и
более объективную оценку. В очерке "Коцебу" (в "Биографических
мелочах") он, само собой разумеется, подчеркивал, что тот неизменно
стремился "всяческими способами очернить мой талант, мою деятельность, мое
счастье", он даже вынес негативный общий приговор драматургу ("Коцебу
при своем отличном таланте имел в своей натуре известное ничтожество [...],
которое мучило его и вынуждало принижать значительное, чтобы самому мочь
казаться значительным"), и все-таки Гёте считал уместным взять Коцебу под
защиту "от поверхностных порицателей и отвергателей". Театральный
практик, Гёте хорошо знал, что театр мог быть не только "нравственным
учреждением" (Шиллер) и храмом воспитания.
Чужой вблизи
В то время когда
Гёте был еще владельцем имения в Оберроссле, располагавшемся, как известно, в
нескольких километрах от Османштедта, один двадцатилетний немецкий писатель
гостил там как-то у Виланда; это было зимой, в период с января по март 1803
года. Писатель этот был Генрих фон Клейст, уже
1 Вороний угол (нем.).
330
с октября прошлого
года живший в Веймаре. Он оставил офицерскую службу в прусской армии, начал писать
и стремился осуществить намеченный план жизни. После знакомства с философией
Канта в 1801 году он, потрясенный тем, что мы якобы не можем познать и даже
понять действительность, пережил глубокий кризис, отказался от намерения
поселиться в Швейцарии и "возделывать поле своими руками" (Ульрике
фон Клейст, 12 января
В марте 1803 года
Клейст, называвший себя "невыговорившимся человеком" (в письме
Ульрике фон Клейст, 13 марта
331
не вероятно, что
неразрешимые трудности принесла вспыхнувшая в нем любовь к одной из дочерей
Виланда. Возможно, и Гёте не остался бы равнодушным, если бы он услышал сцены
из "Роберта Гискара", который не был "столь странной
породой" и не "действовал в столь несродной" Гёте
"области", как "Пентесилея" (из письма Гёте Клейсту от 1
февраля
Новое в Веймаре
В ноябре 1802 года
Генрих Мейер покидает дом Гёте на Фрауэнплане и обзаводится собственным жильем:
причиной этому была его женитьба в начале 1803 года на Луизе фон Коппенфельз.
Но перемены в личной жизни не повлияли на его отношения с Гёте — они
по-прежнему оставались близкими и доверительными. В сентябре 1803 года
произошло важное по своим последствиям событие. Филолог-классик Фридрих
Вильгельм Ример, до того домашний учитель у Вильгельма фон Гумбольдта, взял на
себя воспитание молодого Августа фон Гёте, с которым занимался вплоть до его
поступления в университет. Гердер конфирмовал его в июне 1802 года; Гёте
специально обратился в связи с этим событием к "старому другу",
изложив ему в характерных выражениях свою просьбу: дескать, он хотел бы ввести
своего сына в "христианское сообщество" "более либеральным
способом, чем это предписывала традиция". Римеру вменялось в обязанность
обратить особое внимание на изучение древних языков, с которыми у Августа
обстояло не самым лучшим образом. Выполняя педагогические обязанности, Ример
становится одновременно одним из ближайших сотрудников Гёте и получает широкие
полномочия при подготовке текстов для изданий. Он прожил в доме Гёте до 1812
года, затем был профессором Веймарской гимназии и библиотекарем. Позднее, по
желанию Гёте, он вместе с Эккерманом разбирал обширное рукописное наследие
поэта. Будучи прекрасным специалистом по классической филологии, Ример
332
имел все предпосылки
для этой работы. После смерти Гёте он подготовил к изданию переписку поэта с
Цельтером, а вместе с Эккерманом — "Произведения из рукописного наследия".
Его "Сообщения о Гёте" с момента их появления в 1841 году составляют
неотъемлемую часть литературы о Гёте. Они не являются только собранием
документов о писателе; в первом томе Ример пытается в целом ряде тематически
подобранных глав обрисовать целостный портрет Гёте, каким он виделся ему как
многолетнему сотруднику и наблюдателю. Ример посчитал нужным справедливости
ради поместить после глав "Характер", "Деятельность",
"Целостность", "Особенности" и раздел под заголовком
"Недостатки": "Нет сомнения в том, что он был несовершенен
и знал это лучше, чем те,
кто много говорили о его недостатках". Ример рано заметил, что поступки
Гёте, которые могли шокировать кого-то, зависели часто от конкретных
обстоятельств. Он судит "в халате иначе, чем когда ему приходится
высказываться в обществе", сообщал он Фромману 4 февраля 1804 года.
"Поскольку все от него чего-то хотят, то он дает только то, что он сам
хочет и благодаря чему может остаться вне партий".
Возможно, что он вел
себя именно так, когда в конце 1803 года в Веймаре вместе со своим спутником
Бенжаменом Констаном появилась госпожа де Сталь, дочь французского министра
финансов Неккера, чье счастье было столь переменчиво при Людовике XVI. Публичные выступления госпожи де Сталь
против Наполеона вынудили его изгнать ее из страны; к этому времени она
приобрела как писательница европейскую известность и теперь путешествовала по
Германии, желая пополнить свои скудные знания о соседней стране. Впечатления о
поездке она использовала потом в книге "О Германии", опубликованной в
1810 году. Само собой разумеется, что в ее планы входило и посещение Веймара.
Гёте уже достаточно хорошо был знаком с французской писательницей; ее
"Эссе о вымысле", где она хвалила "Вертера", он перевел для
журнала "Оры" под названием "Опыт о поэзии", еще раньше она
прислала Гёте свое эссе "О литературе", в 17-й главе которого
произведения Гёте и Шиллера объяснялись французскому читателю; некоторые
подробности о ней ему сообщал также Вильгельм фон Гумбольдт из Парижа. И все же
в конце 1803 года Гёте был настолько поглощен делами в связи с возникшими в
Йенском университете неурядицами, что не поспешил в Веймар, чтобы встретиться с
талантливой, но
333
экспансивной
гостьей, — создание новой литературной газеты представлялось ему более важным
делом, чем встреча. Еще в письме 21 декабря 1801 года Шиллер довольно метко
характеризовал ему госпожу де Сталь, подготовив тем самым своего адресата к
предстоящим разговорам с ней: "определенность, решительность и духовная
подвижность ее натуры" могут оказать, разумеется, только благотворное
воздействие; единственное, что может утомить, — это "ее необычайная
говорливость"; "нужно обратиться в слух, чтобы поспевать за
ней". 24 декабря Гёте и умная француженка встретились наконец в его доме.
"Рано утром из Йены. К обеду госпожа де Сталь, господин надворный советник
фон Шиллер и господин надворный советник Штарк, присутствовал и Его
Светлость" — так официально сообщает дневниковая запись. Гёте еще
несколько раз встречался с зарубежными гостями до их отъезда в марте 1804 года.
Из "Анналов" этого года можно узнать о смешанных впечатлениях,
произведенных на него госпожой де Сталь. Она яростно отстаивала собственные
взгляды, в любой момент могла оборвать собеседника, если не была согласна с
ним, чтобы тотчас высказать свое мнение, и это было одной из неприятных сторон
в общении с ней. Ее особенность — "непременное стремление упорствовать в
некоторых вопросах и нежелание прислушиваться к мнению собеседника". Со
своей стороны Гёте испытывал наслаждение в том, чтобы провоцировать ее, и
своими возражениями доводил ее "нередко до отчаяния". Госпожа де
Сталь познакомилась также с Августом Вильгельмом Шлегелем и осталась в
восхищении от его литературных познаний. Из-за смерти отца она вынуждена была
прервать свое путешествие; Август Шлегель присоединился к ней и оставался
постоянным спутником и советчиком французской писательницы вплоть до ее смерти
в 1817 году.
Вторая часть книги
госпожи де Сталь "О Германии" посвящена литературе и искусству.
Главный вопрос "Почему французы несправедливы к немецкой литературе?"
выдавал ее намерения: быть посредником между двумя культурами. В отдельных
главах она подробно рассматривает творчество Шиллера и Гёте, Лессинга,
Цахариаса Вернера и других писателей. Она писала не похвальные речи, но критически
обоснованные наблюдения. "В Гёте нет больше того зажигательного пламени,
из которого родился "Вертер", но теплоты его мыслей все еще достает
на то, чтобы во все вдохнуть жизнь", — пишет она в главе "Гёте";
334
в то же время она
сдержанно высказалась в письме Фридриху Генриху Якоби, что Гёте "человек
удивительного духа. Его характер и взгляды не вызывают во мне симпатии, но
способности его приводят меня в величайшее восхищение" (11 марта
Осенью 1804 года в
Веймаре происходили большие торжества. В августе двор переселялся в новый замок
— внушительное здание для местечка с населением в семь с половиной тысяч.
Берлинский архитектор Генрих Генц, по рекомендации Гёте производивший отделку
внутренних помещений, украсил дворец входной лестницей на восточном крыле
здания и праздничным "белым залом" — шедеврами классицистического
стиля. Комплекс строений в форме подковы был обращен к парку на берегу Ильма, в
аллеях которого мог гулять каждый независимо от сословия. "Парк особенно
ценим веймарцами, и они охотно бывают в нем", — писал Йозеф Рюккерт в
критическом журнале "Гений времени" ("Дер Гениус дер цайт")
в мае 1800 года. В нем можно встретить ремесленников и бюргеров наряду с
"вечно праздными и вечно мерзнущими дворянами, которые здесь, как и
повсюду, пытаются бежать от скуки и холода своего существования". По
воскресеньям в хорошую погоду "парк являет собой республиканский праздник
всего Веймара".
С политической точки
зрения важным событием был брак наследного принца Карла Фридриха с русской
великой княжной, дочерью Павла и сестрой императора Александра, Марией
Павловной, который был заключен в августе 1804 года в Петербурге. Въезд молодой
четы в Веймар был торжественно обставлен, как и надлежало быть в случае,
соединившем семейными узами маленькое герцогство с великодержавной Россией. Для
этого дня Шиллер написал праздничную пьесу "Похвала искусствам".
335
ПОСЛЕ СМЕРТИ ШИЛЛЕРА
Смерть и просветление
Смерть Шиллера, последовавшая
9 мая 1805 года, черной тенью легла на жизнь Гёте. С начала этого года Гёте
мучился почечной коликой. Снова, как в 1801 году, его состояние не раз
становилось критическим, и, сообщая Шиллеру 20 апреля о завершении очерка о
Винкельмане, он напомнил ему слова некоего художника: "In doloribus pinxit" ("Он писал это, страдая от
болей"). Никто не решался сказать еще не оправившемуся от болезни поэту о
смерти друга. Знали, как больно ранит его эта весть — ведь ему нужна была
"вся его сила, чтобы не рухнуть" (из "Анналов", запись под
рубрикой "1805 год"). Только на другое утро Гёте, накануне заметивший
у себя в доме какую-то суматоху, узнал от Кристианы страшную правду. Он
спросил: "Не правда ли, Шиллеру было вчера очень худо?" — он сделал
такое настойчивое ударение на слове "очень", что потрясенная этим
Кристиана не сдержала своих чувств. Вместо ответа она громко разрыдалась.
"Он умер?" — твердо спросил Гёте. "Вы сами сказали!" —
ответила она. "Он умер", — снова повторил Гёте и, отвернувшись,
закрыл глаза руками. Он сидел и молча плакал".
Так поведал нам об
этом Генрих Фосс, сын знаменитого поэта Иоганна Генриха Фосса, с прошлого года
часто посещавший дом Гёте. Ример, например, мог лишь сказать, что Гёте
замкнулся в своем горе и никого к себе не допускал: "Свидетелей тому не
было" (из "Сообщений о Гёте"). Гёте размышлял над тем, как
наилучшим образом публично почтить память покойного друга. Одно время он мечтал
завершить
336
"Димитрия":
поставить эту пьесу "одновременно во всех театрах" — вот это было бы
"самой великолепной панихидой, которую Шиллер устроил бы сам себе и
которую высоко оценили бы его друзья" ("Анналы",
Да, он был наш! Пусть гордость перебьет
И заглушит напев тоски сердечной!
Он мог средь нас от бурь и непогод
Укрыться в мирной гавани беспечно.
Но дух его могучий шел вперед,
Где красота, добро и правда вечны;
За ним обманом призрачным лежало
То пошлое, что души нам связало.
(Перевод С. Соловьева — 1, 268)
Однако стихотворение,
посвященное памяти Шиллера,
появилось много позже. Шиллера похоронили на старом кладбище при церкви св.
Якова, в общей могиле для знатных людей, не имевших собственного фамильного
погребального склепа. Над этой общей могилой высилось небольшое прямоугольное
строение, под которым и помещали один на другом гробы — и время от времени
приходилось строение расчищать. В 1826 году захоронение решили упразднить. В
беспорядочной груде гробовых обломков и скелетов всячески пытались, сверяясь с
портретами и посмертной маской Шиллера, отыскать череп поэта, чтобы сохранить
его для потомства. И когда посчитали, что нашли его, то 17 сентября 1826 года
череп положили на хранение в тумбу шиллеровского бюста работы Даннекера в
библиотеке. Однако Гёте хотелось спасти для потомства также и кости Шиллера.
Кости же определялись по черепу, вследствие чего череп Шиллера начиная с 24
сентября некоторое время хранился в доме Гёте. В эти дни и было создано —
написанное терцинами — стихотворение: "Стоял я в строгом склепе, созерцая,
/ Как черепа разложены в порядке", в заключение которого мы читаем гётевское
признание:
337
Того из всех счастливым назову я,
Пред кем природа-бог разоблачает,
Как, плавя прах и в дух преобразуя,
Она созданье духа сохраняет.
В
"природе-боге", в необъятном космосе, как и в отдельном человеке, открывается
и должна открываться нам идея целого, которая сосредоточена в духе, излучается
им и воплощается в сотворенном. Так утешение, даже ощущение счастья посещают
поэта, созерцающего череп человека, всей своей жизнью и творчеством доказавшего
власть духовности. Даже последние телесные останки говорят о полноте жизни
природы-бога, природы, где постоянно действует принцип нарастания:
Как я пленялся формою природы,
Где мысли след божественный оставлен?
Я видел моря мчащиеся воды,
В чьих струях ряд все высших видов явлен.
Святой сосуд — оракула реченья! —
Я ль заслужил, чтоб ты был мне доставлен?
Сокровище украв из заточенья
Могильного, я обращусь, ликуя,
Туда, где свет, свобода и движенье.
(Перевод С. Соловьева — 1, 463—464)
Среди "Максим и
рефлексий" есть две, перекликающиеся с идеей этого стихотворения:
"Весьма странно, что от человеческого существа остаются противоположные
элементы: вместилище и остов, коими здесь на земле довольствовался дух, но
также и духовные деяния, в слове и в деле исходившие от него". И еще:
"Размышляя о моей смерти, я не смею, не могу думать о том, какое творение
разрушается".
Спустя год останки
Шиллера были захоронены в княжеской усыпальнице.
Цельтер — друг в старости
В стихотворение 1826
года, написанное терцинами, Гёте вложил свои поздние утешительные идеи. Однако
двумя десятилетиями раньше — после смерти Шиллера — он долго не мог прийти в
себя. В мае 1805 года
338
здоровье его снова
пошатнулось. "Силы его подорваны, — понимающе говорил Август Вульпиус и
одновременно с изумлением сообщал свое открытие человеческой природы: —
Странные люди здесь! Можно подумать, будто среди них никогда и не жил поэт
Шиллер! И с Гердером ведь было то же самое" (из письма к Н. Мейеру от 20
мая
Годами мучило его
прежде одиночество и не покидало чувство потерянности, затем десять лет подряд
тесная дружба с соратником в делах литературы и искусства дарила ему силу и
вдохновляла на новые творческие свершения. А сейчас на душе была одна лишь
пустота, и он не смел задумываться о сколько-нибудь отдаленном будущем.
Оставалось и вело дальше по жизненной дороге одно — насущное, столь часто не по
достоинству ценимое, требование дня. "Я думал, что потеряю самого себя, а
потерял друга, и с ним — половину моего бытия. Собственно говоря, мне следовало
бы начать новую жизнь, но в мои лета это уже невозможно. Так, стало быть, я и
не заглядываю дальше ближайшего дня и делаю лишь всякое дело, какое
непосредственно подступает ко мне, нисколько не думая о дальнейшем" — так
писал Гёте 1 июня 1805 года Карлу Фридриху Цельтеру в Берлин.
Счастливый случай
сблизил поэта с этим человеком. Жена берлинского издателя Унгера в мае 1796
года по просьбе Цельтера послала Гёте цельтеровские "Двенадцать песен для
исполнения под аккомпанемент рояля", среди которых были также и стихи из
"Годов учения Вильгельма Мейстера", положенные композитором на
музыку.
Гёте очень
понравились цельтеровские мелодии, хоть он и считал, что не компетентен судить
о музыке ввиду отсутствия специальных познаний в этой области. В письме к Ф. X. Унгер 13 июня 1796 года он выразил желание
познакомиться с Цельтером, чтобы о многом потолковать с ним при личной встрече.
А мелодия песни "Все в мыслях ты..." так восхитила поэта, что он
сделал, о чем уже упоминалось выше, переложение положенного Цельтером на музыку
стихотворного текста поэтессы Фридерики Брун — блестящую композицию, известную
под названием "Близость любимого".
Карл Фридрих Цельтер
родился 11 декабря 1758 года в семье ремесленника-строителя и сам учился
ремеслу каменщика. В 1783 году он получил звание
339
мастера и в
значительной мере перенял отцовское дело. Для удовлетворения его страсти к
музыке времени оставалось мало. В 1786 году была публично исполнена его траурная
кантата на смерть прусского короля Фридриха II. После этого Цельтер уже не мог дольше
противиться своей склонности к композиторскому искусству, да и к музыке как
таковой. В 1800 году он стал преемником своего учителя Карла Фаша на посту
художественного руководителя "певческой академии" — основанного в
1790 году любительского хорового общества — и с той поры сделался центральной
фигурой берлинской музыкальной жизни. Подобно Гёте, и он тоже не отказывался от
официальных административных функций. В тяжелый 1806 год, когда Наполеон,
разгромив Пруссию, занял Берлин, он стал членом городского муниципалитета. Сам
он очутился в то время в труднейшем положении: умерла его жена, и ему пришлось
отныне одному нести заботу о нескольких детях. В 1807 году "певческая
академия" возобновила работу и устроила концерт-бенефис в пользу своего
руководителя. Цельтер расширил свою музыкально-педагогическую деятельность,
основал оркестр из профессиональных музыкантов и любителей, давал концерты
совместно с "певческой академией", насчитывавшей уже 170 участников,
а в 1808 году издал песенник для мужских хоров. Наконец, в 1809 году он стал
профессором музыки при Берлинской академии, отныне на твердом окладе, однако
при всем том он вплоть до 1812 года не оставлял своего унаследованного
ремесленного предприятия.
Добросовестность,
как и целиком обращенная к реальности жизненная энергия Цельтера, в большой
мере способствовали укреплению симпатии, которой преисполнился к нему Гёте, и
возникновению дружбы, длившейся до конца жизни. В лице этого берлинского
мастера строительного дела, композитора и профессора музыки он обрел друга в
старости, с которым мог беседовать решительно обо всем, что его волновало: от
главных вопросов человеческого бытия до занятных сплетен; недаром он писал Цельтеру
11 марта 1816 года: "Ты, должно быть, прав, достойнейший друг,
беспрерывная переписка невозможна, если в ней нет места сплетням".
Разумеется, неизменной темой переписки служили проблемы искусства, музыки, и не
было недостатка в поводах для обсуждения вопроса об отношении к современности и
к молодому
340
поколению
современников. Если сравнить обширную переписку Гёте с Цельтером — причем из
850 писем, ее составляющих, примерно две трети принадлежат перу композитора — с
перепиской Гёте и Шиллера, то в первой невольно впечатляет несравненно большее
разнообразие затронутых тем. Вопросы искусства не занимают в ней
главенствующего места, и в целом в ней ощущается большая свобода, широта,
непосредственность. В переписке с Шиллером Гёте неизменно должен был ожидать
строгих теоретических умозаключений, выводов философского толка. Цельтер тоже
нередко высказывался о музыкальной теории и практике, о театре и зрителях, о
текущих событиях и о мировоззренческих вопросах, но всегда страницы переписки
пестрели меткими зарисовками жизни обоих друзей, как и явлений окружающего
мира, и сплошь и рядом зарисовки эти отличались поистине эпической
обстоятельностью. Оттого-то в письмах порой и попадались также признания и
замечания — плод наблюдений поздних лет, сделанных походя, непринужденно, без
какой-либо последовательной системы и связи. Именно взаимная доверительная
откровенность корреспондентов придавала переписке широкий диапазон охвата и
свободную безыскусственность.
Дружба с Гёте ни с
чем не сравнимым образом обогащала жизнь Цельтера и значила для него бесконечно
много, композитор без ложного стыда восторженно славил ее. "Сладчайший
друг мой и Мастер! Возлюбленный брат мой! Как еще назвать мне того, чье имя не
сходит с моих уст, чей образ запечатлен во всем, что я люблю и почитаю!"
(из письма от 24 декабря
Цельтер пережил Гёте
всего на каких-нибудь два месяца; он умер 15 мая 1832 года.
Творческое возрождение
Глубокую цезуру
прорезала в жизни Гёте смерть Шиллера. И Гёте всякий раз изумлялся, когда после
той страшной потери ему вдруг случалось вновь воспрянуть духом и вернуться к
творчеству. Вместе с тем утратили свое значение также и попытки теорети-
341
ческого осмысления
поэзии и искусства, нередко ограниченные догматической приверженностью к нормам
классицизма. Казалось, теперь, когда кончина друга в сознании Гёте словно бы
обозначила конец определенного отрезка жизненного пути, поэт обрел большую
готовность к новым метаморфозам — если вообще еще можно было ждать таковых.
Оптимистического воодушевления он давно уже не ощущал. Еще в 1798 году в письме
к Ф. фон Штейну от 21 декабря 1798 года он заметил: "Жизненный итог,
который подводишь в старости, собственно говоря, никогда не бывает
приятным". А в 1805 году он был убежден, что как поэт уже иссяк.
Впоследствии в "Анналах" он завершил обзор 1805 года рассказом об
августовской поездке в Магдебург, Гельмштедт, а также в Гарц, где он в третий
раз прошел вверх по течению реки Боде. И тут он вновь осознал, "что ничто
так не побуждает нас задуматься о жизни, как случай, когда мы после долгого
перерыва наконец вновь можем лицезреть значительные объекты, в особенности
яркие, характерные сцены природы, и сравниваем наши прежние впечатления с
новыми. Объект выявляется все четче и как таковой требует внимательного
наблюдения, тогда как в прежние годы, пребывая лицом к лицу с объектом, мы
ощущали лишь самих себя и на объект переносили "радость" и
"страданье", "веселость и замешательство". Теперь же,
однако, когда мы "укротили свое я", нам дано увидеть отличительные
черты и особенности объектов, в той мере, в какой мы способны их уловить и
несравненно глубже оценить. Взгляд художника дарит нам первый вид созерцания,
второй же вид под стать исследователю природы, и я, хоть и не без страданий, в
конце концов все же должен был почесть себя счастливым, потому что, мало-помалу
теряя первый взгляд, в то же время замечал, что в зрении и в сознании моем
крепнет взгляд второй".
А это могло бы
способствовать стабилизации внутреннего мира поэта, который считал, что
навсегда покончил с поэтическим творчеством, и человека, измученного болезнью и
глубочайшим образом потрясенного смертью сподвижника последнего десятилетия
своей жизни. Мы знаем, однако, что будущее опровергло этот само диагноз: поэту,
в силу "многообразия его художественной мощи", восславленному в статье
Фридриха Шлегеля, который сравнивал его с Протеем, морским богом, способным к
бесконечным превращениям, — этому поэту предстояла еще не одна метамор-
342
фоза. Правда, сейчас
он с особенной энергией взялся за разработку своего учения о цвете. И все же к
апрелю 1806 года он закончил первую часть "Фауста". Конечно, в данном
случае Гёте завершил лишь давний литературный замысел, но все же это было
истинно поэтическое творчество, какое он уже полагал для себя невозможным.
Пожалуй, это был
наиболее благоприятный момент для восприятия "старинных немецких
песен", собранных Ахимом фон Арнимом и Клеменсом Брентано, первый том
которого вышел осенью 1805 года. Уже в январе 1806 года Гёте опубликовал
рецензию на "Волшебный рог мальчика" в "Йенаер альгемайне
литератур-цайтунг". Этой рецензией поэт словно "представил"
книгу публике, кратко охарактеризовав как содержание ее, так и значение.
Краткие оценки отдельных песен сборника завершились общим рассуждением о поэзии
этого рода. "Народные песни", объяснял Гёте, называются так не
потому, что слагались народом, а потому, что они «имеют в себе нечто почвенное
и мощное, легко усваиваемое и культивируемое наиболее здоровой и сильной частью
нации, способной к их восприятию. И в этих стихотворениях, какими бы простыми,
безыскусственными они ни казались, живет истинно поэтический гений: "он
владеет высшей, внутренней формой, а ей в конце концов подчиняется все"»
(10, 302). "Книжечка эта по праву должна находиться в каждом доме, где
обитают живые люди, на окне или под зеркалом — словом, в тех местах, куда
обычно кладут псалтырь и поваренные книги, так, чтобы ее можно было раскрыть в
любую минуту хорошего или дурного настроения, всегда находя в ней что-нибудь
созвучное или волнующее, хотя бы для этого и понадобилось перелистать страницу-другую"
(10, 300).
Рецензия на
"Волшебный рог мальчика" относится к числу выступлений в пользу
"природных поэтов", от которых Гёте ждал необходимого обогащения
национальной литературы, чтобы она не зачахла в артистической самоуспокоенности
и не воспринималась одним лишь интеллигентным верхним слоем. Правда, эта
агитация в пользу народной поэзии плохо сочеталась с его теоретическими
наставлениями в сфере искусства, определявшимися классицистическими
требованиями, — все же прямого противоречия между тем и другим не было. В кухне
отечественной культуры, полагал рецензент, пригодились бы оба блюда. А в
343
критический оборот
он брал литературу (не называя в большинстве случаев имен ее представителей),
которую считал равно далекой от обоих полюсов. Так, Гёте дружелюбно
рецензировал "Алеманские стихотворения" Гебеля, "Стихотворения
на нюрнбергском диалекте" Грюбеля. Понравились ему и некоторые другие
авторы, чьи имена стали известны нам исключительно благодаря рецензиям Гёте:
Готлиб Хиллер ("Стихотворения и автобиография"), Антон Фюрнштайн
("Немецкий природный писатель"), Август Хаген ("Олфрид и
Лизена"), Иоган Георг Даниэль Арнольд ("Троицын день"). Всюду он
неизменно одобрял "живое поэтическое восприятие ограниченного
состояния" (10, 302). Нигде, однако, не найдем мы у него упоминаний о
некоей бессознательно творящей поэзию народной душе, какую признавали и
почитали романтики. Такого рода представлениями, таящими в себе опасность
окружения творческого поэтического акта мистической пеленой, Гёте никогда не отдавал
дани. В то же время ему хотелось, чтобы составители сборника "Волшебный
рог", которым он так пылко аплодировал, занялись также собиранием песен
других народов.
"Фауст".
Первая часть трагедии
13 апреля 1806 года Гёте
записал в своем дневнике: «Закончил первую часть "Фауста"». Этим он
как бы исполнил еще одно пожелание Шиллера. Ведь друг неутомимо настаивал на
том, чтобы Гёте вернулся к своему творению, до той поры существовавшему лишь во
фрагментах, и завершил его. "Гёте предстоит еще много поработать над
"Фаустом", прежде чем он его допишет. Я часто тороплю его с
окончанием" (Шиллер, 7, 514), — сообщал автор "Разбойников"
издателю Котте еще 16 декабря 1798 года. К выходу в свет своего первого
собрания сочинений в издательстве Гёшена (1787—1790) Гёте не успел завершить
"Фауста". И все же в седьмом томе этого собрания, вышедшем в 1790
году, он опубликовал фрагмент "Фауста" — это была первая публикация
сцен из стихотворной драмы, над которой поэт работал с начала 70-х годов. В
настоящее время мы располагаем текстами, относящимися к этому раннему периоду
работы над "Фаустом". Приехав в Веймар в 1775 году, Гёте привез
344
их с собой и
временами читал из них вслух знакомым. Фрейлина веймарского двора фон Гёхгаузен
сделала список с рукописи, которую поэт, очевидно во время дальнейшей работы
над "Фаустом", уничтожил. В архиве Луизы фон Гёхгаузен германист Эрих
Шмит много лет спустя и обнаружил этот список, лишенный какого-либо заголовка,
и начиная с 1887 года в состав издаваемых сочинений Гёте уже можно было
включать и "Пра-Фауста", как принято обозначать этот текст. В 1808
году в восьмом томе нового собрания гётевских сочинений (выходившего в
издательстве Котты в 1806—1808 гг.) наконец увидело свет произведение под
названием "Фауст. Трагедия". Это была завершенная поэтом первая часть
драмы о Фаусте в редакции, разрешенной автором к печати и с тех пор считавшейся
окончательной.
Лишь спустя двадцать
лет, в период между 1825 и 1831 годами, Гёте закончил вторую часть
"Фауста", хотя уже к 1800 году он написал часть акта, посвященного
Елене Прекрасной. Однако вторую часть "Фауста" поэт не пожелал
публиковать при жизни. Запечатав рукопись, он поручил ее дальнейшую судьбу
доверенным лицам, на которых возложил заботу о своем наследии. И в 1832 году
Эккерман и Ример издали вторую часть "Фауста", включив ее в первый
том "Литературного наследия" Гёте.
По всей вероятности,
Гёте начал работу над сочинением о легендарном Фаусте, кудеснике и ученом муже XV—XVI веков, еще в 1772—1773
годах. Об этом известно из рассказов знакомых. Так, например, Генрих Кристиан
Бойе 15 октября 1774 года записал в своем дневнике, что провел с Гёте весь день
без всяких помех и тот многое прочитал ему, "как завершенное, так и
фрагменты, и во всем есть оригинальность тона, своя сила... Его "Доктор
Фауст" почти закончен, и из всего написанного им представляется мне самым
великим и оригинальным".
Многим известна
история Фауста и легенда о нем. Исторический Фауст, которого, видимо, звали
Георгом, родился в 1480 году в Книтлингене (Вюртемберг), а умер в Штауфере
(Брайсгау) не то в 1536, не то в 1539 году. Он рано привлек к себе внимание
магическими трюками, занимался знахарством, учительствовал, составлял
гороскопы, вел беспорядочный образ жизни, был выдворен из Нюрнберга и
Ингольштадта и в век Лютера, Гуттена и Парацельса неожиданно, будто призрак,
возникал то тут, то там. Еще при жизни ста-
345
ли роиться легенды
вокруг этой странной личности, притаившейся во мгле истории. В предании о докторе
Фаусте он уже звался Иоганном, и вполне возможно, что сюжетная ткань легенды
обогащалась за счет более давних "колдовских" преданий. Во второй
трети XVI века история жизни и деяний Фауста была
записана; впечатляющей представлялась книга "История о докторе Иоганне
Фаусте, знаменитом чародее и чернокнижнике", выпущенная в 1587 году
франкфуртским книгоиздателем Шписом. В книгу эту вошли факты и выдумки, шванки
и рассказы о колдовских проделках, размышления о небесах и об аде, как и
суровые назидания. Фауст-де заключил договор с дьяволом потому, что иным путем
не мог добиться осуществления своей цели — "постигнуть все глубины
неба" 1. Фауст вступает в
обстоятельный диспут с дьяволом, потому что хочет знать, что же движет миром и
на чем держится этот мир. При дворе императора он колдовством вызывает образы
древних, а студентам показывает греческую Елену, с которой впоследствии
вступает в связь. В конце жизни он раскаивается в своих грехах. Однако в
предостережение читателям, дабы уберечь их от безудержной любознательности и не
дать преступить границы дозволенного познания, в книге происходит то, что
должно было произойти: Фауста забирает дьявол. Рассказчик, суровый лютеранин,
стремится внушить своим читателям: нельзя слишком далеко простирать свои
устремления, грешно стремиться постичь все, что дано знать одному лишь богу.
"Будьте покорны Господу, противоборствуйте дьяволу, и он бежит от
вас", — гласит предостерегающий эпиграф под заглавием книги.
Этим, однако, не
исчерпывается проблематика, заключенная в легенде о Фаусте. Ведь все
рассказанные истории, колдовские проделки и шванки, по сути, обыгрывают
один-единственный вопрос — о дозволенных границах человеческого познания.
Предаваться колдовству, заключать союз с дьяволом — это, разумеется, человеку
запрещено. Но если рассматривать все фантастические приключения в этой книге,
включая колдовские эпизоды, как символ человеческого стремления к знанию,
опрокидывающего все границы и запреты, тогда нам откроется в ткани книги о
Фаусте
1 Здесь и далее народная книга о Фаусте цитируется по изданию: Легенда о докторе Фаусте. Второе, исправленное издание. М., Наука, 1978, с. 35—119. — Прим. ред.
346
проблема, в
одинаковой мере злободневная и для современного человечества: до каких пределов
допустимо проникновение человеческого ума и его вмешательство в дела природы и
какими средствами воспрепятствовать перерождению жажды познания в
бесчеловечность?
Книги о Фаусте,
похищенном дьяволом, усердно читались. Имели хождение разные варианты легенды —
в частности, книга неизвестного автора "Христианское вероучение
исповедующего" (опубликована в
К этому прибавились
и другие факты. 14 января 1772 года во Франкфурте была казнена Зузанна
Маргарета Брандт, 24 лет, незамужняя, за убийство своего ребенка. Зузанна была
служанкой; забеременев, она нашла единственный выход — убить новорожденного.
Это был далеко не единственный случай. Молодые женщины,
"обесчещенные" в глазах сограждан и не знавшие, как прокормить своего
внебрачного ребенка, сплошь и рядом не находили иного выхода из положения и
всякий раз при этом надеялись сохранить происшествие в тайне. Отчаянное
положение этих несчастных сделалось темой пьес, создаваемых молодым поколением
писателей "Бури и натиска". Разумеется, любовницы какого-нибудь Карла
Августа не попадали в такую ситуацию. Гёте же был знаком с
347
протоколами
франкфуртского судебного процесса, возможно, даже присутствовал на заседании
суда в те дни, когда, получив звание лиценциата права, возвратился в свой
родной город из Страсбурга. Это и был материал, в дальнейшем послуживший поэту
для создания образа Гретхен в трагедии "Фауст".
"Пра-Фауст"
состоит из отдельных сцен, на основе которых еще нельзя судить о всей драме в
целом, написанной много позже. Все же мы уже обнаруживаем в нем крупный
вступительный монолог "Фауста": "Я богословьем овладел, / Над
философией корпел, / Юриспруденцию долбил / И медицину изучил" (2,
21) 1. Этот монолог вводит нас в
ход действия, которое начинается тщетными попытками Фауста, то созерцающего
знак макрокосма, то призывающего земного духа вырваться из тесных стен своего
существования. Находим мы в "Пра-Фаусте" и последующий диалог с
Вагнером, и в заключение — насмешливые строки Фауста, иронизирующего над
типичным школяром-обывателем:
Охота надрываться чудаку!
Он клада ищет жадными руками
И, как находке, рад, копаясь в хламе,
Любому дождевому червяку.
(2, 28—29)
Далее беседа
Мефистофеля со студентом представляет собой едкую сатиру на студенческую жизнь
и университетские будни. За этим следует веселая и буйная сцена в погребе
Ауэрбаха в Лейпциге, написанная по преимуществу в прозе. В значительной мере
разработана также и трагическая линия Гретхен, которая начинается сразу же с
предложения Фауста на улице: "Рад милой барышне служить. / Нельзя ли мне
вас проводить?" (2, 98) 2 —
и завершается гибелью соблазненной девушки в тюрьме; не было лишь еще реплики
голоса свыше: "Спасена!"
Конечно, наброски
"Пра-Фауста", эти эскизы, выполненные рукой юного адепта "Бури и
натиска" в его обычной стремительной манере, игнорирующей какие бы то ни
было правила или строгую последова-
1 Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, "Фауст" цитируется в переводе Б. Пастернака. — Прим. ред.
2 В процитированных случаях текстуальные различия немецких текстов "Пра-Фауста" и "Фауста" для русского перевода несущественны. — Прим. ред.
348
тельность эпизодов,
и сами по себе представляют безусловную ценность и впечатляют, но все же по ним
еще нельзя увидеть, каким образом они могли быть соединены в единую драму. В то
же время уже рельефно вырисовывалась трагедия ученого, который сомневается в
пределах своих знаний и вызывает земного духа, чтобы самому приобщиться к
мировому творческому процессу. Мефистофель же просто присутствует здесь как
партнер и как антагонист Фауста, но автор еще не представляет его читателю в
отдельной сцене и не очерчивает досконально его функций.
Фрагмент
"Фауста" в редакции 1790 года, помимо отдельных поправок, добавляет к
"Пра-Фаусту" три новые сцены. Первая сцена начинается со слов Фауста,
произнесенных в разговоре с Мефистофелем, после завершения диалога Фауста с
Вагнером, из которого выше уже цитировалось ироническое замечание.
Я сын земли. Отрады и кручины
Испытываю я на ней единой.
В тот горький час, как я ее покину,
Мне все равно, хоть не расти трава.
(2, 60)
Чудаковатый ученый с
его притязаниями, взрывающими пределы человеческого познания, в этих словах уже
предстает перед нами как своеобразный эмиссар всего человечества. Такой поворот
отвечает стремлению Гёте со времени путешествия в Италию неизменно видеть в
частном общее, а в индивидуальном — типическое. Но в то же время приведенные
выше строки служат мотивацией странствий Фауста по свету, взлетов его и
падений. Однако ненасытный гётевский герой здесь уже знает, что его вожделениям
предуготована гибель, и тут возникает основополагающий вопрос о том, как
оценивать устремления Фауста. Включенная в них готовность к гибели, как бы ни
завораживал нас нетерпеливый натиск героя, не может, разумеется, рассматриваться
лишь как покорное смирение с неизбежной своей обреченностью.
Во второй сцене
"Фрагмента" — "Кухне ведьмы" — Фауст при фантастических
обстоятельствах претерпевает омоложение, чтобы стать любовником красавицы и
полностью изведать "счастье и муку" любви. И сразу же он видит в
зеркале "облик неземной" самой прекрасной в мире женщины — Елены.
Третья новая сценка называется "Лесная пещера" и непосредствен-
349
но предшествует
монологу Гретхен на городском валу: К молящей / Свой лик скорбящий / Склони в
неизреченной доброте" (2, 139). Здесь перед нами снова монолог Фауста:
"И я то жажду встречи, то томлюсь тоскою по пропавшему желанью" (2,
126). Так, осознав свое беспокойство, Фауст достигает успокоения, блаженного
состояния слияния человека с природой, и притом в предуказанных границах.
Однако Мефистофель гонит его дальше, гонит назад к Гретхен и вновь будит в нем
"чувственный ураган", вожделение к прекрасному телу девушки.
Завершенная поэтом
первая часть "Фауста" была, как известно, опубликована в 1808 году, и
в ней Гёте уже соединил отдельные разрозненные сцены в единую пьесу. Правда,
нельзя сказать, что все части тщательно соотнесены и пригнаны друг к другу, так
же как и трудно утверждать, будто все, что происходит и говорится в пьесе,
мотивировано достаточно однозначно и убедительно. Как таковая, первая часть
остается неизменным вызовом для толкователей, могущих предлагать все новые и
новые анализы и интерпретации. Но с другой стороны, где сказано, что
художественное произведение не может быть насыщено частями, обладающими
самостоятельной жизнью и потому заслуживающими специфического внимания, без
оглядки на целое? Что за страсть у всех этих толкователей с помощью
пространнейших доказательств, сплошь и рядом — преодолевая сопротивление самого
текста, непременно доказывать единство того или иного произведения? Почему бы
не признать элемент случайности в многогранной свободе творческого вымысла?
Забавно наблюдать, как, завороженные идеей целостности художественного
произведения, толкователи старались встретившееся им, к примеру, в гётевском
романе "Годы странствий Вильгельма Мейстера" многообразие непременно
привести к формуле единства, хотя бы идейного. Ведь в противном случае они не
могли бы признать за этим романом главного обязательного качества — завершенности,
да и романом не могли бы его назвать. Очевидно, однако, что Гёте, создавая свой
роман, нисколько не помышлял о единстве. То же можно сказать и о другом
гигантском его творении — "Фаусте". Хотя Гёте в учебной программе
"Пропилей", как и в объявленных им конкурсах, и впрямь стремился
внушить мастерам изобразительных искусств принцип целостности, сам он меньше
всего считался с этим требованием
350
в собственном
творчестве. Ссылка на "внутреннее единство", в сущности, представляет
собой лишь вспомогательный аргумент, поскольку с его помощью под
"целостность" подверстывается все, что истинный творческий импульс
художника сочетает в одном и том же произведении искусства. Подобный творческий
метод предполагает избыток самодовлеющих деталей, выбивающихся из старого
каркаса произведения, в лучшем случае как-то связанных со сложной общей идеей
художника и его творения, которая не должна быть скована непременным
"созвучием" всего воплощенного в произведении. "В такой книжице,
как "Годы странствий", дело обстоит в точности так же, как и в жизни:
в совокупности целого встречается необходимое и случайное; то, что лежит на
поверхности, и то, что присовокупляется к главному; одно удается, другое
рушится на глазах, отчего вещь обретает своего рода нескончаемость, которую
нельзя ни охватить, ни выразить в четких, разумных словах", — писал Гёте
23 ноября 1829 года Й. Ф. Рохлицу, а надо сказать, что эти замечания применимы
не только к "Годам странствий".
В 1797 году сам поэт
подчеркивал, что работа над "Фаустом", которую он возобновил в его
"теперешнем беспокойном состоянии" (накануне третьей поездки в
Швейцарию), — "субъективна" и к тому же почти не связана с прочими
его увлечениями той поры, а именно разработкой непреложных принципов искусства.
"Наши занятия балладами снова привели меня на этот призрачный и туманный
путь" (XIII,
135—136), — писал он Шиллеру 22 июня 1797 года. Шиллер же, четко осознавший
проблему, связанную с фрагментарностью уже имеющихся сцен "Фауста",
указывал, что "требования, которые можно предъявить к "Фаусту",
являются одновременно философскими и поэтическими" и "воображение
должно будет приспособиться к служению разуму" (из письма к Гёте от 23
июня
Чтобы прояснить всю
совокупность основных идей, которым он задумал подчинить как все устремления
Фауста, так и происки Мефистофеля, Гёте придумал "Пролог на небе",
где господь бог и Мефистофель дискутируют об игре, затеваемой с Фаустом и
вокруг Фауста, как и о заключенном в ней смысле. Тем самым все последующее, что
совершает Фауст и что совершается с ним, разыгрывается словно бы на сцене,
перед очами самого господа бога. Драма обретает черты мис-
351
терии, театром же
служит ей вся вселенная. Высокий зритель, он же высший судия, неизменно присутствует
при развитии действия, хотя впоследствии в процессе развертывания сюжета
присутствие это почти никак не проявляется. На глазах у зрителя свершает свой
круг человеческая судьба в ожидании того, когда же высший судья вынесет ей
приговор. В этом смысле публикацию 1808 года "Фауст. Трагедия" тоже
можно рассматривать лишь как фрагмент, поскольку сюжетная рамка всего
произведения в целом закрывается лишь в эпилоге второй части
"Фауста", — рамка, открытая "Прологом на небе". Правда, в
конце первой части уже раздается "голос свыше", однако возглас
"Спасена!" относится лишь к несчастной Маргарите, тогда как Фауст, ее
соблазнитель и убийца, оставлен в бездне тяжкой вины: "Ты, Генрих, страх
внушаешь мне" (2, 180).
Однако Гёте не
удовольствовался "Прологом на небе". Он предварил "Пролог"
еще и стихотворением "Посвящение" и "Театральным
вступлением". В торжественных стансах стихотворения звучат глубоко личные
авторские мотивы — воспоминания о долгих годах работы над трагедией: "Вы
снова здесь, изменчивые тени, / Меня тревожившие с давних пор" (2, 7). За
этим следует в легкой, свободной манере написанное "Театральное
вступление", в котором директор театра, поэт и комический актер на глазах
у публики беседует о роли, задачах и возможностях театра, причем в беседе этой
четко проступают приметы времени, в котором создавалась трагедия. Гёте не
сдерживает здесь иронии и все же подает высказывания поэта в серьезном ключе,
близком к исповедальному. Противоречие между позициями директора театра и
автора, жившее в его собственной душе, он воплотил здесь в бойком диалоге
реальных персонажей.
"Пролог на
небе" разрушает иллюзию истинности всего дальнейшего, разыгрывающегося на
сцене, — это "всего лишь" театральное представление. И таким образом
первая часть драмы — собственно трагедия Фауста — после "Театрального
вступления" и "Пролога" как бы отодвигается в некую отдаленную
перспективу, становясь "представлением в представлении". Кажется,
зрителю лишь надлежит четко осознать свое положение наблюдателя и не спешить
вживаться в образы персонажей трагедии. Правда, игра эта, в согласии с
максимами "Театрального вступления", ведется живо и, можно сказать,
от щедрого сердца. Пестрое чередова-
352
ние серьезных и
комических сцен, наличествовавшее уже в "Пра-Фаусте", здесь сохранено.
Элементы трагедии и комедии перемешаны, и грубый фарс в погребе Ауэрбаха
обретает свое место в той же мере, как и величественные трагические монологи
Фауста, и трогательные сцены с участием Маргариты.
Организация
произведения в форме сдвоенного представления или "представления в
представлении" подчеркивает экспериментальный характер ситуаций, через
которые проводятся персонажи — разумеется, с разрешения самого господа бога,
который наблюдает за действием одновременно со зрителями, уже отчетливо
осознающими двойную сюжетную рамку. Подобный художественный прием отмечался
нами уже раньше в главе, посвященной роману "Годы учения Вильгельма
Мейстера": автор помещает своих героев в пробные ситуации и проигрывает
эти ситуации до конца, при этом, однако, не оставляя в конце никакой
однозначной и оценивающей перспективы. Точно так же и Фауст с его
"фаустовскими устремлениями", и Маргарита с ее беспечной любовью
юного существа не какие-то безусловные образцы человеческого бытия. Доктор
Фауст ни в коей мере не олицетворяет здесь человеческое самоосуществление, как
и вся трагедия о Фаусте в целом не олицетворяет гётевского взгляда на мир и
человека. Точно так же и романы о Вильгельме Мейстере, "Избирательное
сродство", "Западно-восточный диван" и другие произведения Гёте
словно бы проверяют возможные ответы на вопрос о месте человека в мире и в
обществе, как и о мере отведенных ему возможностей. И всякий раз в произведении
проигрываются ответы, которые в их совокупности невозможно привести к единому
знаменателю. Протеевский 1
характер художественной манеры Гёте, его попыток литературного воплощения
ответов, отмечавшийся нами в его ранних и в зрелых произведениях, в
"Фаусте" полностью сохранен.
В
"Прологе" господь бог передает своего "раба" доктора Фауста
в распоряжение Мефистофеля, который волен подвергнуть его искусу на всем его
земном жизненном пути. Мефистофель предлагает господу богу пари:
"Поспоримте! Увидите воочью / У вас я сумасброда отобью, / Немного взявши
в выучку свою" (2, 17).
1 От древнегреческого морского божества Протея, которому приписывалась способность произвольно менять свой облик. — Прим. ред.
353
Господь бог спокойно
и величественно дает Мефистофелю на то полномочия, не соглашаясь впрямую на
пари — он не сомневается, что Мефистофель будет посрамлен и это-то и будет
расплата его за проигрыш. "Ты проиграл наверняка / Чутьем, по собственной
охоте / Он вырвется из тупика" (2, 18), — говорит он о Фаусте. Правда,
непосредственно перед этим господь бог выказывает понимание непреложной истины:
"Кто ищет — вынужден блуждать" (2, 17). Согласно желанию господа
бога, Мефистофель действует как некий желанный (для бога) подстрекатель, вечно
побуждающий человека ко все новой деятельности, потому что "из лени
человек впадает в спячку". Обращаясь к дьяволу, властитель мира
повелевает: "ступай, расшевели его застой, / Вертись пред ним, томи и
беспокой / И раздражай его своей горячкой" (2, 18). Тем самым определены
условия для экспериментального действа, в которое с самого начала включены
противоречивые моменты: блуждания, неизбежные при любом поиске, и вера в
доброго человека, который чутьем непременно обрящет праведный путь.
Было бы
легкомысленно рассматривать эту сентенцию как некое тотальное оправдание всех
поступков Фауста. Фраза эта включена в контекст спора об условиях
экспериментального действа, она показывает, на чем основываются надежды господа
бога. И лишь в конце второй части "Фауста", тоже обозначенной как
"трагедия", в сцене "горных ущелий" вершится суд над
Фаустом, уже прошедшим свой земной жизненный путь. Но не оправдание даруется
ему, а спасение души — в том странном песнопении, которое отсылает нас к
"Прологу на небе" и в гётевской рукописи особо выделено кавычками:
"Чья жизнь в стремлениях прошла, / Того спасти мы можем" (2, 434).
Необходима для этого еще и любовь: "Одна любовь с высот / Решит и
вяжет" (2, 435), — поют ангелы в той же сцене. Фауст нуждается в спасении
души и достоин его, потому что все свои деяния, как добрые, так и злые, он
всякий раз совершал как "раб" своего господина — господа бога: блуждания
и заблуждения были ему дозволены свыше — и "любовь с высот" не
отступилась от него, не предала его. И только потому, что волей автора спасение
души Фауста объявлено возможным и необходимым, сцена "горных ущелий"
на удивление читателю столь щедро насыщена элементами христианско-католической
мифологии. Назначение ее одно: в образных картинах и высказываниях раскрыть
смысл всего дей-
354
ства, всем
хитросплетениям вопреки, а также наглядно воплотить возможность спасения. В
споре бога с Мефистофелем нет победителей: дьявол не выиграл сделку,
заключенную с Фаустом, ведь Фауст "в успокоенье" не прислушивался
"к лести восхвалений", предаваясь "лени или сну", и не
вскричал: "Мгновение, повремени!" Но, с другой стороны, он ведь и не
всегда сознавал, где находится праведный путь. Тут уж надежды господа бога
оказались чрезмерными. Но помиловать Фауста все же возможно.
Один-единственный
день жизни Фауста проходит от его начального ночного монолога до той минуты,
когда в сопровождении Мефистофеля он отправляется в волшебное путешествие по
свету. Здесь перед нами — сценическое воплощение трагедии ученого. Фауст
разочаровался во всех науках, будучи не в силах примириться с их
ограниченностью. Многому выучился он, да только не постиг "вселенной
внутреннюю связь". Три совершенно разных попытки предпринимает Фауст,
чтобы взорвать пределы познания, которые приводят его в исступленье. Сначала он
отдает дань магии в согласии со сложившимся в сознании публики традиционным
образом Фауста. Обращение к магии в те времена отнюдь не было столь необычным
делом, как это может показаться сейчас. Ведь даже и сам Гёте в дни своей
молодости во Франкфурте, под влиянием так называемого герметизма, занимался
алхимическо-магическими опытами. И он, и другие, подобно ему, надеялись этим
путем постичь движущие силы мироздания, единую связь всех явлений вселенной.
Хотя все правоверные христианские вероучения и отвергали магию, тем не менее в
некоторых кружках общества никак не хотели от нее отступиться — под гипнозом
идей спекулятивной философии об излучении божественного через все сущее, как и
о существовании некой единой цепи, связывающей материю с духами. В одной из
книг по магии Фауст отыскивает знак макрокосма — символ великого целого, и на
миг ему представляется, будто он видит, "в каком порядке и согласье / Идет
в пространствах ход работ" (2, 23). Но тут же он осознает, что перед ним
всего лишь условный знак, сам же он по-прежнему остается в стороне от
"ключей бездонных" природы. Тогда Фауст призывает земного духа,
придуманного Гёте как некое олицетворение "деяний бури" и
"житейских волн". Но и тут героя ждет жестокий провал — дух земли
отталкивает Фауста: "ты в страхе вьешься, как червяк" (2,
355
25), — насмешливо
бросает он ему и исчезает — так легко не станешь частицей великой животворящей
природы, ее созидательных жизненных сил. И теперь, полагает ученый, ему
остается одно: отрешиться от своего бытия, от жизни, покончить с собой и
самоубийством этим преодолеть преграду, отторгающую его от вселенной, с которой
он жаждет слиться целиком. Он уже готов выпить яд, но в последнюю минуту его
удерживает от самоубийства пасхальный колокольный звон. Он вспоминает детство,
юность, "все, что чисто и светло", и вновь готов вернуться в этот мир
с его несравненно более скромными посулами: "Я возвращен земле.
Благодаренье / За это вам, святые песнопенья!" (2, 3).
Однако прогулка в
пасхальное воскресенье остается лишь своего рода интермеццо в ходе
развертывания главной сюжетной линии, и монолог Фауста завершается фразой,
призванной изобразить несуществующее умиротворение: "Как человек я с ними
весь: / Я вправе быть им только здесь" (2, 38). Очень скоро в герое вновь
просыпается чувство неудовлетворенности, и Фауст приводит к себе пуделя, под
личиной которого скрывается Мефистофель, и заклинаниями обуздывает его. А
Мефистофель уже нашел доктора, отданного господом богом под его опеку, чтобы
нечистый подверг его искусу земных соблазнов. Фауст принимает водительство
дьявола: потерпев крах в своих попытках взорвать границы познания, он в
буквальном смысле слова отдает себя во власть дьявольской магии. Если белой
магией занимались в ту пору также и многие уважаемые ученые, то черная магия
уже прямо связывалась с происками черта. До чего же доведет Фауста его решение,
будет видно когда завершится эксперимент.
До сих пор Фауст
представал перед читателем как человек мечущийся и мятежный. Нигде не находит
он покоя, ничем не удовлетворяется, не привязывается к тому, что ему доступно,
мечется от одной крайности к другой: то кажется себе червяком, униженным,
раздавленным, то мнит себя чем-то вроде херувима. Но по-прежнему его метания
осенены успокоительным высказыванием господа бога о том, что добрый человек
непременно "выбьется из мрака" и "чутьем, по собственной
охоте... вырвется из тупика" (2, 17— 18). Все же блуждания Фауста никак не могут
быть одобрены. И снова, как в романе "Годы учения Вильгельма
Мейстера", выясняется, что поставленный здесь
356
эксперимент еще не
являет нам истинно разумное жизненное самоосуществление — оно лишь намечено в
произведении как некий заданный идеал. Ведь крайности, в какие бросается Фауст,
не воплощают в себе этот идеал, а, напротив, уводят от него. И лишь много
позже, слишком поздно, уже в конце второй части, Фауст начинает его прозревать:
О, если бы мне магию забыть,
Заклятий больше не произносить,
О, если бы с природой наравне
Быть человеком, человеком мне!
(2, 417)
Но для всего этого
уже слишком поздно, и ничего уже нельзя исправить из того, чего желал и что
совершил с помощью дьявола Фауст, ненасытно жаждавший как знаний, так и жизненных
наслаждений. Остается открытым вопрос о том, как можно направить подобные
устремления в разумное русло. Спасение, возможность которого открывается в
эпилоге, не что иное, как своего рода божья милость. Ведь что сделано, то
сделано: смерть Гретхен, ее матери, ее брата Валентина, гибель старой четы —
Филемона и Бавкиды — не зачеркнешь, и лишь божественное прощение и забвение
вины словно бы амнистирует виновного.
Доверившись
руководству дьявола, Фауст соглашается вкусить соблазны, каким подвергает его
Мефистофель, в надежде обрести осуществление своих желаний. Мефистофель же
провозглашает "самохарактеристику" двойственного толка: он-де частица
той силы, которая всегда желает зла и всегда творит добро. Роль дьявола
достаточно ясно определена в той ранней уже упомянутой космогонии, которую Гёте
очертил в конце восьмой книги "Поэзии и правды": неделимое триединое
божество, продолжая извечный "акт воспроизведения", создало еще и
четвертое, "в котором таилось уже некое противоречие, ибо, подобно
триединому божеству, оно было безусловно, но вместе с тем в нем и содержалось,
им и ограничивалось. То был Люцифер — ему отныне была передана вся
созидательная сила, и от него впредь должно было исходить все остальное
бытие". И далее: из этой сплоченности всего сотворенного Люцифером
произошло то, "что мы понимаем под материей, все, что представляем себе
тяжелым, твердым и мрачным" (3, 296).
В этой системе
дьявол и его пособники по-прежне-
357
му подчинены господу
богу, хоть Люцифер и обрел широкое поле деятельности: он должен сотворить
материю и властвовать в мире. Правда, он забыл о своем божественном
происхождении, полагая, что сам он и есть первоисточник своего зарождения. Этот
эскиз космогонии страдает дуализмом, хоть и умеренным, коль скоро в нем
сохранена верховная власть божества. В "Прологе" к "Фаусту"
господь бог подтверждает свое главенствующее положение. Но это отнюдь не
исключает стремления сатаны, коль скоро он мнит себя первоисточником всего
сущего, укрепить свои владения и добиться признания своей власти. Мефистофеля —
дьявола из царства сатаны — Гёте щедро наделил остроумием, проницательностью и
язвительной ироничностью, с тем чтобы сценическое действие протекало весело и
забавно. Бесспорно, Мефистофель стремится умножить зло, и исход трагедии отнюдь
не доказывает, что он "всегда творит добро". Но если предположить,
что его слова соответствуют истине (а не просто ханжеская похвальба), то
возможно это лишь в диалектическом понимании — в том смысле, что зло вызывает к
жизни добро и способствует его проявлению; этот процесс, однако, уже не
укладывается в рамки действительной трагедии.
Сделка, в которую
вступает с Мефистофелем Фауст, отличается от традиционного в книгах и легендах
о Фаусте пакта с чертом. Гётевский Фауст настолько полагается на свою неутомимую
устремленность к новому, что готов отдать себя в добычу Мефистофелю в случае,
если он обретет успокоение в самодовольстве, погрязнет в тенетах наслаждений,
если он "миг отдельный" возвеличит, "вскричав: "Мгновение,
повремени!" (2, 61). Тогда пусть наступит его последний час, и черт волен
его забрать. Эта сделка составляет сюжетный фон всего дальнейшего действия
трагедии, хоть о ней больше и не будет речи. Пари разворачивается на глазах у
господа бога, как и на глазах у зрителей.
Жаждой познания
Фауст на первых порах не намерен терзаться: "Природа для меня загадка, / Я
на познанье ставлю крест. / Отныне с головой нырну / В страстей клокочущих
горнило". Он жаждет чудес, чтобы окунуться "в живую боль, в живую
негу, / в вихрь огорчений и забав", и "пусть чередуются весь век /
счастливый рок и рок несчастный" (2, 63). Так что поначалу сделка
охватывает лишь область чувственного, и лишь во второй части трагедии, когда
сделка
358
давно уже осталась в
прошлом, Фауст с помощью Мефистофеля обретает опыт и знания также и в
совершенно других областях, недоступных ему в пору его обитания в тесной келье
ученого.
В кухне ведьмы Фауст
омолаживается для любовных утех. Теперь он готов к встрече с Маргаритой.
Мефистофель выступает в роли галантного кавалера, сводника и неутомимого
подстрекателя. Трагедия Гретхен, собственно говоря, — трагедия самостоятельная
и завершенная, в которой сочетаются, в условиях созданной дьяволом ситуации, и
глубоко серьезные элементы, и комически-бурлескные. Конечно, любовь, во власть
которой отдается Гретхен, изображена поэтом как невинная и естественная,
всеохватывающая и блаженная страсть, покоряющая своим обаянием и силой чувства.
Конечно, поэт наделил свою героиню на всех ее жизненных фазах — в счастье и
отчаянье — удивительным языком, чья выразительная простота точно отражает
чувства любящих и страждущих. Конечно, только безграничная наивность девушки
предопределяет безоглядность ее чувства.
Эта самозабвенная
любовь неотвратимо вынуждает ее вступить в конфликт с распорядком крошечного
мирка, в котором она живет. Сам факт существования такой девушки — явление
более глубокой жизненной правды, чем узкие нравственные критерии окружающего ее
мещанского общества. Будучи неспособна осмыслить ситуацию, поскольку не
приучена размышлять и анализировать, Гретхен не в силах вынести этот конфликт:
она убивает своего ребенка и, брошенная и отвергнутая всеми, погружается в
мрачную бездну безысходного отчаяния. Мир, в котором она жила доселе, наивно
веря в право человека на любовь, хотя в действительности она была в нем лишь
удобным объектом для господ соблазнителей, — мир этот превратился в карикатуру.
И только голос свыше возглашает: "Спасена!", хоть Маргарите это уже и
не в помощь.
К образу Гретхен в
"Фаусте" при всем том, однако, примешиваются и кое-какие досадные
черты. Правда, ребенка она убивает под влиянием обстоятельств, которые должны
казаться ей безнадежными, но преступление есть преступление, хотя истинные
виновники — это Фауст и Мефистофель. Конечно, наивность Гретхен впечатляюще
естественна и свободна от разрушительной рефлексии, но все же наивность эта
настолько близка к тупости, что угроза для простодуш-
359
ной девушки от этого
резко возрастает: Маргарита легко поддается соблазну и даже позволяет
приворожить себя ценным подарком. Если вспомнить стихи, написанные Гёте для
сцены "Вальпургиевой ночи", не отданные им, однако, в печать, то
слова Гретхен, любующейся украшением, тайно вложенным соблазнителями в ее шкаф,
приобретают жутковатый смысл:
Что толку в красоте природной нашей,
Когда наряд наш беден и убог.
Из жалости нас хвалят в нашем званье.
Вся суть в кармане,
Все — кошелек,
А нам, простым, богатства не дал бог!
(2, 105)
На горе Блоксберг в
Вальпургиеву ночь сатана должен был, обращаясь к "козам", произнести
следующие строки:
Два дивные дара
Вам счастье дают:
Блестящее злато
И крепкий ...
О женщины! Злато
Любите сверх мер,
Но больше, чем злато,
Цените вы ... 1.
(Перевод Н. Холодковского)
Когда Фауст
готовится освободить из тюрьмы несчастную осужденную на казнь Маргариту, с ним
уже говорит женщина, утратившая свое "я" и знающая, что утратила его
отчасти по своей вине. Она считает себя павшим чудовищем:
Тебе не страшно в подземелье
С такой, как я? И неужели
Ты выпустить меня готов?
И дальше:
Усыпила я до смерти мать,
Дочь свою утопила в пруду.
Бог думал ее нам на счастье дать.
(2, 176)
1 Цитируется по книге: Аникст А. Гёте и Фауст. М., 1983, с. 164.
360
Поэт, вложивший ей в
уста эти вопросы, знал, что франкфуртская детоубийца по фамилии Брандт заявила на
дознании, будто это сатана нашептал ей, чтобы она втайне родила, а затем убила
своего ребенка. И еще ей казалось, будто ее обратили в ведьму. Возможно, Гёте
хотел вложить в вопросы несчастной девушки с уже помутившимся рассудком именно
этот смысл — недаром спросила она Фауста, понимает ли он, кого он хочет
выпустить на свободу.
Сколько бы
колдовских фокусов ни фигурировало в гётевской трагедии, Фауст живет и
осуществляет свои похождения в гуще земного бытия. И фантастические эпизоды
никак не отвлекают зрительского внимания от того факта, что речь идет здесь о
жизни человека, о его блужданиях, поисках и заблуждениях. В "Прологе"
господь бог санкционировал это действо, поскольку главенствующее положение
самого господа бога нерушимо и остается таковым на протяжении всей трагедии,
без каких-либо новых ссылок на это обстоятельство. Призрачно-ирреальная
"Вальпургиева ночь" — сцена, прерывающая развитие драмы Гретхен, —
позволяла автору шире разработать дьявольский мотив как антагонистический по
отношению к царству господа бога. Судя по всему, именно это Гёте и намеревался
сделать, как о том свидетельствуют многочисленные заготовки, не включенные
поэтом в окончательный текст трагедии.
Не так давно
Альбрехт Шёне в проницательном историко-филологическом исследовании
стихотворения "Зимнее путешествие на Гарц" 1 разъяснил, что Гёте хотел через ряд
выразительных эпизодов "Вальпургиевой ночи" сценически воплотить
пышный пир сатаны, призванный наглядно отобразить притязания сил зла на
господство в мире (хотя исследователь и сам отлично знает, что доказать замысел
поэта во всех деталях уже невозможно). По сохранившимся отрывкам текста,
которые Гёте в 1808 году отказался включить в публикацию "Фауста",
можно восстановить картину сатанинского бала на горе Блоксберг. Этот бал должен
был в точности следовать схеме ритуалов черной магии, изображенных в
соответствующих еретических и колдовских писаниях, которые Гёте, как известно,
после возобновления работы над "Фаустом" одно время тщательно изучал.
1 In: Gotterzeichen, Liebeszauber, Satanskult. Neue Einblicke in alte Goethetexte. Munchen, 1982. — Прим. ред.
361
Итак, на вершине
горы восседает на троне сатана. Участники шабаша приветствуют его непристойным
поцелуем в зад. В ходе еретической мессы сатана выступает как повелитель богопротивного
мира. За проповедью сатаны следуют пляски и сексуальные оргии, и этим
заканчивается бал властителя зла. Все это должно было разыграться на глазах у
Фауста, как видно из впечатляющего текста, реконструированного Альбрехтом Шёне
на основе сохранившихся гётевских набросков.
Гёте, однако, не мог
решиться подготовить к печати эту сцену сатанинского пира. По совету Римера он,
разумеется, нехотя занялся самоцензурой, полагая, что должен считаться с
публикой: ведь все, что он посмел высказать и записать на бумаге, для читателей
его было чем-то совершенно немыслимым, неудобопроизносимым, по крайней мере
публично. В некоторых местах он даже поставил стыдливые многоточия, хотя прежде
своей же рукой спокойно выписывал грубые слова. В сцене "Вальпургиевой ночи"
старуха говорит Мефистофелю:
Любезник с конскою ногой,
Вы — волокита продувной.
Готовьте подходящий кол,
Чтоб залечить дуплистый ствол.
(2, 159)
Очевидно, у Гёте
были основания заняться чисткой собственного текста, поскольку даже
опубликованная редакция сцены немало взбудоражила публику. Непонятно лишь (а
может, напротив, весьма показательно), что еще и сегодня издатели и
комментаторы произведений Гёте сохраняют эти стыдливые многоточия и не
объясняют читателю, что же в действительности имел в виду поэт. На фоне
совокупной структуры трагедии реконструированный гётевский замысел наглядно
показал бы, как жизнь Фауста и Маргариты в промежутке между двумя полюсами,
соответственно занятыми господом богом и сатаной, протекает в мглистой полосе,
между светом и мраком, лучезарным днем и тьмой — словом, в человеческом мире. В
нем и развертывается борьба между полюсами, с ее победами и поражениями,
счастьем и болью, взлетами и падениями. Эта концепция полярности определяла
естественнонаучные взгляды Гёте и, простираясь далеко за их пределы, на
протяжении многих лет играла существенную роль в мировоззрении поэта. В диа-
362
логе "Добрые
женщины", относящемся к 1800 году, говорится: "Свет и мрак, добро и
зло, высокое и низкое, благородное и низменное, вкупе со многими другими
противоположностями, со всей очевидностью, разве что в разных пропорциях,
составляют непременные ингредиенты человеческой натуры. Смею ли я укорить
художника, написавшего ангела белым, светлым, прекрасным, если ему вздумается
изобразить черта черным, мрачным и уродливым?"
А в 1823 году в
своих естественнонаучных заметках Гёте утверждал: "Наши условия жизни мы
приписываем то богу, то черту, и ошибаемся как в первом случае, так и во
втором: загадка в нас самих, поскольку мы — порождение двух миров".
"Полумгле",
существующей в промежутках между светом и тьмой, согласно гётевскому
"Учению о цвете", подчинен земной ход вещей. В этом мире ошибки, хоть
и свойственны человеку и к тому же сопутствуют поискам, все же не освобождают
его от ответственности за содеянное.
В конце первой части
Фауст в отчаянии, что он уже не может спасти жертву своих вожделений. Он
страдает, хочет помочь ей, но увы — слишком поздно. Да он бы и раньше не сумел
ей помочь: такой человек, как он, не связал бы свою жизнь с Гретхен, настроенной
любить его вечно, а не просто отдать дань быстролетному наслаждению, от
которого неизбежно отвлечет вожделение к очередному объекту.
"О если б не
был я рожден!" 1 — древний
возглас рвется из груди Фауста, возглас, который мы находим уже в книге Иова
("И зачем ты вывел меня из чрева?") и у Софокла. Путь Фауста, на
который он сознательно дал себя увлечь, усеян трупами. Кто без зазрения совести
рвется к Абсолюту, тот уже терпит крах, столкнувшись с Частным.
Только после долгого
отдохновительного сна Фауст в самом начале второй части трагедии наконец
произносит:
Опять встречаю свежих сил приливом
Наставший день, плывущий из тумана.
И в эту ночь, земля, ты вечным дивом
У ног моих дышала первозданно.
Ты пробудила вновь во мне желанье
Тянуться вдоль мечтою неустанной
В стремленье к высшему существованью.
(2, 185)
1 Перевод Н. Холодковского.
363
НАПОЛЕОНОВСКИЕ ГОДЫ
Бедствия войны. 1806 год.
Женитьба на Кристиане
В июле и августе
1806 года Гёте семь недель провел в Карлсбаде. В последний раз он отдыхал здесь
в 1795 году. Уже минуло десятилетие дружбы с Шиллером, первая часть
"Фауста" была готова к печати; в какой-то мере улеглись тревоги из-за
Йенского университета, сохранилась и ежедневно выходила "Йенаер альгемайне
литератур-цайтунг", чего сегодня не могла бы себе позволить ни одна газета
сходного профиля (кстати, такой газеты и нет); вышли в свет перевод книги
Челлини и эссе о Винкельмане. Время журнала "Пропилеи", с его
проповедью классицизма в искусстве, отошло в прошлое, хотя в принципе взгляды
Гёте на художественное творчество не изменились. Филиппу Отто Рунге пришлось
убедиться в этом, когда он в апреле 1806 года прислал Гёте четыре листа своей
композиции "Времена суток". Хотя об этой работе Гёте отозвался более
благожелательно, чем о рисунке "Ахилл в битве со Скамандром", который
в 1801 году Рунге послал на конкурс и который был отвергнут как
"неправильный и манерный". В 1803 году Рунге посетил поэта в Веймаре,
и Гёте проникся к нему интересом. Но, высоко оценив композицию художника
"Времена суток", "чарующий таинственный мир", в который он
часто и охотно погружался, Гёте все же оставался при своем мнении:
"искусство в целом" не должно идти по пути, избранному для себя
"талантливым индивидуумом" (из письма к Ф. О. Рунге от 2 июня
364
ков, он вместе с тем
в принципе отрицал направление в целом. Переписка с Рунге продолжалась:
художник усердно занимался теорией цвета, что совпадало с интересами самого
Гёте. Ранняя смерть Рунге в 1810 году положила конец этой переписке, объем
которой весьма невелик.
В те недели 1806
года, когда Гёте отдыхал в Карлсбаде, он продиктовал множество страниц, которые
впоследствии внес в свой дневник. Из этих записей видно, что он постоянно
увлекался минералогией (19 июля
А Кристиане он
писал: "Встаю в 5 часов, при любой погоде отправляюсь к источнику, гуляю,
поднимаюсь в горы, переодеваюсь, иду в гости к кому-нибудь и вообще бываю в
свете. Не прячусь ни от дождя, ни от ветра, ни от сквозняков и чувствую себя
вполне прилично. Повстречал здесь кое-кого из старых знакомых и завел много
новых знакомств" (7 июля
Сплошь и рядом в
карлсбадском обществе заходила речь о политике: на политическом горизонте
сгустились тучи. Наполеон продолжал продвигаться на восток, и над Веймаром
нависла угроза — ведь веймарский герцог был генералом прусской армии. "В
делах и методах Наполеона я вновь узрел учение Фихте", — гласит одна из
дневниковых записей этих дней (8 августа
365
навсего скопление
мелких государств с большими, однако, претензиями, мало волновало поэта. Ссора
кучера со слугами встревожила путешественников куда больше, чем распад
Священной Римской империи германской нации, пометил Гёте в своем дневнике 7
августа 1806 года. И все же он чувствовал, что мир находится под угрозой. Когда
Гёте снова приступил к исполнению своих обязанностей в Йене, тайный советник
Фойгт, правда, пытался успокоить его словами, что, мол, "непосредственного
вторжения французов опасаться не следует", а возможно оно лишь "в том
случае, если дело и вправду дойдет до войны Франции с Пруссией" (23
августа
Вскоре Пруссия
объявила войну Франции в связи с тем, что французские войска оккупировали
прусские территории Ансбах и Байрейт. Но уже 14 октября 1806 года битвы при
Йене и Ауэрштедте, на земле Веймарского герцогства, увенчали разгром прусской
армии, а 27 октября корсиканец вступил в Берлин. Война самым жестоким образом
коснулась Веймара. Лаконичные записи в дневнике Гёте позволяют ощутить тревогу
и смуту тех дней и недель. 10 октября: "Ускоренный марш войск через город
и всю местность". 14 октября: "Рано утром канонада под Йеной, затем
битва у Кётшау. Отступление пруссаков. В пять часов вечера пушечные ядра
пробили городские крыши. В половине шестого в город вступили стрелки. В семь —
пожары, грабеж, ужасная ночь. Спасением нашего дома мы обязаны мужеству и
отчасти — везению".
Свидетельства современников
Гёте рисуют масштабы бедствий, обрушившихся на Веймар. В доме Шарлотты фон
Штейн прятали смертельно раненного прусского генерала фон Шметтау, который
вскоре умер от ран. Продолжались грабежи. Многие жители города потеряли все,
что у них было, как, например, директор института рисунка Мельхиор Краус. Мало
того, его подвергли издевательствам, от которых он скончался 5 ноября.
Полностью было
разграблено имущество Шарлотты фон Штейн. Точно так же пострадал и Генрих
Мейер. Гёте послал ему записку: "Скажите мне, дорогой мой, чем я могу вам
служить? Сюртук, жилет, рубашку и
366
прочее — все пришлю
с удовольствием. Может, Вы нуждаетесь в продуктах?" (15 октября
Вблизи дворца пожары
не угасали почти три дня; однако благодаря безветрию от огня пострадали всего
шесть-семь домов. Город заполонили пленные и раненые. Они "лежат в новой
гостинице "Александерс хоф", что у Свиного рынка. Их ежедневно
вывозят сотнями в Эрфурт, где расположен главный лазарет, но каждый день на их
место вновь поступает столько же раненых", — сообщает Фернов. В доме Гёте
квартировал сначала маршал Ланн, затем — маршал Ожеро, а в промежутке царила
"величайшая тревога" (дневник, 16 октября
Какая сцена
разыгралась в доме Гёте в ночь после битвы под Йеной и Кётшау, в точности
установить невозможно: все ее участники хранили молчание на этот счет. Видимо,
в дом ворвались французские солдаты. Буяны проникли даже в спальню хозяев, и,
кажется, главным образом благодаря мужеству Кристианы эпизод этот завершился
благополучно. Как только к дому приставили охрану, безопасность его обитателей
была наконец обеспечена. 17 октября, спустя два дня после той ужасной ночи,
придворный пастор Гюнтер получил письмо с просьбой сразу же передать ответ
через посланца: "В эти дни и ночи во мне окончательно созрело одно давнее
намерение: я хочу полностью и в законной форме признать мою маленькую подругу,
столько сделавшую для меня и пережившую со мною также и эти часы испытаний...
Гёте" (XIII,
305—306).
В годину бедствий
Кристиана не должна была оставаться всего лишь "маленькой подружкой"
Гёте. Они прожили вместе восемнадцать лет, сын их ныне был уже взрослый, а
"высший" свет за это время не упускал случая осудить, оскорбить
насмешкой, унизить Кристиану.
Почему Гёте все это
терпел и при тогдашних суровых нравах поставил Кристиану в столь двусмысленное
положение, навсегда останется загадкой. Должно быть, тому причиной его эгоизм,
хотя поэт с самого начала заботился о семье. И пожалуй, не только
"мужество", проявленное в эти дни Кристианой, побудило Гёте
осуществить свое "давнее намерение", но также и забота о сыне. Еще
весной того же года сорвалась
367
поездка Августа к
Цельтеру, потому что — догадки на этот счет верны — неудобно было представлять
юношу берлинскому обществу как сына Гёте, хотя он официально и усыновил его за
несколько лет до того. Во всяком случае, в письме к герцогу Гёте подчеркивал,
что "с помощью узаконенных уз решил дать и отца и мать своему сыну, вполне
того заслуживающему" (из письма Карлу Августу от 25 декабря
19 октября, когда у
жителей Веймара были еще совсем другие заботы, кроме этого странного
бракосочетания, в ризнице городской церкви состоялось венчание ("в
тишине", как отмечено в книге записей браков). Свидетелями были сын
брачующихся и Ример. Кнебелю Гёте написал: "Наши обручальные кольца
датированы 14 октября" (21 октября
Веймарское общество
постепенно привыкло к тому, что "мамзель Вульпиус" сделалась госпожой
фон Гёте; теперь уже никак нельзя было отказывать ей в
368
приглашениях,
полагающихся ей по рангу. Насколько сложной и вместе с тем нелепой была
создавшаяся ситуация, видно из свидетельств Иоганны Шопенгауэр, которая
незадолго до всех описываемых событий переехала в Веймар, и ее дом сразу же
сделался излюбленным местом встреч веймарского света. Дневники и письма Иоганны
Шопенгауэр (изданы в ГДР в
Когда французы
заняли Веймар, Карл Август со своим войском находился в прусском стане, Анна
Амалия бежала и только герцогиня Луиза оставалась на месте, дожидаясь, когда
император призовет ее к ответу. А Наполеон расположился в замке, гордый своей
победой и преисполненный гнева на веймарского герцога: он знал, что Карл Август
— его противник. Императору стоило лишь отдать приказ — и герцогство Веймарское
и Эйзенахское перестало бы существовать.
Но разговор с
герцогиней сделал свое дело. Она вела его смело и искусно: ее супруг всего лишь
исполняет свой долг, твердила она Наполеону, ведь он приходится прусскому
королю родственником, а для своих подданных он заботливый государь. К тому же
императору было отлично известно, что значит для Европы Веймар. 16 октября он
назначил аудиенцию Тайному совету, отныне именуемому "Conseil
administratif", на которую,
однако, явились только тайные советники Фойгт и Вольцоген. Гёте уклонился от
встречи: в короткой записке, адресованной Фойгту, он просил извинить его за
"неявку" и сослался на нездоровье (письмо Фойгту от 16 октября
369
канце нового
Прометея, деятеля, напомнившего ему его собственные ранние поэтические мечты,
от которых он давно уже отошел?
Требования
победителя были недвусмысленны: для сохранения династии Карл Август должен
немедленно оставить прусскую военную службу и уплатить крупную контрибуцию —
220000 франков. В. эти тревожные дни даже нельзя было запросить самого герцога:
никто не знал, где он находится. Только в конце октября стало известно, что он
пребывает в неоккупированном Мекленбурге. И прусский король, и герцог сразу
поняли, что Карл Август должен уйти с прусской военной службы. В глазах
Наполеона, вынужденного учитывать также взаимоотношения Веймара с царским
двором, герцогство представляло собой государство, которое могло и должно было
присоединиться к Рейнскому союзу. 15 декабря в Познани был подписан мир между
Францией и саксонскими государствами; Веймарское герцогство вступило в Рейнский
союз. Кстати, полномочным представителем герцога при подписании был тайный
советник, регирунгсрат Фридрих Мюллер, по каковой причине ему было срочно даровано
дворянство. Позднее он стал известен как канцлер фон Мюллер и автор "Бесед
с Гёте".
Династия была
спасена, суверенитет государства восстановлен. Отныне герцогство входило в
число союзников Наполеона. Оно обязано было сформировать и вооружить контингент
из 800 солдат для полка "Герцоги Саксонии". При тогдашнем соотношении
сил и распределении власти истинные взгляды Карла Августа, вернувшегося в конце
года в свою резиденцию, не играли ровным счетом никакой роли. О том, что он
лишь нехотя присоединился к Рейнскому союзу, хорошо знали и французы: их
уполномоченные на протяжении всего периода наполеоновского господства постоянно
снабжали Париж сообщениями из Веймара.
Отсутствие Гёте на
аудиенции у Наполеона отнюдь не означало, что он намерен отойти от государственных
дел. Напротив, в ту пору поэт очень много сделал для предотвращения опасности,
нависшей над научными учреждениями Йены и работавшими там учеными.
"Служебные записки" показывают, как много хлопот легло на плечи Гёте.
Для статистического доклада французскому интенданту Верхней Саксонии Гёте
подготовил раздел искусства и науки и начал
370
этот доклад полной
гордого достоинства фразой (22 ноября
Чары Наполеона
Всю жизнь Наполеон
казался Гёте чудодеем, и поэт очень часто заводил о нем речь.
В начале 1807 года он
называл этого ужасного и одновременно великолепного исторического деятеля
"величественнейшей фигурой, какая только возможна в истории" (из
письма Кнебелю от 3 января
Словом, Наполеон был
для Гёте примером некоего демонического начала, о котором уже шла речь выше.
Начало это, присущее редким личностям, невозможно охватить разумом, равно как
оно и не подчиняется никаким нравственным критериям. "Разум и рассудок
бессильны его объяснить, — говорил Эккерману Гёте, — моей натуре это начало не
свойственно, но я ему покоряюсь" (Эккерман, запись от 2 марта
371
на гётевскую оценку
его личности. А орден Почетного легиона, которым император наградил его в 1808
году, он не снял даже и тогда, когда союзные войска победили и изгнали
завоевателя.
Политические
соображения и метафизические раздумья сливались воедино в сознании Гёте, когда
перед ним вставал созданный им для себя образ Наполеона. После волнений
революционных лет император учредил новый порядок, а там, где в дело вступала
власть, способная укротить вулканическое брожение и укрепить почву, Гёте
усматривал осмысленный процесс, могущий, казалось бы, обеспечить спокойное
уверенное движение вперед. Гёте готов был скорее одобрить экспансионистскую
концепцию Наполеона, чем согласиться с тем, чтобы Веймар постоянно лавировал
между Пруссией, Австрией и Россией в их борьбе за гегемонию в Европе. Однако
Наполеон к тому же представлялся поэту воплощением истинной силы истории как
таковой. Демон — орудие судьбы; его надо принимать таким, какой он есть, можно
удивляться ему, можно опасаться его, но к ужасу всегда должно примешиваться
восхищение. Прометей явился в образе деятеля истории. Юношеский идеал мятежного
титана, творящего людей по своему подобию и восставшего против Юпитера, давно
забыт поэтом, который за долгие годы веймарской жизни пришел к выводу о
несбыточности этого идеала и необходимости подчиниться реальным требованиям
дня. Само существование Наполеона казалось Гёте своего рода вызовом. Его
величие было не только ни с чем не сравнимо; спрашивалось: как принимать его,
как ему противостоять? Всякий претендующий на историческую роль вынужден
соотнести себя с ним. А ведь еще десять лет назад братья Шлегели публично
признали историческое значение Гёте. Пусть отказался он от бунта Прометея;
пусть отмел от себя "демоническое начало", а все же, как показывают
его беседы поздних лет с Эккерманом, он не всегда мог устоять против искушения
сравнить себя с этой исключительной личностью. Но делалось это по большей части
косвенным образом или в завуалированном виде.
Встреча с
Наполеоном, состоявшаяся в 1808 году в Эрфурте, где проходил съезд государей,
надолго запомнилась поэту. По случаю своей встречи с царем Александром I император созвал в Эрфурт на период с 27 сентября по 14 октября почти
всех герцогов Рейнского союза, королей Баварии, Саксонии, Вюртембер-
372
га, Вестфалии и
брата прусского короля, которые таким образом составили для Наполеона своего
рода великолепную кулису. Вновь был скреплен франко-русский союз, так что
Франция в период завоевания Испании могла не опасаться нападения с тыла. Карл
Август хотел, чтобы его герцогство было представлено самым достойным образом, и
потому пожелал, чтобы в Эрфурт приехал Гёте. 2 октября Наполеон дал гостю
аудиенцию. Ход и содержание их беседы, однако, не могут быть доподлинно
воспроизведены: имеющиеся сообщения разных лиц расходятся в деталях. Так, Гёте
восторженно сообщал Котте: "Я охотно готов признаться, что ничего более
возвышенного и радостного не могла подарить мне жизнь, чем встречу с
французским императором, да еще такую. Не вдаваясь в детали беседы, я могу
сказать, что никогда еще ни один человек, занимавший высокое положение, не
принимал меня этаким вот образом, с каким-то особенным доверием, можно сказать
ставя меня в положение равного себе и всячески показывая, что считает мою
натуру соразмерной его собственной" (из письма Котте от 2 декабря
Итак, Гёте выдержал
встречу с демонической личностью. Слова, прозвучавшие в этом письме как выражение
почтительности к "человеку высокого положения", в действительности
означали, что поэт "примерял" себя к тому, кто был для него живым
воплощением власти истории. Много позже, в 1824 году, побуждаемый к тому
канцлером Мюллером, Гёте наконец записал свой "разговор с
Наполеоном". Канцлер Мюллер в своих "Воспоминаниях военных лет 1806—
1813 гг." (изданы в
1 Вы — человек или Вы — мужчина! (франц.)
2 Вот это человек! (франц.)
373
обращался к этому
пассажу, так что неизвестно, о каком именно месте шла речь. Наполеон говорил
далее, что "отрицательно относится также к трагедиям рока".
"А что такое
рок в наши дни? — добавил он. — Рок — это политика" (9, 437). Разумеется,
у его собеседника это высказывание не могло вызвать восторга — впрочем, автора
"Внебрачной дочери" оно и не должно было удивить. Как сообщает
Мюллер, в конце беседы император выразил настоятельное пожелание, чтобы Гёте
посетил Париж, где он, несомненно, найдет "в избытке материал" для
своих творений.
Размышляя о феномене
Наполеона и втайне сравнивая себя с ним, чтобы восполнить урон в самооценке,
некогда вызванный отказом от прометеевского идеала, Гёте проводил
соответствующие параллели хоть и осторожно, но недвусмысленно. Даже слова,
сказанные Эккерману (16 февраля
Как-то раз Гёте
заметил, что Наполеон "постоянно находился в состоянии
просветленности". Эккерман (11 марта
Гений и творчество,
продуктивность — вот факторы, фигурировавшие в ходе дальнейшей беседы, именно
они служили отправной точкой полузавуалированного сопоставления. В другой раз
Гёте провел также историческую параллель. "Для того чтобы составить эпоху
в истории, необходимы, как известно, два условия: первое — иметь недюжинный ум
и второе — получить великое наследство. Наполеон унаследовал Французскую
революцию, Фридрих Великий — Силезскую войну, Лютер — поповское мракобесие, а
мне в наследство досталась ошибка в учении Ньютона" (Эккерман, запись 2
мая
Гёте восхищался
Наполеоном еще и потому, что оценивал общую политическую ситуацию совсем
по-другому, чем многие из его "патриотически" настроенных
современников. Не случайно поэт в том же письме, которое он в 1807 году послал
Цельтеру из Карлсбада и в котором сообщал, что познакомился с прият-
374
ным человеком — графом
Рейнхардом, состоявшим на французской службе, — не случайно в этом письме Гёте
сурово осудил всех, кто оплакивал гибель старой империи. Он вынужден скрывать
свое нетерпение, чтобы не стать невежливым, "когда люди скулят о том, что
якобы все погибло, о чем в Германии никто не слыхал, а тем паче не
беспокоился" (из письма Цельтеру от 27 июля
Экспансионистской
политике Наполеона, с ее упорядочивающими тенденциями, которым сопутствовали также
и гегемонистские устремления, он противопоставлял патриотический порыв немцев,
стремившихся к национальному самоутверждению и рассматривавших французского
императора лишь как тирана-завоевателя. В этих условиях Гёте сделал выбор в
пользу гениального динамизма "величественнейшей фигуры, какая только
возможна в истории", тем более что в глазах поэта освободительная борьба
немцев заслонялась неприятной псевдопатриотической возней в высшей степени
провинциального толка, что, естественно, должно было претить его
космополитическому уму. Впоследствии он отдал дань уважения участникам
освободительной борьбы 1813 года, поняв главное: они выступили в поход против
захватчика. В свою пьесу "Пробуждение Эпименида", показанную в
Берлине 30 марта 1815 года по случаю годовщины вступления союзнических войск в
Париж, Гёте включил самокритичные замечания: ведь в годы войны он держался в
стороне от борьбы.
Человек типа графа
Карла Фридриха Рейнхарда был ему ближе патриотических крикунов. И стоило ли огорчаться,
что Рейнхард, родившийся в 1761 году в семье швабского священника, был горячим
приверженцем революции и с 1792 года служил французским революционным
правительствам как дипломат. Он и впоследствии оставался на французской службе:
был посланником при дворе короля Жерома в Касселе, при бундестаге во
Франкфурте, как и при саксонских дворах. Этот образованный светский человек, с
широким кругом литературных и научных интересов, был к тому же поклонником
Гёте. Потому-то он и стал собеседником поэта в оживленной переписке и
интенсивном обмене мыслями в годы старости, и особенно в последние годы жизни
Гёте, тем более что в этот период поэт отводил французской литературе важное
место в мировом литературном процессе.
Стыдливое признание
нравственной исторической
375
силы, воплощением
которой представлялся поэту Наполеон, не исключало сомнений и оговорок. Не мог
ведь Гёте закрыть глаза на то, что носитель природной политической власти в
буквальном смысле слова шагал по трупам, все на свете подчинив своему властолюбию!
В 1807—1808 годах Гёте — отнюдь не по заказу, поскольку сезон был
"незрелищный", — создал драму "Пандора". Тут он придал
своему Прометею брата — Эпиметея, "заботника" и
"трудновдумчивого", вследствие чего образ деятельного героя
утрачивает прежний ореол непогрешимости. Для Прометея ничто не имеет смысла,
кроме полезного труда, к каковому он без конца принуждает свой трудолюбивый
народ. Народ производит утварь для пастухов, но также и оружие для воинов, и
песня кузнеца звучит в унисон с военными песнопениями. Завоевания и разбой не
смущают Прометея и его приятелей — угрызений совести они не знают. Не
вспоминают они и о Пандоре, однажды спустившейся на землю в облике женщины
божественной красоты. Возвращения Пандоры, некогда принесшей с собой "таинственное
приданое", дожидается Эпиметей. Он терзается воспоминанием о ней и живет
надеждой, что она вернется к нему. Мир опустел для него с тех пор, как исчезла
Пандора. Прометей неустанно прославляет полезный труд, неизменно необходимое
производство и воспроизводство, а Эпиметей между тем погружается в свои мечты и
грезит о прекрасном прошлом, когда с ним была Пандора. "Кто обречен
расстаться с любимой, / Беги, отвращая свой взор!" Впрочем, оба брата, в
силу своего одностороннего понимания жизни, проходят мимо смысла бытия. И снова
в очередном произведении Гёте не воплощен третий — идеальный вариант; пьеса так
и осталась фрагментом: возвращение Пандоры не показано.
Для читательского
восприятия "Пандора" труднее любой другой гётевской драмы. Она
перенасыщена символическими образами, которые могут быть расшифрованы только в
итоге длительных и кропотливых усилий — для подобных толкований здесь нет
места. Изначальные жизненные феномены наглядно выявляются в образной ткани
произведения. И все, что происходит с детьми обоих братьев, Филеротом и
Эпимелеей, также предназначено иллюстрировать следующую фразу: "Расщеплять
напополам единое, соединять в одно расщепленное — это и есть жизнь
природы". Сам Гёте называл эту пьесу "весьма запутанной вещи-
376
цей" (в письме
С. фон Гротхусу от 17 апреля
Однако возможно, что
именно в этой вещи он достиг вершины языковой выразительности; речь персонажей
передана в ней виртуозно, с тем чтобы, как почувствовал это Вильгельм фон
Гумбольдт, выявить и охватить "все изначальные оттенки чувств и страстей,
все элементы человеческого общества" (из письма Гумбольдта к жене от 28
декабря
Ах, зачем, о боги, бесконечно
Все на свете, лишь конечно счастье!
Звездный блеск, любви обогащенье,
Лунный свет, любовное доверье,
Тени, жажда подлинной любови
Бесконечны, лишь конечно счастье.
(Перевод С. Шервинского — IV, 415)
Поток со скал бросается и мчится:
Сонеты
Не только образ
Наполеона витал над "Пандорой". В последние дни пребывания Гёте в
Карлсбаде в 1806 году в его дневнике появилась запись: "Г-жа фон Брёзиге и
г-жа фон Леветцов (Пандора). Прогулка с князем Ройсом" (27 июля
Все новые встречи
ожидали поэта: казалось, молодость льнет к нему, чтобы смягчить тоску, в
которой он пребывал после смерти Шиллера. В Веймаре весной, а потом еще и в
ноябре 1807 года его разыскала Беттина Брентано, эта необузданная непоседа, и
после пылкого приветствия кинулась ему на шею, разыгрывая (впрочем, может, ей
не нужно было разыгрывать) влюбленность. Она была знакома с юношескими письмами
Гёте к ее матери, Максимилиане Брентано, а
377
мать Гёте в свою
очередь рассказывала ей о детстве поэта (позднее он использовал эти рассказы в
своей автобиографической книге "Поэзия и правда").
Зимой 1807—1808
годов в Йене поэт, уже приближавшийся к своему шестидесятилетию, угодил в путы
дерзкого чувства к Минхен Херцлиб, приемной дочери издателя Фроммана, дом
которого в ту пору часто посещал. Девушке только что исполнилось восемнадцать
лет. Мы мало знаем об этой гётевской страсти — если и впрямь тут была страсть.
Гёте всегда все скрывал, когда бывало что скрывать. Работая над
"Анналами", он записал фразы, содержавшие определенные намеки на этот
счет, однако исключил их из публикации. В них рассказывалось, что в декабре в
Йену приехал Цахариас Вернер, в кругу знакомых он блистал чтением сонетов,
другие тоже стали пробовать свои силы в этом жанре, и даже сам Гёте сочинил
"небольшое собрание" сонетов.
"Впервые после
смерти Шиллера я спокойно наслаждался в Йене радостью дружеского общения. Приветливость
присутствующих разбудила во мне тоску по ушедшему: утрата, которую я вновь
ощутил с прежней болью, требовала компенсации. Привычка, склонность, дружба
переросли в любовь и страсть, которые, как и все абсолютное, вторгающееся в мир
относительного, грозили обернуться бедой для многих. В такие моменты, однако,
искусство поэзии возвышает и смягчает требования сердца, усмиряя властную
ненасытность. Так вот на этот раз нам пришлась весьма кстати форма сонета,
которую ранее с большим мастерством использовал Шлегель, а Вернер поднял до
высот трагического звучания".
Некоторые сонеты он
еще придержал на какое-то время, так как они "слишком отчетливо
выдавали" его "недавнее состояние". Многое можно вычитать из
этих слов, однако догадка о любви поэта к Минне Херцлиб так и остается
догадкой. В июне 1808 года он отослал Цельтеру шесть сонетов. Они и вправду
отчетливо рисуют историю одной любви, от внезапной вспышки страсти до
"отречения", как вначале назывался сонет, впоследствии озаглавленный "Прощание".
Весь цикл, опубликованный в гётевском собрании сочинений издания 1815 года,
включал 15 сонетов, и это уже была не просто история одной любви, а поэзия как
таковая. Два не опубликованных в ту пору сонета, которые теперь значатся в
цикле под номерами 16 и 17, открыто рассказывали о сердечной склонности и
378
любви; будь они
напечатаны сразу же, они и в самом деле могли бы дать повод к превратным
толкованиям и злословию — поэт хорошо знал, как возникают такие толки.
Когда Гёте уже
закончил полный цикл из пятнадцати сонетов, в его жизнь пришли новые
впечатления и события, и снова он увлекся очень юной женщиной. Однако об этом
увлечении нам известно несколько больше, чем о сердечной ране, должно быть
нанесенной поэту Минной Херцлиб. В имении Дракендорф в долине Заале близ Йены,
принадлежавшем барону фон Цигезар, служившему в Готе, поэту и прежде не раз
случалось бывать. Однако в то карлсбадское лето 1808 года у Гёте сложились
особые отношения с младшей дочерью Цигезара — Сильвией, родившейся в 1785 году.
Слово "дружба" для определения этих отношений кажется слишком робким.
И опять же неизвестно, насколько чувство поэта вышло из рамок дружбы.
Неясно-ясным языком говорят лишь отдельные слова и обороты из его писем и
стихов. В своем дневнике Гёте простодушно отмечал, как часто он встречался с
семьей Цигезаров и как предпринимал "долгие прогулки с Сильвией" (19
июня
Поэт говорил от
имени всех поздравителей: для одних она была дочка, для других подруга, но для
него она была "любимая", что может ровным счетом ничего не значить,
равно как и значить слишком много. Впрочем, скорее всего, она казалась ему и
тем, и другим, и третьим, как и все молодые женщины, обладавшие властью легко
растрогать, но и смутить поэта, который был старше их на столько лет. Он видел
в них олицетворение всего женского начала, в разное время по-разному
волновавшего его; видел в каждой одновременно сестру, подругу, дочь и
возлюбленную. Нелегко было поэту разобраться в своих чувствах, а коль скоро он
не мог сделать этого, то особенно сильно привлекали его совсем юные женщины — в
отношениях с ними мечта обретала простор.
379
Когда Цигезары
переехали во Франценсбад, Гёте уже не мог усидеть в Карлсбаде и поехал вслед за
ними. К этим дням относится запись в дневнике: «Схема "Избирательного
сродства"» (10 июля
Но подпись
"вечно Ваша Сильвия" стояла еще и в конце письма, датированного 26
декабря 1813 года. В мае
Никто не сможет
доказать, в какой мере и какие впечатления тогдашних встреч впоследствии вошли
в произведения Гёте, в цикл сонетов или в "Избирательное сродство".
Да и заниматься подобными подсчетами было бы нелепо. Цикл сонетов,
опубликованных в 1815 году, предлагает читателю нечто большее, чем просто
историю одной любви. В этом цикле берет слово сама девушка, легко, шутливо
плетет нить своих рассуждений. Всплывают здесь и некоторые мотивы из писем
Беттины Брентано. Остроумная игра намеков как бы предваряет
"Западно-восточный диван". Как и при создании элегий, Гёте вынужден
был приспосабливаться здесь к заранее заданной форме. Опыты Шлегелей в области
издания сонетов были ему хорошо знакомы: братья старались вдохнуть новую жизнь
в этот преимущественно романский жанр поэзии. (XVII век в Германии с творениями Грифиуса и Гофмансвальдау еще не оказал
сколько-нибудь сильного влияния на литературу.) Между тем стро-
380
гая форма сонета
давалась Гёте нелегко. На сонет Августа Вильгельма Шлегеля, написанный в 1800
году, он ответил стихами, в которых звучала также мягкая дружеская критика.
Заканчивался "Сонет" следующими тремя строками:
Но тщетно бьюсь удобным сделать ложе:
Мне цельным резать дерево — по нраву,
А здесь нельзя от клею уберечься!
(Перевод М. Розанова — 1, 256)
Несколько позже,
однако, Гёте отказался от своих сомнений:
Природы и искусства расхожденье —
Обман для глаз: их встреча выполнима.
И для меня вражда их стала мнима,
Я равное питаю к ним влеченье.
(Перевод М. Розанова — 1, 257)
И снова сама форма
сонета становится предметом стихотворения, но теперь она предстает как символ
самовоспитания человека, для которого необходима гармония природы и искусства, свободы
и закона. Сонет этот, включенный в пролог представления, показанного в
Лаухштедте, освещал также задачи и роль театра как такового.
В приведенном выше
отрывке, который Гёте исключил из "Анналов" за 1807 год, поэт меньше
рассказывал о себе, чем о круге друзей в Йене, "где привычка, склонность,
дружба переросли в любовь и страсть". Очень возможно, что
"событие", лежащее в основе сонетов, было событием исключительно
литературного плана в атмосфере, оживленной присутствием Минхен Херцлиб.
Возможно также, что душевное состояние поэта было "литературной"
влюбленностью, хотя Гёте хорошо понимал, какие при этом могли бы разверзнуться
бездны, но все же он обладал той духовной силой, которая допускала подобную
игру — полусерьезную, полушутливую. Надо подумать и о следующем: Гёте,
возможно, потому задержал публикацию сонетов № 16 и 17, что стремился
предотвратить ошибочное истолкование этих стихов и наложение их на жизненные
обстоятельства. В своих примечаниях к "Западно-восточному дивану" он
впоследствии писал применительно к Хафизу, что "поэту вовсе не обязательно
думать и пережить все то, что он выражает в своих стихах".
381
В сонете
"Потрясение", открывающем цикл, с впечатляющей силой воплощено
нежданное ощущение "жизни новой":
ПОТРЯСЕНИЕ
Поток со скал бросается и мчится
Навстречу океану, увлекая
В долины неизведанного края
Все то, что жаждет в безднах отразиться.
Но вдруг — ей, грозной, радостно резвиться —
Вниз Ореада падает нагая,
Леса и скалы следом низвергая,
Чтоб в усмиренных струях раствориться.
Волна растет и мечется. Отныне,
Лишь собственными недрами питаясь,
Ей жить вдали от щедрости отцовой
Назначено, прикованной к плотине.
Следят созвездья, в водах отражаясь,
Игру прибоя, отблеск жизни новой.
(Перевод Н. Григорьевой — 1, 310)
Гёте не раз использовал
образ воды как символ человеческого бытия. Сонет напоминает раннюю гётевскую
"Песнь о Магомете". Но в "Песне" перед нами — буйное,
стремительное движение вольного стиха, в сонете же — строгие, четкие рамки
формы. Во вводном четверостишии глаголы "бросается" и
"мчится" в общей картине, по выразительности напоминающей древние
мифы, передают укрощенную стремительность потока. Первое четверостишие целиком
посвящено "потоку"; во втором появляется противоборствующая сила,
которая неожиданно останавливает его бег. Веское слово "грозно" не
случайно открывает это четверостишие: то, что случилось, невозможно объять
рассудком — явление может обладать и созидающей, и разрушающей силой. Поэт
сознательно избирает изощренную конструкцию строфы, только одна-единственная
строчка в ней предстает емкой, сжатой. Ореада — горная нимфа, этот образ сразу
же навевает любовную тему. Но поэт подводит нас к эпилогу: в конце катрена уже
появляются леса и скалы окружают "усмиренные струи".
"Потрясение" выражено только в двух местах: в слове
"грозно" и в великолепном образе: "мечется". В сонете четко
проступает поэтическое ис-
382
кусство зрелого
Гёте: старый поэт скупыми, незаметными средствами открывает путь к новым образам
и намекам. И только в конце читатель узнает, в какое важное событие вылилось
"Потрясение": жизненный поток не просто остановлен, а свершилось
нежданное — возник "отблеск жизни новой".
Торжественность,
приподнятость и лаконизм первого сонета не характерны для всего цикла.
Серьезность переплетена здесь с шуткой, и никому не дано знать, где там
"сонетное бешенство", а где — "наводненье страсти"
("Немезида"). Восхитительна сложная мозаика голосов и оттенков
чувств. Эта игра — не пустая забава, а игра вполне осмысленная, остроумная,
умеющая по достоинству оценить всякое явление и не гнушающаяся иронии. Чем-то
напоминает она "рождественский подарок" двенадцатого сонета:
Еще б я мог медовые баллады
Тебе испечь для праздничного чтенья...
(Перевод Н. Григорьевой — 1, 316)
Чуждый мир драматургии Клейста
С 1806 по 1823 год
Гёте ежегодно, за немногими исключениями, бывал на курортах Богемии. Он никогда
не прекращал там работу — совсем напротив. Сплошь и рядом именно там у поэта
случались моменты особой творческой напряженности.
Так, в 1807 году он
написал пять новелл, которые впоследствии включил в "Годы
странствий". Точно так же и "Избирательное сродство", план
которого он упоминает в своем карлсбадском дневнике 10 июля 1808 года, поначалу
было задумано как вставная новелла для того же большого романа о Вильгельме
Мейстере. И неизменно вызывает удивление, каким образом поэту удается наряду с
напряженной работой ежедневно поглощать вплоть до самых преклонных лет такую
уйму литературы. Летом 1807 года Гёте прочитал также "Амфитрион" и
"Разбитый кувшин" Генриха фон Клейста. Обе вещи он получил от Адама
Мюллера. Гёте принял эти произведения сдержанно, но в общем вполне
благожелательно. По поводу "Амфитриона" он писал Адаму Мюллеру: "С
моей точки зрения, на этом пути античное и современное скорее расходятся, чем
сходятся" (из письма А. Мюллеру от 28 августа
383
ля 1807 года он
сделал уточняющую запись уже для себя, и ею обозначил существенное:
"Античное понимание "Амфитриона" строилось на смешении чувств,
на разладе видимости с рассудком... Современный же автор — Клейст — изображает
помрачение чувства как такового у главных действующих лиц". Гёте к тому же
подозревал — и в этом вопросе он, как известно, был чрезвычайно щепетилен, —
что "новый мистический Амфитрион" (Дневник, 15 июля
Между тем уже 2
марта 1808 года в Веймаре состоялась премьера комедии "Разбитый кувшин",
к сожалению расчлененной на 3 действия. Пьеса провалилась с треском — ведь
разрубили драматический нерв одноактовки. Правда, Гёте в свое время
предостерегал посредника — Адама Мюллера: "...жаль только, что эта вещь
принадлежит невидимому театру". Поэта раздражала ее
"сценично-процессуальная форма", и он хотел помочь автору разделением
пьесы на акты, однако именно это подорвало и ослабило внимание зрителей.
24 января 1808 года
Клейст сам послал Гёте первый номер своего журнала "Феб", в котором
было напечатано восемь сцен "Пентезилеи": «Я припадаю с этим к Вам
"на коленях моего сердца"». (Клейст не мог знать, что и юный Гёте
тоже в свое время привел этот библейский оборот в письме к Гердеру от 12 мая
1775 года.) Единственное письмо, полученное Клейстом от Гёте вслед за этим,
было для него уничтожающим: «"Пентезилея" остается мне чуждой. Она
принадлежит к столь странной породе и действует в столь несродной мне области,
что потребуется еще немало времени, чтобы освоиться и с тем и с другим... Я всегда
бываю огорчен и опечален, — продолжал далее Гёте, — когда встречаю молодых
людей большого ума и таланта, которые рассчитывают на театр, могущий возникнуть
в грядущем» (из письма Г. Клейсту от 1 февраля
Своей
эксцентричностью и трагической безысходностью "Пентезилея" неизбежно
должна была неприятно поразить Гёте. И приговор, вынесенный им, был отнюдь не
легковесным. В Клейсте поэта отпугивали именно те черты, которые он с великим
трудом преодолел в себе: непомерная экзальтированность, неуравновешенность,
эмоциональный разброд. Словом — "вертеровское" начало. Впоследствии
отношение Гёте к Клейсту было выявлено еще отчетливее: этот писа-
384
тель всегда вызывал
у него "дрожь и отвращение, как тело, прекрасное от природы, но
изуродованное неизлечимой болезнью" ("Драматургические листки Людвига
Тика", 1826). Гёте отстранял от себя то, что в свое время пережил сам и
мнил для себя угрозой. Словом, все, что теперь казалось ему признаком духовной
разорванности, бесцельных поисков, не могло ему нравиться. Вместе с тем долгие
блуждания Клейста, его поиски плана жизни, о которых, конечно, его старший
собрат по перу ничего не знал, были сродни стремлениям Вильгельма Мейстера к
образованию и самовоспитанию, а ведь Мейстеру, как известно, прощались все заблуждения.
Если бы молодость
Гёте совпала с молодостью Клейста, они нашли бы дорогу друг к другу. Однако,
получив уничтожающий гётевский отзыв на "Пентезилею", Клейст из
почитателя Гёте превратился в его противника — стал ненавидеть его и презирать.
Прежде он преклонялся перед Гёте и надеялся, что тот его поймет. Но
единственное письмо, полученное от поэта, погасило все надежды, хотя в нем и
говорилось об "искреннем расположении". "Господин фон Гёте"
— так издевательски озаглавил Клейст эпиграмму, которую написал из досады, что
не встретил в своем кумире взаимности. Эпиграмма высмеивала гётевское
"Учение о цвете":
Что же, достойное дело нашел он в преклонные лета,
Он разлагает сиянье, что прежде венчало его!
Ставка на собственную работу
Всем напастям Гёте неизменно
противопоставлял деятельный образ жизни. Иногда даже казалось не столь важным,
какой род деятельности избрать. Разумеется, не приходится сомневаться в
истинности его слов в "Поэзии и правде": он-де стремился переплавить
в художественном произведении свои тревоги и трудности, чтобы этим путем
вытеснить их из своего сознания. Но это была всего лишь полуправда,
относившаяся к поэтическому воплощению определенных проблем. Но для того, чтобы
справиться с внешними трудностями и неприятностями, достаточно было и любой
другой деятельности, исполненной смысла. Его замечания на этот счет порой могли
ввести в заблуждение кого угодно: так, однажды он сказал, что, в сущности,
385
юриспруденция ему
ближе учения о цвете, и заключил эти слова следующим выводом: "При
внимательном рассмотрении этого вопроса окажется, что совершенно безразлично, к
какому предмету приложить свои силы и свой ум" (из письма Цельтеру от 26
сентября
Случалось, его
посещало и такое настроение: "Пожалуй, и вовсе уж ничего бы не делал"
(из письма Рейнхарду от 22 июня
386
Поэта отвращало от
"полудюжины молодых поэтических талантов" одно: в их творчестве
"нет ни характера, ни формы", утверждал он (в письме Цельтеру от 30
октября
Отмежевавшись таким
образом от романтизма, поэт в своем творчестве все больше замыкался в рамках
собственной эстетической концепции. Роман "Избирательное сродство",
вышедший в свет в 1809 году, с его точно рассчитанной расстановкой действующих
лиц и неумолимой последовательностью событий, обрушиваемых на людей
избирательным сродством, являет нам художественное произведение иного рода, в
основе которого — сознательная конструкция. И, даже включив в него
"романтическое" (в эпилоге романа), автор показал, как оно вписалось
в строгий каркас целого.
Экспериментальная игра.
"Избирательное сродство"
Роман
"Избирательное сродство", как ни одно другое произведение Гёте, за
исключением, пожалуй, "Сказки" и второй части "Фауста", при
всей стройности и емкости повествования предлагал читателю редкое изобилие
многозначности, раздражающе противоречивых высказываний, символических картин и
событий. Со-
387
ответственно пестра
и палитра толкований. Рассказчик, заявляющий о себе уже в первой фразе
("Эдуард — так мы будем звать богатого барона в полном расцвете сил".
— 6, 223), изъясняется языком на редкость точным и ясным, что, несомненно,
связано с широтой кругозора и глубоким знанием жизни. При этом рассказчик
сохраняет определенную дистанцию к изображаемым событиям, не затрагиваемую ни
сумятицей, ни ужасом происходящего в романе. По-деловому очерчивая внешний ход
событий и сопровождая свой рассказ обобщающими комментариями, он столь же
бесстрастно, как исследователь, стремящийся к познанию истины, вскрывает
внутренние процессы, происходящие в душах действующих лиц, не без сочувствия,
но неизменно с трезвым взглядом диагностика.
"Избирательное
сродство" поначалу было задумано как вставная новелла для цикла
"Годов странствий", однако за период 1808—1809 годов выросла до
размеров самостоятельного романа. Очевидно, работа над этим романом позволяла
автору художественно освоить многое из того, что он сам пережил и узнал.
В 1806 году поэт
наконец узаконил свой брак с Кристианой — как раз в то время, когда рухнула
Пруссия и когда положение самого Гёте в Веймарском герцогстве, находящемся под
угрозой распада, было крайне шатким. После периода подавленности,
последовавшего за смертью Шиллера, поэт в сонете "Потрясение" уже
нашел в себе силы заговорить. На водных курортах и дома он несколько оттаял
душой и оказался вовлеченным в волнующие отношения с Минной Херцлиб и Сильвией
фон Цигезар, — отношения, в дальнейшем отстоявшиеся в спокойную дружбу. И
по-прежнему властно требовали осмысления события Французской революции и ее
последствия — этой темы ему хватило до старости, что видно из бесед с
Эккерманом, с канцлером Мюллером, из многих страниц в "Годах
странствий". В романе "Избирательное сродство" обо всем этом не
говорится впрямую; в лучшем случае можно лишь догадываться, в какой мере
сюжетные элементы романа связаны с жизнью автора, и раскрывать эти элементы
бережно и осторожно.
В романе
"Избирательное сродство" Гёте измыслил событийный контекст и ход
действия убедительной внутренней логичности. Он свел, словно бы для научного
эксперимента, четырех главных действующих лиц, чтобы вместе с ними провести
игру избирательного сродства, выявленного в некоторых областях есте-
388
ственных наук.
Шведский химик и естествоиспытатель Тоберн Бергман в 1775 году опубликовал
работу "De attractionibus electivis"; этот термин в 1792 году был переведен Хайном Табором как
"избирательное сродство". Имелась в виду химическая реакция, в
которой происходило взаимное воздействие соединений ab и cd.
При "встрече" тех и других либо не происходит никаких изменений, либо
происходит разделение и образуются новые соединения: ас и bd. Сильнее всего тяготеют к образованию
соединений щелочи и кислоты, обладающие противоположными свойствами.
Иносказательный смысл "избирательного сродства" таков: тела в силу
странного свойства стремятся соединиться друг с другом, хотя они уже связаны с
другими телами. Разумеется, сравнение это не лишено коварства, поскольку слово
"выбор" подразумевает свободу выбора, а в химических реакциях, из
области которых заимствован заголовок романа, никак не может быть свободного
выбора: результат диктуется природным законом. Словом, здесь действуют скрытые
силы. Натуралистов, предполагавших, что природа и человеческая жизнь
подчиняются одинаковым или сходным законам, должно быть, соблазняла гипотеза
действия природных сил также и в сфере эмоциональных отношений между людьми.
Поскольку мир во
всем комплексе его взаимосвязей наделили единой "душой" ("О
мировой душе" — так называлась книга Шеллинга, вышедшая в 1798 году), то
соответственно и человеческой душе приписывались природные силы. Правда, Гёте в
статье "Естествознание", корректировавшей домыслы Кнебеля, настаивал
на тщательном разграничении неодушевленного и одушевленного, но единство
природы, к которой принадлежит и человек, естественно, никак не оспаривалось.
Когда Гёте 4 сентября 1809 года объявил в газете о выходе в свет своего романа,
он не преминул намекнуть на сложные параллели романного действия с процессами
природы: "Создается впечатление, что к такому необычному заголовку автора
подвели его длительные занятия физикой. Должно быть, он заметил, что в
естественных науках очень часто пользуются сравнениями из области этики, чтобы
сделать более доступными для понимания процессы, слишком далекие от обычного
круга человеческих знаний. В этом же случае, где речь идет о нравственных
конфликтах, автор, напротив, отважился прибегнуть к сравнению из области
химической науки,
389
тем самым вернув его
к философским первоистокам, тем более что природа всюду едина и даже в царстве
радостной свободы разума беспрерывно тянутся следы скорбной, страстной
необходимости, каковые полностью уничтожить под силу только высшему существу, и
то, пожалуй, лишь в ином мире".
Здесь отнюдь не
отменяется "радостная свобода разума" и не отдается в подчинение
неумолимой "страстной необходимости". Тема произведения —
столкновение этих двух начал. Нет здесь и попытки поставить над всем
"демоническое" начало, будто бы неизбежно одерживающее верх над
человеком, а попросту обозначены условия эксперимента, в рамки которого
вводятся персонажи "Избирательного сродства". Как они поведут себя,
эти человеческие существа, наделенные свободой разума, когда на них обрушится
"страстная необходимость" и заставит их принять то или иное решение?
Уже и в более ранних произведениях Гёте было видно, что поэт никогда не
превращал своих героев в этаких идеальных персонажей, похваляющихся примерным
поведением и изрекающих прописные истины.
Вместо этого он
ставил их в экспериментальный контекст и испытывал в пробных
"пробегах". В то же время иронически многозначное изображение, зримо
открывающее перспективу, а иногда оставляющее нерешенность, как и
соответствующая манера повествования, стимулировали читателя к вынесению своей
оценки происходящему, как и к дальнейшим конструктивным размышлениям.
Роман
"Избирательное сродство" в своей сотворенной автором внутренней последовательности
— поистине пример экспериментальной игры, что лишний раз подчеркнуто
"химическими" сравнениями. Эдуард и Шарлотта уже имели каждый за
плечами первый брак, прежде чем им, влюбленным друг в друга с юности, удалось
наконец пожениться. В имении Эдуарда они хотят "насладиться счастьем,
которого некогда так страстно желали, но так поздно достигли" (6, 227).
Общими усилиями они заново разбивают парк, по своему вкусу переделывая природу.
Эдуард желал бы пригласить к себе своего старого друга, капитана, попавшего в
беду. Шарлотте же не по душе эта идея: она опасается, что будет нарушен покой
их столь долгожданного союза. Но Эдуард настаивает на своем. С другой стороны,
и Шарлотта решает взять в дом свою племянницу и воспитанницу Оттилию, живущую в
пансио-
390
не. Тем самым уже
создается необходимое для "Избирательного сродства" стечение
обстоятельств. Однако персонажи реагируют на нее по-разному. Шарлотта и капитан
лишь после долгого сопротивления уступают своему чувству.
Эдуард, напротив,
полностью отдается своей любви к Оттилии, которая живет в состоянии, близком к
трансу, стараясь во всем подладиться к Эдуарду. Так сильна внутренняя связь с
новыми партнерами у Шарлотты и Эдуарда, что в момент любовного акта оба в
воображении совершают прелюбодеяние: "Эдуард держал в своих объятиях
Оттилию; перед душой Шарлотты, то приближаясь, то удаляясь, носился образ
капитана, и отсутствующее причудливо и очаровательно переплеталось с
настоящим" (6, 290). Чуть позже новые партнеры признаются друг другу в
любви. Шарлотта принуждает себя отказаться от этой любви и ждет того же от
своего супруга. Но тот к такому решению не готов. После отъезда капитана он
также покидает замок, но не отказывается от Оттилии. Он даже отправляется на
войну, узнав, что Шарлотта забеременела после той ночи
"прелюбодеяния". В конце первой части романа Оттилия — в безнадежном
состоянии.
Во второй части
романа события развиваются уже не столь стремительно. Шарлотта и Оттилия,
оставшиеся в замке, усердно занимаются переустройством кладбища и реставрацией
церкви, ведут обстоятельные беседы с архитектором. Оттилия все больше и больше
предстает перед читателем в ореоле таинственности, будто существо,
принадлежащее "исчезнувшему золотому веку". Страдая от разлуки с
Эдуардом, она неустанно размышляет о смерти и вечности. В противоположность ей
дочь Шарлотты Люциана, приехавшая в замок погостить, наслаждается развлечениями
в кругу светского общества. Рождение ребенка Шарлотты и Эдуарда раскрывает
удивительный парадокс (возможный, пожалуй, только в романе): сын Шарлотты похож
на Оттилию и капитана. Эдуард благополучно возвращается с войны и теперь уже
настойчиво добивается брака с Оттилией, которая дает свое согласие при условии,
что и Шарлотта согласится на развод с ним. Эдуарду и Оттилии уже "чудилось,
им мерещилось, что они принадлежат друг другу" (6, 404). Но тут вдруг
оплошность Оттилии приводит к смерти ребенка: он выпадает из лодки. Эдуард и
Шарлотта видят в смерти сына знамение, и Шарлотта дает согласие на развод. Но
теперь Оттилия, насмерть
391
перепуганная
несчастьем, считает себя виновницей случившегося и отказывается от желанного
союза; стремясь искупить свою вину, она ревностно исповедует любовь к ближним,
замыкается в себе, умолкает, отказывается от еды и ждет, когда полный аскетизм
принесет ей гибель. После смерти ее почитают как святую; вслед за ней скоро
умирает и Эдуард; обоих хоронят в церкви. "Тишина осеняет их гробницы,
светлые родные лики ангелов смотрят на них с высоты сводов, и как радостен
будет миг их пробуждения!" (6, 434).
В беседе с
Эккерманом (9 февраля
С первых же фраз
романа начинается многоплановый рассказ. Рассказчик вводит одного из четырех
главных героев романа, вводит как фигуру, чью повадку и поступки надлежит
наблюдать в пробной игре: "Эдуард — так мы будем звать богатого барона в
полном расцвете сил..." (6, 223). Герою дано имя во избежание путаницы;
чуть позже читатель узнает, что это даже не настоящее его имя, просто он в свое
392
время взял его себе.
(Неужели этот "Эдуард" так не уверен в себе, так неустойчив, что даже
не решается пользоваться своим настоящим именем — Отто?) Другие персонажи
романа и вовсе остаются безымянными. В аранжировке эксперимента сойдут и
условные обозначения: садовник, капитан, архитектор, граф, баронесса, лорд, помощник.
А вот тот, кто и правда зовется "Миттлер" (посредник. — С.
Т.), ведет себя как слон в посудной лавке там, где
как раз требовалось посредничество.
"Эдуард — так
мы будем звать богатого барона в полном расцвете сил, — Эдуард чудесным апрельским
вечером целый час провел в своем питомнике, прививая молодым дичкам свежие
черенки. Он только что покончил с этим занятием и как раз складывал инструменты
в футляр, с удовлетворением глядя на сделанное, как подошел садовник и
остановился полюбоваться на труд и усердие своего господина" (6, 223).
Автор рассказывает нам о садоводческой деятельности своего героя, о прививках и
облагораживании, составляющем задачу всякой культуры. Но уже тут намечена одна
из проблем романа: всегда ли прибавление чего-то нового дает положительный
толчок развитию? Когда, в 17-й главе, «Оттилия порадовалась, что все прививки, сделанные этой
весной, так отлично принялись, садовник задумчиво заметил: "Мне бы только
хотелось, чтобы и наш добрый хозяин хорошенько порадовался на них"» и
очень сдержанно выразился по поводу "нынешних садоводов", "а как
вырастишь дерево и дождешься плодов, то оказывается, что его в саду и держать
не стоило" (6, 314). Из всех дилетантов Гёте особенно недолюбливал именно садоводов-любителей.
Поскольку цель любительского садоводства зыбка, работа эта обычно ни к чему
определенному не приводит, а лишь снижает величие природы. На взгляд Гёте,
любительство сродни распространенному образу мыслей, допускающему капризы
воображения и не признающему дисциплины. Эдуард, будучи богатым бароном, может
позволить себе проводить свои дни в праздности — вот он-то как раз и является
дилетантствующим садоводом. Так, уже с первых фраз становится очевидной манера
повествования, при которой многое попутно "подразумевается" и которая
определяет долгую сюжетную нить "Избирательного сродства". Читатель
должен спросить себя, не пронизано ли замечание о желании садовника
"полюбоваться на труд и усердие своего господина" мудрой иронией
рассказчика.
393
Вскоре после этого
эпизода Шарлотта и Эдуард встречаются в новой дерновой хижине. И снова автор
прибегает к многозначительной иронии: сидя в дерновой хижине и озирая
окрестности, Эдуард "с радостью думал о том, как весна сделает все вокруг
еще более пышным" (6, 224). Хижина представляется супругам столь
просторной, что в ней найдется место "для третьего", а "также и
для четвертого". Весна и правда принесет все, но результат окажется не
таким, какого ждут. Когда Эдуард предлагает пригласить капитана, Шарлотта высказывает
свои сомнения: не нарушит ли присутствие третьего планы супругов, не так давно
вступивших в брак. У рассказчика есть повод заставить супругов вспомнить весь
путь — полный препятствий, — какой пришлось им преодолеть, чтобы наконец
соединиться друг с другом. В беседу вплетаются замечания, отзывающиеся почти
трагической иронией: "Но только бы нам не внести сюда чего-нибудь
постороннего, чужого!" (6, 227).
"— В любых
обстоятельствах прибытие третьего знаменательно. Я видела друзей, братьев и
сестер, влюбленных, супругов, отношения которых совершенно менялись, и в жизни
происходил полный переворот после нечаянного появления или заранее обдуманного
приглашения нового лица.
— Это, — отвечал
Эдуард — вполне может случиться с людьми, которые живут, ни в чем не отдавая
себе отчета, но не с теми, кто научен опытом и руководствуется сознанием.
— Сознание, мой
милый, — возразила Шарлотта, — оружие непригодное, порою даже опасное для того,
кто им владеет..." (6, 228).
Все, чему
впоследствии суждено произойти, уже намечается в диалоге, хотя супруги этого
еще не сознают. Конфликт между "страстной необходимостью" и
"радостной свободой разума", о котором писал в своем анонсе о романе
Гёте, дает себя знать во всем. Супруги — Шарлотта и Эдуард — ведут спокойную,
обстоятельную беседу, но в ней уже присутствует что-то подспудное, нечистое,
грозное. И когда Шарлотта делает приписку к письму с приглашением капитана, то
портит листок "чернильным пятном; рассерженная, она пыталась стереть его,
но только еще больше размазала" (6, 236). Символическая
многозначительность языка пронизывает весь роман. Однако знамения или
символические события не распознаются или же неверно толкуются теми, кого они
предназначены предо-
394
стеречь. Всезнающий
автор привлекает к ним внимание читателя и побуждает его задуматься над
многозначительностью происходящего, над сомнительностью настроений беседующих и
действующих персонажей. Дерновая хижина, удобно оборудованная для четырех
человек, создает нарочито идиллическую атмосферу, она украшена исключительно
"искусственными цветами и зимней зеленью" (6, 237). Тополя и платаны,
стоящие кучкой, также могут побудить к различным толкованиям. "День и год,
в который посажены были деревья, — это день и год рождения Оттилии" (6,
301). Эдуард изумлен и обрадован этим "необыкновенным совпадением".
Однако осведомленный читатель знает, что у героя нет никаких оснований для
удивления или радости. Платаны и тополя, и не только в произведениях Гёте,
обычно сажают в память об умерших. Стало быть, этот эпизод может быть понят как
тайное указание на то, что Эдуарду, в свое время посадившему эти деревья,
теперь надлежит всеми силами беречь Оттилию, чего, однако, этот
садовод-дилетант не умеет как следует делать. Таковы многозначительные намеки
только в одном мотиве, а мотивов таких в романе много. Даже вот о чем стоит
задуматься: а не играет ли насмешник Гёте при случае мнимой символичностью?
Может быть, та группа деревьев — просто-напросто бутафорский аксессуар,
обозначающий место, где происходит нечто отнюдь не лишенное значения, однако любое
серьезное истолкование породило бы ложное глубокомыслие. Бокал с инициалами
"Э" и "О" во время торжества закладки домика чудесным
образом не разбиваются, так как кто-то подхватывает его на лету, и Эдуард
усматривает для себя "в этом случае счастливое предзнаменование",
что, однако, опровергается дальнейшими событиями. Строительство плотины,
садовые работы, почерк Оттилии, ставший похожим на почерк Эдуарда, совместное
музицирование, украшение часовни — все это мотивы поэтического языка символов,
повествующих о подспудном развитии событий: язык отражает, а не то — злорадно
искажает их. Создается озеро — и в нем гибнет ребенок. Во вставной новелле о
"соседских детях" мы находим фразу, подчеркивающую оправданность
счастливого вмешательства молодого человека, его отважного прыжка в реку:
"Вода — стихия, дружелюбная для того, кто с нею знаком и умеет с ней
обращаться" (6, 390). Но для действующих лиц "Избирательного
сродства" вода является "веролом-
395
ным, враждебным
элементом", с которым они не научились как следует обходиться. Но довольно
и этих немногих указаний на глубину символики в этом повествовании, на
сплетение намеков, пронизывающих все произведение.
Быстрое развитие
сюжета подводит нас к четвертой главе, в которой Шарлотта, Эдуард и капитан
обсуждают аллегорический смысл химического термина "избирательное
сродство". После этого разговора Шарлотта выражает готовность пригласить
Оттилию. Беседа то и дело перескакивает с явлений природы, в сфере которой
разыгрывается так называемое избирательное сродство, на взаимоотношения между
людьми. Рассуждения о бегстве и поиске, о соединении и разъединении, о воле и
выборе, произволе, свободе и необходимости могут быть отнесены к широкому кругу
явлений, а для описываемых процессов предполагается более высокое назначение.
Ничто уже не однозначно, коль скоро химические процессы, происходящие в
природе, обозначаются понятиями, применимыми к миру людей, и, наоборот,
взаимоотношения людей — терминами, пригодными для обозначения химических
процессов. Таким образом, явление природы "не объясняется", а лишь
описывается с помощью антропоморфного сравнения, а проявление избирательного
сродства в человеческих отношениях тем самым еще не сводит его к неизбежному
естественному процессу, обозначенному подобной метафорой. Важно другое: четко
поставлен вопрос, на который должен ответить эксперимент: где перед нами
неизбежность, от которой нельзя уйти, где встречаем мы свободный выбор, если
люди сталкиваются друг с другом в жизни, словно в химической реакции?
Считать, что герои
"Избирательного сродства" находятся исключительно во власти
тяготеющего над ними демонического рока, было бы проявлением одностороннего
взгляда на сюжет романа. Конечно, собеседники предвидят неизбежные осложнения,
которые может повлечь за собой сообщество четверых, но странным образом не
понимают, что они сами могут оказаться жертвами этих осложнений. Сходную
близорукость они проявляют и в другом, не умея распознать многочисленные
предзнаменования и предостережения, они толкуют их превратно, суеверно вкладывая
в них положительный смысл, как, например, поступил Эдуард в случае с
неразбившимся бокалом. Но то, что развертывается с неумолимостью природного
процесса, как
396
только все четверо
оказываются вместе, лишь частично можно объяснить роком, сопротивляться
которому бесполезно. Непреодолимое влечение и впрямь не нуждается в объяснении,
это "дело рук демона". Тут мы и видим, как тянутся по жизненному полю
следы "скорбной страстной необходимости" и "радостная свобода
разума" не в силах дать им верное направление. Допустим, что имеет место
предрасположенность отдельных людей, способствующая взаимному притяжению, —
возможно, что она и есть та непреложная неизбежность, с которой невозможно
совладать. И все же остается еще широкий простор, оставляемый действующими
лицами для принятия свободного решения. Судьба обрушивается на четырех героев
романа не потому, что у них не было возможности избежать ее ударов, а потому,
что они не пытаются серьезно проанализировать ситуацию, в которой очутились, и
не способны до основания прояснить свои сложные отношения — в атмосфере
взаимопонимания и не уклоняясь от разрешения существующих трудностей. Конечно,
нельзя отрицать, что в жизни героев то и дело случаются незапланированные
события, но столь же верно и то, что жизненные планы героев на поверку
оказываются сомнительными и несостоятельными.
"Избирательное
сродство" — это книга, рассказывающая о людях, не умеющих справиться с
жизненными конфликтами. Как отмечено в дневнике Римера, 28 августа 1808 года
Гёте сказал ему, что идея его нового романа в том, чтобы "представить
социальные условия и их конфликты в символической форме". Следует
заметить, что автор не предлагает какого-либо удачного решения "социальных
условий и их конфликтов" для выведенной в романе группы из четырех героев.
Сохранение брака Шарлотты и Эдуарда, равно как и развод их, облегчающий
вступление в брак с новым партнером, — оба варианта отбрасываются без
дальнейших слов как непригодные, сколько бы ни говорилось на эту тему. Именно
проблематика супружеских отношений определяет экспериментальную модель, и любой
однозначный вывод, кем бы то ни было "вычитанный" из романа, был бы
выводом сугубо односторонним. На опытной площадке, которую соорудил здесь Гёте,
населив ее своими героями, уже нельзя оперировать суждениями о
"верных" и "неверных" поступках, о чьей-то
"правоте" или "неправоте", а не то и "вине", об
общепринятых нравственных нормах. Вводит в заблуждение и сугубо "модер-
397
нистский"
элемент романа: автор оставляет читателя один на один со всем происходящим в
романе, в том числе со всеми сложностями и противоречиями. Сдержанная,
отстраненная манера Флобера, при которой автор выступает в роли наблюдателя,
предвосхищена Гёте в "Избирательном сродстве". Близки этой манере и
новеллы из "Годов странствий", в которых также изображен конфликт
страсти с общественными устоями. "Пятидесятилетнего мужчину" занимали
эти проблемы.
Вывод о том, что в
"Избирательном сродстве" брак олицетворяет нравственный порядок, что
роман утверждает законные права брака, в противовес прорвавшимся страстям, —
такой вывод был бы слишком поспешным. Правда, в своем письме к Цауперу Гёте
подчеркивал: "Очень простой смысл этой обстоятельной книжицы раскрывают
слова Христа: "...всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже
прелюбодействовал с нею в сердце своем". Не знаю, уловил ли его кто-нибудь
в этой парафразе" (письмо от 7 сентября
398
лотта больше всего
стремится к тому, чтобы ничего не вывело ее из "равновесия", не
увлекло сверх меры. Такой ее рисует автор после того, как она приняла решение
отказаться от своей любви к капитану: "Ей, привыкшей во всем отдавать себе
отчет, всегда держать себя в руках, и на этот раз без труда удалось, обдумав
все, достичь желанного равновесия" (6, 294). Когда же потом, после смерти
ребенка, она все-таки дает согласие на развод, чтобы помочь Оттилии в ее
смятении и горе, это лишь доказывает, что институт брака для нее отнюдь не
неприкосновенен. А когда Оттилия — позднее — с силой соединяет руки супругов,
то этим жестом она показывает, что хочет возродить их брак. Но в душе она
приняла бы их развод, если бы только Шарлотта и в этот раз на него согласилась.
Чувство вины переполняет Оттилию, хотя вдумчивый читатель и не спешит признать
ее виновной, но под влиянием этого чувства она отказывается в конечном итоге
стать женой Эдуарда; в смерти ребенка она видит знамение судьбы и хочет одна
нести бремя мнимой своей вины. Все это не приходится рассматривать как
признание святости брака; союзу Эдуарда и Шарлотты тоже уже ничем не поможешь.
В романе автор
разворачивает перед нами проблематику брака, при котором могут прорываться и
другие силы, однако мы не найдем в этом произведении ни апологии супружества,
ни провозглашения брака незыблемым нравственным учреждением. Роман об
избирательном сродстве не возвещает наставлений и не дает рекомендаций — он
только ставит вопросы. Кто хотел бы извлечь из него указания для жизни,
непременно запутается; кто ждет от него советов, как одержать верх над
"страстной необходимостью", тщетно будет искать их. Даже из поведения
Оттилии, сумевшей лишь молча себя извести, нельзя извлечь никаких заключений,
которые можно было бы перенести в реальную жизнь. Конечно, роман изобилует
меткими высказываниями, напоминающими лейтмотивы, однако в многоплановом
контексте целого они утрачивают свою роль, на которую претендует каждый афоризм
в отдельности. Так мы воспринимаем нелепые высказывания помощника начальницы
пансиона, вроде вот этих: "Мужчины, — сказал он, — должны были бы в юности
носить форму, ибо они должны привыкать действовать сообща, ощущать себя равными
среди равных, повиноваться и работать во имя целого" (6, 364); "Из
мальчиков должно воспитывать
399
слуг, из девочек —
матерей, тогда везде все будет хорошо" (6, 365). Странный Миттлер имеет
наготове фразу, звучащую как заученная молитва: "Брак — это начало и
вершина человеческой просвещенности... Брак должен быть нерушим, ибо он
приносит столько счастья, что какое-нибудь случайное горе даже и в счет не идет
по сравнению с ним" (6, 277). Человек, произносящий эти слова, хоть
фамилия его и переводится как "посредник", не способствует улаживанию
конфликта. Граф и баронесса, приезжающие в гости к Шарлотте и Эдуарду, —
любовники, и очень довольны характером своего союза. Когда же они наконец
благополучно вступают в брак, брак Эдуарда с Шарлоттой оказывается разрушенным.
Нет, "Избирательное сродство" — отнюдь не гимн браку. Разве что для
односторонней защиты романа, в глазах Якоби, рисовавшего "вознесение злого
духа", можно было бы в ущерб истине утверждать, будто в нем — с помощью
доказательства "от противного" — воспевается нерушимость брачного
союза. Институт брака, казавшийся проблематичным и самому Гёте, в том же
проблематичном виде представлен и в "Избирательном сродстве", что вполне
допустимо в художественном произведении. Впрочем, у многих читателей —
современников автора — это вызывало раздражение, и они спрашивали: где же то
"положительное", что должен предложить новый роман?
Сам Гёте долгие годы
не решался оформить брак с Кристианой — отчасти потому, что не был уверен в
долговременной прочности брачного союза. В его произведениях отсутствуют
счастливые браки (исключение составляет лишь союз Геца и Элизабет, правда лишь
скупо описанный). Судя по всему, автор "Избирательного сродства" не
видел пути к разрешению главного противоречия, присущего институту брака. Как
сообщает канцлер фон Мюллер, 7 апреля 1830 года Гёте в ходе их беседы сказал:
"То, что культура отвоевала у природы, нам никак нельзя потерять; любой
ценой нужно удержать это завоевание. Стало быть, и представление о святости
брака — такое же культурное завоевание христианства, обладающее величайшей
ценностью, хотя, в сущности, брак неестествен". Если вся жизнь — движение,
если метаморфоза есть созидание и превращение, тогда любое постоянное
установление неестественно. Тем не менее "культура" не должна
отказываться ни от института брака, ни от подавления эротических страстей,
также и для блага детей.
400
Сколько бы Шарлотта
и Эдуард ни рассуждали о своей совместной жизни, о возникших трудностях,
стараясь неизменно оставаться в рамках приличий, все же им не удается стать
хозяевами положения. И только ли от силы влечения, проявляющейся в
"Избирательном сродстве", это зависит? Конечно же, в романе особенно
четко проступают "следы скорбной страстной необходимости", отчего те
или иные события могут казаться порождением неотвратимого рока. И все же
Шарлотта и Эдуард оказываются на удивление неспособными предвидеть все
возможные последствия этих событий, как и по достоинству оценить предзнаменования.
Шарлотта стремится ввести жизнь в колею, хотя сама тоже попадает в сети
избирательного сродства. Когда она призывает себя к порядку и отказывается от
своего чувства, она тем самым теряет какие-то черты своей личности, не ведая
того, какую роль сыграет это отречение в дальнейшей ее супружеской жизни. А
позднее, соглашаясь все же на развод, она поступает таким образом не
собственных интересов ради, а из сострадания к Оттилии. В сущности, Шарлотта и
Эдуард связаны весьма проблематическим браком; они беспомощны перед законом
избирательного сродства, против которого, казалось бы, предостерегала их химия
и который тем не менее ворвался в их жизнь. Как, однако, разрешить в данном
"социальном контексте" разразившиеся конфликты и что нужно делать
героям, чтобы без опасности для себя, продуктивно использовать элементарные
силы избирательного сродства, отведя им должное место в своей личной жизни, как
и в жизни общества? — на все эти вопросы роман ответа не дает. Ни поучительная
речь Миттлера в защиту брака, ни фривольная беспечность графа, в обществе
баронессы вкушающего свободную любовь, не могут считаться удовлетворительным
ответом на поставленные вопросы. А уж самоубийственное покаяние Оттилии,
обрекающей себя на смерть из-за того, что ранее сошла со своего пути, и вовсе
не может служить образцом жизненного решения каких бы то ни было проблем.
Два высказывания
Гёте об Эдуарде, казалось бы, противоречат одно другому. Он ценит в Эдуарде то,
что "тот любит без оговорок" (из письма Рейнхарду от 21 февраля
401
чтобы могли
развиться события романа" (Эккерман, 211). Эдуард принадлежит к породе
людей типа Вертера, способных на преданность другому, страстных, но притом
эгоцентричных и не умеющих навести порядок в своей жизни. Его любовь к Оттилии
столь же безоглядная и страстная, сколь эгоистичная и беспощадная. Все
предзнаменования он толкует в свою пользу, и именно его необузданный темперамент
в решающие моменты жизни вносит опасную сумятицу: так бурно домогается он
Оттилии, что в своем смятении она не может удержать ребенка в качающейся лодке,
и ребенок тонет. Непоправимое свершается здесь не по воле рока, к страшным
последствиям приводит человеческая безрассудность. Эдуард — обаятельный и
одновременно невыносимый человек, и автор в эпилоге романа посвящает ему
следующие примирительные слова: "Еще так недавно это сердце билось в
нескончаемой тревоге, но вот и оно обрело нерушимый покой" (6, 434).
Кажется, будто
Оттилия происходит из других сфер. Как показали магнетические опыты, она как-то
особенно тесно, бессознательно связана с силами природы, стало быть, больше
всех других подвержена действию закона избирательного сродства. Насколько она
восприимчива к действию элементарных сил и зависима от них, настолько же слабо
выражена в ней личность. Трогательны ее привязчивость и бескорыстие, ее умение
приспосабливаться к другим, внимательно слушать собеседника. Она не столько
осмысливает происходящее, сколько воспринимает его всеми чувствами. В условиях
неумолимой игры взаимных притяжений она попадает в безвыходное положение.
Удивительно, что поначалу она совершенно не сопротивляется своему чувству к
Эдуарду, словно просто наступило нечто такое, что до сей поры было неведомо ее
натуре. Она освобождается от преданной любви к отцу, даже отдает медальон с его
портретом и цепочку — все заменяет ей привязанность к любимому человеку,
который годится ей в отцы. Все глубже осознает она остроту конфликта,
вызванного ее появлением. Однако любовь не отпускает ее даже тогда, когда после
крещения ребенка ей вдруг открывается, "что ее любовь может стать
совершенной, только став бескорыстной" (6, 378). Ей бы только знать, что
любимый счастлив, тогда она даже готова от него отказаться. И все же Эдуарду, в
странном сходстве ребенка с капитаном и Оттилией увидевшему под-
402
тверждение своих
желаний, удается уговорить ее стать его женой, правда при условии, что и
Шарлотта тоже даст согласие на развод. Смерть ребенка меняет все. Оттилия
считает себя виновницей несчастья: увы, она сошла с предначертанного пути!
"Никогда не буду я принадлежать Эдуарду!" (6, 410). Она хочет
искупить свое "преступление". Однако контекст всего романа отнюдь не
подтверждает справедливости этого приговора, вынесенного Оттилией самой себе.
Все, что чувствовала, думала, совершала Оттилия, таинственным образом связанная
с силами природы, никак не может быть заклеймено словом
"преступление". Конечно, в создавшемся положении девушка могла считать
себя преступницей, будучи не в силах до конца осмыслить происходящее.
Примечательно, какой фразой автор начинает во второй части романа 15-ю главу,
которой предшествовало самообвинение Оттилии, считавшей, что она совершила
"преступление": "Если в счастливую и мирную пору совместной
жизни родные, друзья, домочадцы даже больше, чем это нужно, толкуют о том, что
вокруг них происходит или должно произойти, по многу раз сообщают друг другу о
своих намерениях, начинаниях, занятиях и, хоть прямо и не советуясь, все же как
бы постоянно совещаются обо всех житейских делах, то, напротив, в
обстоятельствах чрезвычайных, где, казалось бы, человек более всего нуждается в
чьей-либо помощи и поддержке, каждый сосредоточивается в самом себе, стремится
действовать самостоятельно, поступать по-своему, и, скрывая средства, какими он
пользуется, делает общим достоянием лишь исход, лишь достигнутую цель, лишь
конечный результат" (6, 410—411).
Теперь Оттилия все
глубже погружается в молчание. В ракурсе, определенном автором, уже не
приходится ждать благоприятного поворота. С приездом Люцианы в доме начинается
бурная светская жизнь, которая резко контрастирует с линией, избранной для себя
Оттилией, с ее уходом в себя. Когда же Эдуард против ее воли настигает девушку
в гостинице, она отрешается от всего, отказывается от пищи и тихо умирает. В
эпилоге романа воплощена "канонизация" Оттилии, отныне она — персонаж
из легенды. Ее, отважившуюся на необычную и крайнюю меру, окружает ореол
сверхчеловеческого. Между тем Гёте, раздраженный стремлением романтиков к
католизации литературы, ничего подобного в принципе изобра-
403
жать не хотел. Но
несгибаемая последовательность, проявленная в осуществлении своего намерения Оттилией,
могла быть изображена только необычными средствами. В мире, в котором Оттилия
жила до сей поры, она больше не находила себе места. К тем долгим, ни к чему не
приведшим разговорам ей нечего уже было добавить, кроме своего молчания и
немоты. И только смерть соединила ее с Эдуардом, умершим вскоре после нее, —
загадка, оставленная без ответа.
Светлым гимном
любви, на мрачном фоне сложных коллизий избирательного сродства, с их печальным
концом, предстает вставленная в роман новелла "Соседские дети". В ней
парень и девушка, разлученные юношеской враждой, счастливо соединяют свои
судьбы. Отчаянным поступком девушка приближает развязку, а юноша смело
бросается вслед за ней в воду, эту элементарную стихию, и выходит победителем
из единоборства с ней. Ведь автору новеллы известно, что вода — дружественная
стихия для того, кто с ней знаком и умеет с ней обходиться.
Никто не может
сказать с уверенностью, какие моменты из собственной жизни Гёте перенес в роман
"Избирательное сродство". Минна Херцлиб, Сильвия фон Цигезар —
некоторые их черты, возможно, воплощены в образе Оттилии: влечение поэта к этим
двум девушкам порой достигало такого накала, что он ощущал на себе силу
избирательного сродства.
В романе нет
недостатка в отчетливо видимых элементах социальной критики, хоть автор и не
сопровождает их обстоятельными комментариями. Совершенно очевидно, что Эдуард,
человек состоятельный и праздный, при том — своенравный дилетант. Не изучив
по-настоящему природу, люди, которым это позволяет достаток, вторгаются в ее царство,
сообразуясь исключительно со своими вкусами, и в результате рушится плотина, а
потом в озере тонет ребенок. Миттлер жонглирует формулами и фразами, не умея
принести реальной пользы кому бы то ни было. Архитектор, в сущности неспособный
на истинное творчество, всего лишь реставратор и копировщик. Люциана, дочь
Шарлотты от первого брака, едва обретя свободу, бросается в вихрь светских
удовольствий. Граф и баронесса тоже представители общества с шатким
фундаментом.
В целом, может быть,
допустимо усмотреть в "Избирательном сродстве" отблеск событий
периода от Французской революции до военных тягот 1806 го-
404
да, что, однако,
невозможно подтвердить ссылкой на конкретные детали: в романе нет изображения
исторических событий. Что же касается обрисовки "социальных условий",
то здесь автора можно упрекнуть в недостаточно последовательном проникновении в
совокупность многослойных проблем, касающихся как всего общества в целом, так и
отдельных действующих лиц. В этих условиях конфликты не преодолеваются; герои
хоть и видят их, но в полной мере не осознают их неизбежных последствий — стало
быть, социальные условия таят в себе ростки распада и беспомощны перед натиском
сверхмогучих сил.
Как пикантная
приправа к "Избирательному сродству" воспринимается объемистое
стихотворение под названием "Дневник", состоящее из двадцати четырех
длинных строф большой художественной выразительности и психологической
точности. Стихотворение это долго не находило признания и стыдливо
замалчивалось по причине того, что в нем откровенно изображалась чувственная
любовь. Оно близко по духу к "Римским элегиями", созданным поэтом в
годы, когда, преодолев в этом плане собственные затруднения, он мог наконец
легко и радостно отдаться чувственным наслаждениям. В "Дневнике"
можно расслышать также и отдельные мотивы "Венецианских эпиграмм",
где поэт восстает против проповедуемого христианской религией аскетизма, отказа
от чувственных радостей, — впрочем, эти мотивы звучали также и в
"Коринфской невесте". В романе вскрыта проблематика брака: Шарлотта и
Эдуард — оба в мыслях совершают прелюбодеяние и бесконечные словопрения героев
романа вращаются вокруг вопроса о том, как соотносятся между собой брак и
любовь.
Однако хотя
совокупность эротических влечений и определяет ход событий в романе, все же
автор обходит молчанием зону собственного секса, будучи сосредоточен только на
душевных переживаниях, в итоге которых Оттилия вступает на путь полного
самоотречения. Другое дело — "Дневник". Возникшее почти одновременно
с романом, это стихотворение передает эпизод, во время которого намечается, но
не осуществляется настоящее прелюбодеяние: в решающий момент партнер
оказывается неспособным к любовному акту. Однако потом, когда девушка в своей
очаровательной непосредственности засыпает, недо-
405
вольный собой
мужчина вспоминает супружеские радости, которые дарила ему жена, и тут
"тот самый" начинает вновь подавать признаки жизни: "И вот он
тут как тут, теперь он ввысь безмолвно / Во всем великолепии вознесся /".
Прочная привязанность к жене порождает несостоятельность мужчины в его
отношениях со случайной знакомой: в минуту "опасности" эта
привязанность проявляется самым неожиданным, но притом отрезвляющим образом:
"Болезнь — здоровому проверка". О ночной подруге остается лишь
приятное воспоминание — не больше. Будь она написана в прозе, эта история могла
бы войти на правах вставной новеллы в "Избирательное сродство" или в
"Годы странствий". С ее как бурлескными, так и серьезными чертами,
она вполне могла бы дополнительно обогатить содержащийся в этих романах набор
многократных "отсылок". Но, пожалуй, только высокохудожественный язык
стихотворения способен оправдать прямоту рассказа о вышеозначенном деликатном
эпизоде.
406
НА НОВЫХ И СТАРЫХ ПУТЯХ
Знакомство с Буассере. Внимание к средневековью
В мае 1810 года было
издано "Учение о цвете", и Гёте ощутил, что с его плеч спал большой
груз. День 16 мая, как подчеркнуто в "Анналах", он счел
"счастливым днем освобождения", когда "сел в карету, чтобы ехать
в Богемию". Год назад от поездки на курорт пришлось отказаться — слишком
смутной была тогда политическая ситуация. Наполеон простирал границы своего
владычества все дальше. 5 июля 1809 года его армия разбила под Ваграмом
австрийцев, которые ранее, собравшись с силами, победили французов в битве под
Асперном. Осенью того же года Наполеон продиктовал противнику условия
Шенбруннского мира, он был заключен 14 октября. Политику Австрии долгие годы
стал определять новый министр иностранных дел — Меттерних. С тех пор как
властитель Франции задался целью завоевать Европу, было неясно, что сулят
немцам ближайшие годы. И тот, кто не участвовал в сопротивлении завоевателям,
пытался существовать в тени большой политики. Гёте внимательно следил за
развитием событий с неизменным тайным почтением к демонической личности Наполеона
— личности, несомненно, прометеевского масштаба. "Его жизнь была шествием
полубога от битвы к битве, от победы к победе" (запись 11 марта
407
кто-то сможет стать
достойным противником императора Франции.
В Богемии Гёте
провел несколько месяцев (с середины мая до середины сентября 1810 года), и все
это время в его сознании зрела идея создания автобиографии, которая впитала бы
правду и поэзию его жизни. Шестидесятилетний Гёте внезапно осознал себя частицей
истории и принялся подводить жизненные итоги. Вплоть до последних дней поэта в
его письмах к друзьям часто встречались абзацы, обобщающие опыт прожитых лет;
строки, пронизанные сознанием своего душевного одиночества, своей отчужденности
от устремлений молодого поколения. Но впереди его ожидали еще и внезапные
взлеты, и новые встречи, и по-юношески пылкие переживания.
Летом 1810 года на
поэта, судя по всему, произвела сильнейшее впечатление австрийская императрица
Мария Людовика. Эта двадцатитрехлетняя женщина стала третьей женой императора
Франции, который был старше ее более чем на два десятка лет. Шестого июня, в
день прибытия императрицы в Карлсбад, ей преподнесли стихотворение, написанное
в ее честь самим Гёте по просьбе правителя округа. За этим первым
стихотворением вскоре последовали три других, причем сам автор придавал всем
четырем настолько важное значение, что издал их за свой счет тиражом в триста
экземпляров. Находясь летом 1812 года в Теплице, Мария Людовика часто, чуть ли
не ежедневно, встречалась с Гёте. В самой что ни на есть непринужденной
обстановке поэт читал ей стихи и неоднократно, через фрейлину ее, графиню
О'Доннелл, передавал ей письма. Сама Мария Людовика остерегалась писать
что-либо в ответ — наверно, чтобы не давать повода для сплетен. И в данном
случае тоже никто не сможет сказать, в какой мере к этой необычной дружбе
примешивались любовное влечение или влюбленность, как со стороны поэта, так и
со стороны императрицы. "Едва ли возможно составить себе понятие о ее достоинствах,
— писал Гёте Кристиане 19 июля 1812 года. — Вас изумит, если не испугает,
многое из того, о чем мне предстоит вам поведать". И в Веймаре, и в других
местах немало было пересудов о теплицком эпизоде, который запомнился поэту на
всю жизнь. 13 августа 1812 года, через три дня после отъезда императрицы из
Теплице, Гёте
408
писал Рейнхарду:
"Когда на излете дней перед твоим взором предстанет подобное явление, то
столь велика отрада, им даруемая, словно ты умираешь при восходе солнца и всеми
чувствами, как и душой, вновь убеждаешься в вечной животворящей сути природы,
до самого основания божественной и полной жизни, верной своим установлениям и
не подверженной старению".
С Марией Людовикой,
умершей в 1816 году, Гёте больше не виделся ни разу. В "Анналах" за 1816
год поэт записал: "Смерть императрицы повергла меня в состояние, от
которого я так и не избавился до конца". А 25 мая 1821 года в письме к
Рейнхарду он признавался, что "кончину блаженной памяти императрицы все
еще не превозмог". Коль скоро Гёте записал такое, стало быть, он провел в
обществе Марии Людовики вдохновенные часы. Возможно, что молодая императрица
представлялась поэту неким воплощением его Евгении, героини драмы
"Внебрачная дочь", и он был счастлив, что "вечно животворящая природа"
на самом деле порождает подобные образы.
В 1810 году еще до
отъезда в Карлсбад у Гёте наметилось одно знакомство, которому в последующие
годы было суждено обогатить поэта новыми впечатлениями и опытом в сфере
искусства. В апреле граф Рейнхард осторожно осведомился у Гёте, не возражает ли
он против визита к нему некоего Сульпица Буассере, желавшего ему представиться
и показать свои зарисовки Кёльнского собора. Этот, по характеристике Рейнхарда,
"полумеценат, полуученик и последователь Фридриха Шлегеля", с
недавних пор поселившийся в Гейдельберге, располагал "весьма
примечательным собранием картин старых немецких мастеров" (из письма
Рейнхарда к Гёте от 16 апреля
409
разрушаясь. Тогда же
в длинном письме от 8 мая Буассере подробно изложил поэту свои идеи. Рисунки
были задуманы им "в качестве основы для произведения, которое должно
увенчать собрание изображений памятников христианской архитектуры в Кёльне с VII по XIII век". Гёте в
ответном письме поблагодарил Буассере и пригласил его к себе (15 мая
Сульпиц Буассере
родился в 1783 году, в семье состоятельного кёльнского коммерсанта. Родители
его умерли рано, и вместе с младшим братом Мельхиором он решил полностью
посвятить себя литературе и искусству, благо братья располагали необходимыми на
то средствами. К ним присоединился Иоганн Баптист Бертрам, сторонник новых
романтических веяний. В 1802 году все трое отправились в Париж, чтобы в музее
Наполеона ознакомиться с произведениями искусства, доставленными туда из всех
стран Европы. Путешествие это вылилось в долгое — на всю зиму — пребывание в
Париже. Поселившись у Фридриха и Доротеи Шлегель, трое друзей поддерживали со
своими хозяевами интенсивное духовное общение. И братья Буассере и Бертрам от
рождения воспитывались в католической вере, были убежденными католиками; как
таковые они оказались особенно восприимчивы к сакральному искусству. На
обратном пути из Парижа (здесь к ним присоединился и Фридрих Шлегель) они
познакомились с нижнерейнским и нидерландским искусством, которое произвело на
них огромное впечатление. Фридрих Шлегель еще раньше настойчиво подчеркивал
значение этого искусства в своих статьях, публиковавшихся в издаваемом им
журнале "Ойропа". Тогда-то братья Буассере, пользуясь удачным
стечением обстоятельств, принялись коллекционировать произведения искусства.
Ведь после проведенной государством конфискации цер-
410
ковного и
монастырского имущества было нетрудно заполучить произведения искусства, прежде
принадлежавшие церкви, поскольку относились к ним пренебрежительно. Так, свое
первое приобретение — средневековую картину с изображением крестного хода —
братья Буассере высмотрели в тачке, которую кто-то катил по кёльнской рыночной
площади. В Кёльне, в Рейнской области, на территории Бельгии и Голландии
братья-коллекционеры обнаружили и купили множество произведений искусства. Так,
за какие-нибудь несколько лет возникло это внушительное собрание картин
художников нижнерейнских и нидерландских живописных школ XIV—XVI веков. По мере роста
коллекции, собиратели прилагали все больше усилий к осуществлению
искусствоведческой систематизации произведений. Правда, они допустили немало
ошибок при определении авторов, отдельных картин, но в целом все же
систематизировали свое собрание как в хронологическом, так и в стилевом
аспекте. Собирательская деятельность продолжалась и позже, в течение многих
лет, и в результате лишь благодаря собранию Буассере (которое ныне в основном
хранится в Мюнхене) внимание поклонников искусства было привлечено к выдающимся
произведениям старых мастеров, таких, как Дирк Боутс, Ганс Мемлинг, Ян Госсарт,
Йос ван Клеве, Бернарт ван Орлей, Рогир ван дер Вейден, и к ряду других картин
безвестных мастеров, ныне обозначаемых по названиям главных их произведений или
же по месту рождения (например: мастер "Жития Марии", мастер из
Лисборна, мастер из Сент-Северина).
В 1810 году братья
Буассере перевезли свою коллекцию в Гейдельберг, сняли помещение во
внушительном здании на Карлсплаце, и ни один любитель искусства не упускал
возможность посетить эту галерею, где даже не удалось развесить все картины по
стенам, по каковой причине их одну за другой ставили для показа посетителям на
мольберт. Путешествуя в 1814 и 1815 годах по Рейнской области, Гёте осматривал
сокровища этой коллекции, которая произвела на него глубокое впечатление.
В дни с 3 по 12 мая
1811 года Сульпицу Буассере удалось наконец навестить Гёте в Веймаре. В своих
письмах и дневнике он впоследствии подробно и с юмором рассказал об этих
встречах и беседах, во время которых обсуждались и зарисовки Кёльнского собора,
и иллюстрации Петера Корнелиуса к "Фаусту", и "буас-
411
сереское"
собрание картин. "Холодно и чопорно" принял его "старый
господин", появившийся перед ним с "напудренной головой и орденскими ленточками
на камзоле". На приветствия и рассказы гостя он поначалу отзывался лишь
междометиями, приговаривая: "Так, так! Гм, гм! Хорошо". Но затем,
сообщает Буассере, "стоило нам заговорить о живописи старых мастеров, как
Гёте все же несколько оттаял".
Буассере держался
скромно, но с достоинством, к тому же он умел убедительно отстаивать свои
взгляды; и уже на другой день он записал: "Со старым господином у меня
прекрасные отношения, и если в первый день он протянул мне всего лишь палец, то
назавтра уже подал всю руку". После обеда некий барон Олива играл для них
на рояле в музыкальной гостиной, где на стенах висели четыре композиции Рунге:
"Утро", "Полдень", "Вечер" и "Ночь".
Гёте спросил своего молодого гостя: "Как, неужели вы этого еще не видели?
Так взгляните же, что это за вещь! В исступленье можно впасть — и красота в
ней, и безумие". — "Да, — отвечал я, — совсем как в музыке Бетховена,
которую сейчас играет барон, как во всей нашей эпохе". — "Пожалуй,
так, — сказал он, — искусство это стремится все объять, но при том всегда
растворяется в элементарном, хоть порой и сопряженном с нескончаемой красотой.
Вот, взгляните-ка, чем не дьявольская вещь, и вот здесь, какую прелесть, какое
великолепие сотворил этот человек, да только не выдержал, бедняга, его уже нет,
да и не могло быть иначе: кто так балансирует на краю бездны, тот должен
погибнуть или сойти с ума, здесь пощады не жди".
Незадолго до этого —
12 апреля — Бетховен прислал Гёте почтительное письмо, в котором извещал поэта,
что написал музыку к "Эгмонту". Беттина Брентано с упоением
рассказывала Гёте о композиторе, чьи фортепианные произведения уже были ему
известны, как о том свидетельствует его благодарственное письмо Бетховену от 25
июня 1811 года. Друг Бетховена барон Олива, должно быть, не раз играл поэту
бетховенские сонаты и песни. Правда, Гёте были непривычны взрывчатость,
эмоциональная насыщенность бетховенской музыки. Такую музыку трудно было во
всей полноте оценить человеку с музыкальным вкусом, воспитанным на ясной
прозрачной мелодике музыки Баха, Генделя, Моцарта и на вполне выразительных, но
при том непритязательных сочинениях Рейнхардта и Цельтера. Однако
"прелесть" и "великолепие", за которые поэт
412
хвалил картины
Рунге, восхитили его и в музыке Бетховена. Летом 1812 года в Теплице, когда для
Гёте все кругом было озарено светом новой звезды, императрицы Марии Людовики,
поэт не раз встречался с композитором. При этом неприятного столкновения между
ними, о котором так часто рассказывали, на самом деле не было вовсе.
"Вечером ездил с Бетховеном в Билин", "Вечером у Бетховена. Он
замечательно играл" — вот записи в дневнике поэта (от 20 и 21 июля
После встреч с
представителями молодого поколения поэта всякий раз переполняли новые
впечатления, но его пугало в этих людях отсутствие умеренности, как и их
необузданность, — все, что расходилось с его принципами, выработанными в ходе
напряженного изучения искусства античных мастеров и их последователей. И все же
поэт был теперь удивительно отзывчив ко всему, что прежде мало занимало его,
разумеется, если это новое преподносилось ему ненавязчиво и со знанием дела. Сульпиц
Буассере, безусловно, оказался мастером подобного посредничества в искусстве. К
тому же он встретился с Гёте в благоприятный момент, когда ум поэта был открыт
всему новому. Ведь к тому времени расширился его взгляд на многообразие и
различие исторических явлений, после того как он изучил груду материалов для
своей истории учения о цвете. Да и в процессе работы над автобиографическими
произведениями поэту вспомни-
413
лись собственные дерзостные
юношеские замыслы и проекты. Словно подхватывая идеи Гердера, Гёте отныне
признавал правомерность индивидуального, исторически специфичного. Вследствие
этого его "классический" догматизм, и без того укрепившийся лишь в
сфере чистой теории, утратил свою роль. Гёте понял, что "невозможно
написать всемирную историю с позиций морали. Когда нравственные критерии
пригодны, испытываешь удовлетворение; когда же они недостаточны, труд
[историка] остается несовершенным и неизвестно, куда клонит автор" (из письма
Рейнхарду от 22 июля
Сульпиц Буассере
заблуждался, когда в мае 1811 года, после долгих бесед с Гёте, приобретавших
все более дружеский характер, решил, будто ему удалось преодолеть
"предрассудки одного из умнейших людей мира" и сделать его адептом
старинного немецкого церковного искусства. Гёте просто любезно принял к
сведению все, с чем его познакомили, но это не значит, что он присоединился к
кругу восторженных поклонников христианского средневековья. К тому же ему
понравился молодой Буассере, Связь эта не прерывалась до самой смерти Гёте;
взаимная терпимость
414
способствовала
интенсивной переписке. Гёте никак не противился тому сильному впечатлению,
какое произвели на него картины мастеров позднего средневековья, хотя он вовсе
не отошел от своего античного идеала. С другой стороны, и Буассере не объявлял
столь милые его сердцу шедевры вершиной искусства как такового.
Если в прежние годы
Гёте не проникал в глубь истории дальше XVI века, века Мартина Лютера, Готфрида фон Берлихингена и Ганса Закса, то
теперь он стал читать также произведения средневековой немецкой литературы
("Анналы" за 1809 год). Разумеется, знакомство с этой литературой
отличалось фрагментарностью, и нелегко было ему преодолевать барьер, отделяющий
читателя начала XIX века от этих книг: ведь
"в промежутке пролегло все изменяющее время" ("Анналы" за
1811 год). Не дрогнул поэт и в своих эстетических идеалах. "Я вкушал яства
на пиру у Гомера, у Нибелунгов, но мне больше всего по душе широкая и глубокая,
вечно живая природа, творения древнегреческих поэтов и скульпторов", —
писал Гёте своему другу Кнебелю 9 ноября 1814 года, кстати сказать, сразу же
после посещения галереи братьев Буассере в Гейдельберге. Как и многих его
современников, поэта заворожила "Песнь о Нибелунгах". Как о том
свидетельствуют "Анналы", Гёте познакомился с этим эпосом самое
позднее в 1806 году, а к доскональному его изучению приступил после того, как
Фридрих Генрих фон дер Хаген прислал ему свою современную обработку
"Нибелунгов". Из наброска рецензии на перевод эпоса Карлом Зимроком
(1827 год) видно, что Гёте воспринимал это произведение как "языческое в
своей сущности", где не отыщешь "и следа господствующей божественной
силы". Еще и тем нравился Гёте этот древний эпос, что его никак не могла
захватить в свое русло "тенденция возврата к средневековью",
исходящая от католических кругов, хоть Август Вильгельм Шлегель и утверждал,
будто в нем ощущается дух христианства. "Знание этого поэтического эпоса —
необходимая ступень национального образования", — записал Гёте в своем
наброске рецензии. А в годы наполеоновских войн он видел, как патриотические
чувства побуждали образованную часть общества с особым восторгом обращаться к
памятникам германской старины ("Анналы" за 1807 год). Освоение
древних истоков собственного прошлого должно было укрепить национальное сознание
— в
415
противовес
чужеземному господству и раздробленности нации.
Каждую среду, на
собраниях в собственном доме, Гёте читал "Нибелунгов" вслух и тут же
строчку за строчкой переводил эпос. С конца 1805 года раз в неделю, по средам,
в утренние часы, поэт устраивал у себя дома частные чтения, на которые
приглашались дамы веймарского двора и высшего света. Так поэт обрел аудиторию,
которой мог рассказывать о своих литературных и, что было для него особенно
важно, естественнонаучных работах. С осени 1807 года Гёте устраивал на дому еще
и концерты, и по четвергам к нему являлись певцы придворного театра. Возник
небольшой хор, исполнявший духовные и серьезные светские вокальные
произведения, а в 1810 году этот хор даже выступил перед приглашенными
зрителями в театре. В подборе нотного материала помогал Цельтер. Чтения по
средам и домашние концерты по четвергам, как показывают документы, проводились
до 1814 года. Это была попытка организовать культурное общение, которое в
чем-то стабилизировало бы повседневную жизнь поэта. К тому же в то тревожное
время таким образом возникали островки дружеского общения, и никто не требовал
от гостей гётевского дома каких-либо сокровенных признаний. Таков был и салон
Иоганны Шопенгауэр, где часто бывал Гёте: здесь в приятной, непринужденной обстановке
встречались образованные люди, сословные преграды отодвигались на второй план и
искусно направляемое общение создавало все условия для отдохновенной беседы.
Когда мировые
события принимали угнетающий оборот, Гёте обычно брался за дело, которое больше
всего его занимало или же помогало унестись мыслями вдаль. Для этой цели
годилась и случайная работа. В 1807 году умер художник Филипп Хаккерт. Перед
смертью он поручил Гёте издать его жизнеописание и дневники разных лет —
художник подружился с поэтом еще во времена его первого итальянского
путешествия. Хаккерт в свое время приобрел известность пейзажами, написанными
"с натуры". В своих картинах он стремился к топографической точности
(сохраняя в них в то же время черты "идеального пейзажа"). Его работы
имели успех как у любителей неприукрашенной природы, так и у тех, кто желал
получить изображение увиденного в Италии в память
416
о собственном
путешествии в эту страну. Однако, согласно господствовавшим в ту пору взглядам,
предпочтение все же отдавалось "идеальным пейзажам", написанным в
порядке свободной композиции. С этими взглядами не стал бы спорить и Гёте: как
известно, он не считал "простое подражание природе" целью искусства.
Тем не менее он ценил картины Хаккерта, которого посетил в феврале 1778 года в
Неаполе — как "знаменитого пейзажиста". Все, кто, подобно Гёте,
внимательно созерцали природу, стремясь вникнуть в существующие в ней
взаимосвязи, должны были оценить хаккертовские "пейзажи с натуры",
пусть даже их исполнение (например, колорит) кое в чем оставляло желать
лучшего. Во время второго пребывания Гёте в Риме поэт и художник часто
встречались, и Гёте, в ту пору еще сам упражнявшийся в рисунке и в живописи,
восхищался Хаккертом, "обладавшим мастерским умением копировать природу и сразу
же придавать форму рисунку". Гёте исполнил волю покойного и в 1811 году
выпустил в издательстве Котты дневниковые записи художника, в основном
тщательно переработанные и снабженные еще и собственными добавлениями, под
названием "Филипп Хаккерт. Жизнеописание — в большей части на основе его
собственных заметок составленное Гёте".
Работа над автобиографией
Многолетняя работа
над автобиографической книгой "Поэзия и правда" вынуждала поэта
подолгу оставаться наедине с самим собой. 1 октября 1809 года, как свидетельствует
дневник, Гёте набросал "эскиз биографического сочинения", но лишь с
января 1811 года он начал систематически диктовать историю собственной жизни.
Перед этим он просил Беттину Брентано, которой очень многое рассказывала его
мать, снабдить его необходимым материалом. Кроме того, он углубленно занимался
изучением XVIII века и из этого тоже кое-что почерпнул. В
библиотеке он подобрал необходимую литературу, стремясь поставить свою жизнь и
свои поэтические опыты в контекст исторических событий эпохи. Осенью 1811 года
была уже напечатана первая часть автобиографии. Работа над ней быстро
продвигалась дальше. Вся Европа затаив дыхание следила за вторжением Наполеона
в Россию, горела Москва, французские войска отхлынули
417
назад, гремели
сражения, наконец в октябре 1813 года союзным войскам в битве под Лейпцигом
удалось одержать победу над завоевателем Европы — а Гёте все это время работал
над своей автобиографией. Вторая часть ее (книги шестая—десятая) была готова в
1812 году, третья (книги одиннадцатая—пятнадцатая) — в 1814 году. Однако даже в
этой третьей части еще не нашла отражения пора любви поэта к Лили Шёнеман —
1775 год. И тут работа застопорилась. "Поэзию и правду" заслонило
другое: впечатление от путешествий по Майну, Рейну и Неккару в 1814—1815 годах,
нежданная в своей щедрости поэтическая жатва — "Западно-восточный
диван". Когда же Гёте вернулся к работе над автобиографией, то не решился
описать последний год своей жизни во Франкфурте, с его сумятицей и сложными
отношениями поэта с Лили Шёнеман (а может, и потому, что еще была жива его
бывшая невеста). Вместо этого в 1813—1817 годах, используя старые письма и
заметки, он написал "Итальянское путешествие", за которым в 1822 году
последовали очерки "Кампании во Франции" и "Осада Майнца".
Только в 1824 году поэт снова приступил к работе над "Поэзией и
правдой" и завершил начатые книги цикла в октябре 1831 года — хотя и тут
дошел только до описания своего отъезда в Веймар осенью 1775 года. Четвертая
часть автобиографии (книги шестнадцатая—двадцатая) увидела свет лишь после
смерти поэта.
Первому тому
"Поэзии и правды" Гёте предпослал вступление, в котором привел
"письмо друга", недовольного разнородностью художественных
произведений, вошедших в изданное перед тем собрание сочинений поэта. Глядя на
эти книги, подчеркивал друг, "конечно же, хочешь с их помощью составить
себе представление об авторе и его таланте" (3, 9).
Да, не раз уже
приходилось Гёте выслушивать пожелание, чтобы его произведения были расположены
в хронологическом порядке и прокомментированы. Восполнить этот пробел могло
лишь широкое повествование, написанное в стремлении решить
"труднодостижимую" задачу, следующим образом сформулированную Гёте:
"Думается, что основная задача биографии в том и состоит, чтобы изобразить
человека в его соотношении с временем, показать, в какой мере оно было ему
враждебно и в какой благоприятствовало, как под воздействием времени сложились
его воззрения на мир, на людей и каким образом, будучи
418
художником, поэтом,
писателем, он сумел все это вновь воссоздать для внешнего мира" (3, 11).
Этому принципу и
следовал Гёте в своей "Поэзии и правде"; так возникла (пусть
незавершенная) биография, составленная с невиданной по тем временам
методичностью. Антагонизм и созвучие эпохи и творческой личности; "я"
и окружающий его мир в столкновении, способствующем раскрытию творческих сил;
самый путь развития от детских лет к дерзаниям юности; сложное переплетение
мгновений счастья и разочарований; обретение и утрата друзей; переработка
внешних влияний и собственного опыта — все это стало предметом автобиографии.
Здесь, правда, не следует ждать "объективного" повествования.
Оглядываясь на собственную жизнь и творчество, автор книги стремился выявить
"главную правду", определившую его жизненный путь. Такое, однако, как
впоследствии объяснял Гёте королю Баварии Людвигу I, невозможно "без обращения к
ретроспективной памяти и, стало быть, к воображению", а значит, неизбежно
"некоторым образом употребить свои поэтические способности". Вот
почему в название он включил слово "поэзия", "дабы правду, какую
я осознал, использовать для моих целей" (11 января
В 1813 году по
завершении третьей части книги Гёте набросал предисловие (тогда так и не
напечатанное), в котором объяснял, каким образом он начал строить весь
автобиографический цикл в согласии с законами, "коим нас учит метаморфоза
растений". Старому Гёте, работавшему над автобиографией, важно было
представить собственную жизнь как некий непрерывный рост, как постепенный
процесс созревания, наконец, как метаморфозу, как образец развития отчеканенной
природой живой формы. Впечатляет, как в седьмой книге Гёте отобразил процесс
развития литературы в XVIII веке, стремясь
определить свое место в истории литературы и выявить специфику своего
поэтического творчества: с помощью поэтического воображения, способного
перерабатывать жизненные впечатления и опыт, Гёте, неудовлетворенный
традиционными образцами истолкования бытия, давал свое истолкование жизни и
мира. Этот впечатляющий обзор оказал немалое влияние на многие литературоведческие
работы (что отнюдь не во всех случаях шло им на пользу). Биография пестрит
разного рода историями, рассказами о родном городе, о родительском доме, о
детстве и юности, о важных
419
встречах и
знакомствах в Лейпциге и Страсбурге. И многие ранние увлечения поэта
оказываются исполненной глубокого смысла прелюдией к последующему. Для всякого
изучающего творчество Гёте этот литературный автопортрет остается бесценным
документом, который вместе с тем необходимо рассматривать как некий искусный
сплав правды с поэтическим вымыслом. Автор биографии перемежает свое
повествование рассуждениями общего характера, призванными на частном примере
жизни выявить поучительные черты развития человеческой личности вообще.
Между тем выводы,
какие мог бы сделать читатель из истории и итогов жизни, описанной в этой
книге, неприменимы ни к какой другой судьбе. Слишком уж исключительное стечение
обстоятельств сопутствовало расцвету этой неповторимой личности, наделенной
величайшими творческими способностями. Оглядываясь назад на свою жизнь и
стремясь истолковать ее под знаком непрестанной метаморфозы, Гёте мог добиться
этого лишь ценой переосмысления того, что было на самом деле. Так, многое из
того, что в пору юношеского периода "Бури и натиска", несомненно,
было бунтом против власть имущих и против социального гнета, теперь подверглось
переосмыслению, поскольку некоторые переломные моменты и элементы
непоследовательности как на жизненном, так и на творческом пути Гёте никак не
укладывались в общую концепцию книги. К тому же в сознании Гёте пустила
глубокие корни боязнь всякой революционности. Стало быть, та интерпретация
собственной жизни, которой на склоне лет хотел придерживаться поэт, была
невозможна без определенной несправедливости по отношению к самому себе и к
сподвижникам своей юности.
"Поэзия и
правда" — это апофеоз творческой личности, рисующий картину такого слияния
жизни и творчества художника, какого на самом деле не существовало.
Следовательно, перед автором этой книги должна была встать неразрешимая дилемма
при освещении периода своего первого веймарского десятилетия, если, конечно, он
собирался описывать его в русле той же концепции. Вот почему в его
автобиографических сочинениях зияет пробел: никак не освещен период с 1776 по
1786 год, когда для Гёте многое было важнее, чем забота о своем художественном
творчестве.
420
Отрешенность вместо воодушевления.
Время освободительных войн
Когда Наполеон
вступил в Москву и русские ради изгнания захватчика пошли на то, чтобы поджечь
свою столицу (с 15 по 20 сентября
Прохладно и
отрешенно отнесся он и к патриотическому подъему, охватившему немцев, когда
Пруссия принялась оказывать французам сопротивление и мобилизовала все силы на
борьбу с захватчиками. Спасаясь бегством, Наполеон, почти никем не замеченный,
15 декабря 1812 года на пути в Париж проехал в простом экипаже через ночной
Веймар. Однако даже в этих условиях он поручил своему посланнику в Эрфурте,
барону де Сент-Эньяну, передать особый привет Гёте. Поэт поддерживал теплые
отношения с этим образованным французским бароном, отлично понимавшим роль
Веймара в культуре той эпохи, хотя барон справедливо подозревал герцога
Веймарского, члена Рейнского союза, в антипатии к Наполеону. Герцог, кстати,
назавтра же иронически заметил, обращаясь к Гёте: "А ты уже знаешь, что
Сент-Эньяну по-
421
ручено передать тебе
поклон от властителя тьмы? С тобой, как видишь, заигрывают и небеса, и
преисподняя" (16 декабря
В конце концов
Пруссия заключила союз с Россией и 27 марта 1813 года объявила войну Франции.
Наполеон по-прежнему не сдавался: после катастрофы в России чудом собрав новую
армию, он вел теперь ожесточенные бои и даже выиграл несколько сражений. Однако
победа союзных войск (к ним присоединилась еще и Австрия) в трехдневной
"битве народов" под Лейпцигом (16—19 октября
422
сильное впечатление
личность императора, непреклонно продолжавшего свою борьбу.
Гёте тогда надолго
покинул Веймар. Еще 17 апреля он отправился в Богемию, на этот раз в Теплице, и
путь его проходил через Лейпциг и Дрезден. Так как страна была заполнена
войсками, он путешествовал инкогнито. Однако неподалеку от Майсена его узнали
солдаты из добровольческого корпуса, и по их просьбе он согласился благословить
их оружие — ведь Гёте был для них кумиром немецкого духа. В Дрездене он побывал
у Кернеров, где встретил и Арндта (дневниковая запись от 21 апреля
"Ни надежды, ни
радости" — это выражение Арндта метко определяло скептическую позицию
Гёте, который в ту пору провел в Богемии все лето до середины августа. В своем
послании в канун 1814 года Карлу Августу Гёте называл минувший год
"печальным и ужасным", хотя в новогоднюю ночь войска под
командованием Блюхера перешли Рейн, чтобы преследовать Наполеона на французской
территории. После "битвы народов" под Лейпцигом Рейнский союз
распался, и веймарский герцог присоединился к антинаполеоновской коалиции,
причем его назначили командующим одного из германских воинских корпусов. В
январе 1814 года он выступил в поход с целью завоевания бельгийской части
Нидерландов. Справившись с этой задачей, он в конце апреля 1814 года выехал в
Париж, с 30 марта уже занятый войсками союзников; 11 апреля император отрекся
от престола. Понятно, что Карл Август со смешанными чувствами пошел навстречу
просьбе Гёте оградить его сына Августа от участия в военных действиях; кстати,
из-за этого Август предстал в невыгодном свете перед своими друзьями и
423
знакомыми. Еще в
1811 году он получил место асессора на герцогской службе, а впоследствии
выразил желание пойти в армию. Однако его назначили ординарцем к наследному
принцу, обретавшемуся в родном городе "до тех пор, пока молодой человек
пожелает здесь оставаться", как язвительно присовокупил герцог в своем
письме к Гёте (2 февраля
В декабре 1813 года
молодой историк Генрих Луден провел с Гёте длительную беседу, которую он
воспроизвел впоследствии, пожалуй, недостаточно достоверно. Луден искал
покровительства Гёте на предмет издания журнала под названием
"Немезида". Как "государственный чиновник", Гёте ничего не
мог возразить против намерения Лудена, однако в частном порядке он советовал не
приниматься за издание. Лудену, по мнению Гёте, следовало по-прежнему
заниматься научной работой, предоставить миру идти своим обычным путем.
Политический журнал, считал поэт, доставит Лудену лишь неприятности:
"Против вас обратятся все, кто обладает властью, вся знать; вы же хотите
защитить хижины от дворцов..." Консерватизм Гёте — он желал сохранить
существующий порядок, на крайний случай подвергнуть его улучшениям — был
прочен. Дальше, как сообщает Луден, разговор коснулся текущих политических событий.
Он отнюдь не равнодушен к "великим идеям свободы, народа, отечества",
сказал Гёте, ему дорога судьба Германии, а у немецкого народа, как он заметил,
"столь достойного в частностях и столь жалкого в целом", будущее еще
впереди. Но вот что касается настоящего: разве народ и вправду пробудился?
Разве люди знают, чего хотят? И разве удалось хоть чего-нибудь добиться?
Конечно, французов прогнали, однако теперь в германских землях — войска других
народов. "Мы с давних пор привыкли направлять наш взор лишь на запад и
любую опасность ждать лишь оттуда, но ведь суша простирается и далеко на
восток". Гёте опасался, как бы не произошла лишь смена гегемона. Слова
поэта произвели сильное впечатление на Лудена. Значит, лгали все, кто твердил
вокруг: будто у Гёте "нет любви к отечеству, будто ему чужды германский
дух и вера в свой народ и честь Германии, как и ее позор, счастье или беда
совершенно безразличны ему".
Рассказывая о
встрече с поэтом, Луден пользовался формулировками, которые сам Гёте воспринял
бы настороженно, ведь сомнительные последствия
424
некоторых из них
всем хорошо известны. Показательно, что поэт подчеркивал в той беседе: перед
наукой и искусством, принадлежащими всему миру, рушатся "национальные
барьеры". Гёте чувствовал, что патриотическая волна способна выплеснуть на
поверхность также и тупой национализм с его враждой ко всему иноземному. Еще и
поэтому он столь сдержанно относился к патриотическому энтузиазму периода
освободительных войн. Накал ненависти в клейстовской "Битве Германа"
никак не согрел бы его душу.
Между тем и он не
собирался оставаться в стороне, в роли безучастного наблюдателя, и, как
явствует из писем, сознавал важность освобождения страны от чужеземного
господства, как и то, "с какой благодарностью нам следует праздновать эту
победу" (из письма Фойгту от 11 июля
Но стыдно мне часов покоя.
Зачем я с вами не страдал?
Пред вашей скорбью и тоскою
Теперь ничтожен я и мал.
Правда, жрец тут же
оправдывает кающегося Эпименида:
Боги так определили,
Не хули их: ведь они
В тишине тебя хранили,
Чтоб ты зорче видел дни.
(Перевод С. Соловьева — IV, 474)
425
Сходную мысль Гёте
высказывал еще в ноябре 1813 года в одном из своих писем: в то время как многие
подающие большие надежды молодые люди были принесены в жертву на полях
сражений, те, кто остался трудиться в своей мастерской, обязаны бережно хранить
"священный огонь науки и искусства" (из письма к Ф. И. Йону от 27
ноября
Гёте написал
"Пробуждение Эпименида" в тихом городке, неподалеку от Веймара, где с
1812 года был открыт небольшой серный курорт. Кстати, Гёте принимал участие в
его создании советами и контролем ("Краткий обзор возможного устройства
купального заведения в Берке на Ильме", 22 января
В мае и июне 1814
года он провел в этом уединенном городке полных шесть недель в обществе
Кристианы и ее подруги Каролины Ульрих. "Здесь так тихо и мирно, как будто
[...] за сотню миль отсюда вообще нет военной суеты" (из письма X. Мейеру от 18 мая
Ранней весной 1814
года, однако, его полонило нечто совсем далекое и увело прочь от смутной
современности. Духовная эмиграция была для Гёте вполне возможна, в согласии с
его девизом: "Едва в мире политики вырисовалась серьезная угроза, как я
тотчас своевольно уносился мыслями как можно дальше" ("Анналы"
за 1813 год). Здесь в Берке Гёте прочитал стихотворения персидского поэта
Хафиза в переводе Йозефа фон Хаммер-Пургшталля. Это была восточная лирика, где
дурманяще сплетались чувственное и духовное начала, где немалую роль играло
волшебство многообразных намеков. И если прежде Гёте не удавалось что-либо
воспринять из отдельных стихотворе-
426
ний этого поэта, то
теперь полное собрание этих стихов попросту заворожило его. Но он еще не знал,
к каким удивительным творческим свершениям оно приведет его самого.
Наедине с Хафизом. Путешествие на Рейн
Уже само по себе то,
что на седьмом десятке Гёте удалась такая щедрая жатва — цикл лирических
стихотворений, впоследствии (1819) собранных в "Западно-восточном
диване", — было крупным творческим событием. Ведь эти стихотворения никак
не были связаны с его прежним лирическим творчеством — возник совершенно новый
поэтический язык. Не кто иной, как Хафиз, персидский
поэт XIV века, вновь вдохновил Гёте на собственное
творчество: именно лирика Хафиза и своей тематикой, и своим языком предоставила
Гёте на данном этапе его жизни необходимый набор выразительных средств, чтобы
он мог отлить в стихи собственные мысли и чувства. Лирика Хафиза отличалась
точностью в передаче оттенков чувств и тонким переходом к духовности,
жизнерадостной прямолинейностью и прозрачностью мысли, поднимающейся до высоких
обобщений, мощностью земного начала и субъективным ощущением божественного, — о
каких бы событиях или предметах ни шла речь, всюду в стихах присутствовали
серьезные, а не то и шутливые размышления поэта. Западные читатели, равно как и
поэт, вдохновленный Хафизом на собственное творчество, в этом чужеродном для
них мире отдалялись от современности, но при том не тонули в безвременье и
беспредметности, поскольку дух, пронизывавший и направлявший эту чужеродную
поэзию, порождал и взгляд, и мысли, способные обратиться и на собственный,
родной читателю и поэту мир и на собственное бытие, независимо от того,
затрагивает ли их происходящее, или же они словно бы сверху созерцают его,
"поскольку вообще сей род поэзии, — как отмечал Гёте, — предполагает некую
скептическую подвижность ума".
Сам Гёте обстоятельными
"Примечаниями" пытался способствовать лучшему пониманию
"Дивана" (по-персидски это слово означает "сборник",
"собрание", в данном случае — "сборник песен"); в них, как
и в некоторых из своих писем, Гёте детально описал сущность поэзии этого рода и
разъяснил, насколько
427
она была созвучна
его душевному настрою. «Между тем накапливаются новые стихи для
"Дивана"», — писал он Цельтеру 11 мая 1820 года. "Эта
магометанская религия, мифология, этика открывает простор поэзии,
приличествующей моим годам. Безусловная покорность неисповедимой господней
воле; беспечальный взгляд на неугомонную земную суету, неизменно повторяющуюся
по кругу или по спирали; любовь, взаимное влечение; и все это — словно бы между
двумя мирами, где все реальное просветлено, растворено в символике". И
еще: "Наивысшая суть поэтического искусства Востока есть то, что мы,
немцы, называем духом... Дух же по преимуществу — прерогатива старости или же стареющей мировой
эпохи. У всех поэтов Востока находим мы некий общий взгляд на окружающий мир,
иронию, свободную игру таланта" ("Примечания").
Гёте не переводил
Хафиза, а лишь, вдохновившись всем духом его поэзии, использовал отдельные темы
ее и мотивы. Отказавшись от подражания искусственной форме газели, он писал
стихи, весьма многообразные по форме: здесь и афористические двустишия, и
длинные стихотворения, и обычные четверостишия соседствуют с вольным стихом.
Открывает "Диван" стихотворение под названием "Гиджра", и
уже в нем звучат многие мотивы всего цикла. Гиджра — это бегство Магомета из
Мекки в Медину в 622 году н. э., с которого и берет начало новое магометанское
летосчисление. Потому первая строфа и читается как символ: здесь бегство на
Восток знаменует начало новой эпохи:
Север, Запад, Юг в развале,
Пали троны, царства пали.
На Восток отправься дальний
Воздух пить патриархальный,
В край вина, любви и песни,
К новой жизни там воскресни.
(Перевод В. Левика — 1, 321)
25 июля 1814 года
Гёте отправился в Висбаден. Семнадцать лет не бывал он в родном крае между
Рейном и Майном. Теперь тревоги военных лет утихли; созданием "Пробуждения
Эпименида" поэт искупил свою "вину" перед согражданами. За годы,
прошедшие после смерти Шиллера, смягчился строгий взгляд Гёте на принципы
искусства, отчасти под влиянием
428
множества новых
впечатлений. Поэт завершил третью часть "Поэзии и правды",
заставившей его мысленно вернуться в годы юности. Хафиз воодушевил его,
позволив по-новому взглянуть на мир, на жизнь, вдохновил на новые стихотворные
раздумья. И если еще в Берке возникли первые стихи, то теперь, во время поездки
на запад, появлялось одно стихотворение за другим. Проломив лед скованности,
поэт жадно впитывал новые впечатления и утром первого дня своего путешествия
свободно, иронически-игриво изобразил предчувствия старца.
ФЕНОМЕН
Чуть с дождевой стеной
Феб обручится,
Радуги круг цветной
Вдруг разгорится.
В тумане круг встает,
С прежним несходен :
Бел его мутный свод,
Но небу сроден!
Так, не страшась тщеты,
О старец смелый!
Знаю, полюбишь ты,
Хоть кудри белы.
(Перевод Н. Вильмонта — 1, 327)
Одно за другим
следуют два явления природы: одно — заимствованное из арсенала памяти, другое —
увиденное только что, нынешним ранним утром, и мысленно поэт никак их не
связывает. Перед нами всего лишь образы, легко переплавляемые на язык поэзии:
Феб обручился с дождевой стеной — и вспыхнула радуга. А дальше, вслед за
начальным "так" третьей строфы, раскрывается символический смысл
образа — в спокойном, иронически-шутливом обращении поэта к самому себе,
завершающемся решительным заверением: "Знаю, полюбишь ты".
Разумеется, потребовалась смелость, чтобы провести здесь параллелизм с явлением
природы, но лирике Востока такая смелость свойственна. А видеть в радуге символ
было привычно для автора "Учения о цвете". Правда, в ней не представлены
все цвета: отсутствует "главный цвет — чистый красный, пурпур",
однако богатство красок в ней налицо. В своей поэтической символике
429
греки уподобили
радугу прелестной девушке, дочери Изумления. Она как бы предвестница
счастливого будущего. Но и белый круг в тумане — хоть и "мутный свод, но
небу сроден", и создан он солнцем, источником света. Скупые намеки и
раскрытие потаенного смысла, мимолетные зарисовки, однако отсылающие к
обобщению, — таковы стилевые особенности лирики позднего Гёте (который временами
при других обстоятельствах писал также стихи в иной, что называется, более
рассудочной манере).
28 июля Гёте прибыл
во Франкфурт. Вечером он гулял по городу. "Напоследок прошел и мимо нашего
старого дома. Внутри послышался бой часов. Очень знаком был мне этот звук"
(из письма Кристиане от 29 июля
И все это время
по-прежнему рождались стихи. В конце августа Гёте сообщил Римеру:
"Стихотворений к Хафизу набралось уже около тридцати" (письмо от 29
августа
Скрыть от всех! Подымут травлю!
Только мудрым тайну вверьте:
Все живое я прославлю,
Что стремится в пламень смерти.
430
В смутном сумраке любовном,
В час влечений, в час зачатья,
При свечей сияньи ровном
Стал загадку различать я.
Ты — не пленник зла ночного!
И тебя томит желанье
Вознестись из мрака слова
К свету высшего слиянья.
Дух окрепнет, крылья прянут,
Путь не труден, не далек,
И уже, огнем притянут,
Ты сгораешь, мотылек.
И доколь ты не поймешь:
Смерть — для жизни новой,
Хмурым гостем ты живешь
На земле суровой.
(Перевод Н. Вильмонта — 1, 332)
На самом раннем
чистовом варианте этого стихотворения Гёте надписал: "Книга Саада, газель
первая", потом он назвал его "Самопожертвование", затем —
"Совершенство" и, наконец, в 1819 году — "Блаженное
томление". Образец, на основе которого оно создавалось, не является
оригинальным творением Хафиза — его всегда считали типичным образцом персидской
лирики, средним по качеству. В нем присутствуют все известные, многократно
использованные мотивы любовной лирики. Поэт повествует о превращении, о
самопожертвовании в порыве самозабвенной любви. Кое-что из этого персидского
стихотворения запоминается: образ свечи, превращающейся в пламя; сравнение с
мотыльком, сгорающим в нем; превращение обыкновенной материи в благородное
золото; презрение к непосвященным, не ведающим истины. Филологи, возможно,
установят, что именно поэт, автор этого созданного в Висбадене
"западного" стихотворения, перенял из персидского образца, придав ему
совершенно новую форму. Вообще из восточной поэзии Гёте издавна был знаком
образ мошки, в любовном томлении бросающейся в пламя горящей свечи. "На
маскараде я опять видел только твой глаза, — писал он 23 февраля 1776 года
Шарлотте фон Штейн. — И подумал о мошке, летящей на огонь" (XII, 188).
При своей
совершенной простоте и прозрачности
431
это стихотворение в
то же время — одно из труднейших для понимания, одно из самых глубоких творений
Гёте. Символическое восприятие действительности и символика стихов старого
поэта сплетают утонченный узор вокруг наглядного мотива персидской газели:
мотылек сгорает в пламени свечи. Наблюдая естественное явление, знакомое всем и
каждому, Гёте воспринимает его как символ поступательного движения жизни через
превращения, которые необходимы, если человек стремится к высшей цели. В
четырехстрочных лирических строфах поэт невозмутимо провозглашает мудрую
истину: "Смерть — для жизни новой!" Такая форма строфы встречается в
"Диване" чаще всего, и особенно в "Книге Зулейки" ей
доверены важнейшие высказывания поэта. Последняя строфа, однако, четко
отличается от других размером, как и двумя укороченными строчками:
символическое значение события укладывается в афористичное наставление,
предназначенное для "мудрых". Начальные строки этого стихотворения,
предостерегающие читателя против толпы ("Скрыть от всех! Подымут
травлю!"), перекликаются как с одним из мотивов персидского оригинала, так
и с горациевским "Odi profanum volgus et arceo" ("Ненавижу подлую толпу и держусь от нее
вдали") или, наконец, со словами Христа о жемчуге, который не следует
метать перед свиньями.
Однако у Гёте
основной акцент — на самом желании скрыть истину от всех. Он вложил в свое стихотворение
самое важное и сокровенное, что можно открыть лишь самым достойным и мудрым.
Гёте умел окружить себя стеной молчания, когда дело касалось сугубо личных
переживаний.
Символический язык
столь насыщен, что обращение на "ты" в том же стихотворении не
определяет адресата: то ли о человеке речь, то ли о мотыльке. В предназначенной
для "мудрецов" притче о мотыльке, сгорающем в пламени свечи, образно
воплощено вполне понятное этим мудрецам, лишь на первый взгляд парадоксальное
утверждение: все истинно живое должно стремиться к смерти, равносильной
возвышающему превращению. "Все живое" — это та жизненная сила,
которая не застывает на месте, а стремится дальше, вперед. Она действует в
самом живом существе, готовом к все преображающей жертве. Ведь происходит
соединение, "высшее слияние", а не просто биологический акт соития
"в смутном сумраке любовном", когда жизнь передается дальше. Ровное
432
сияние горящей свечи
пробуждает неведомое желание, то самое блаженное томление, о котором возвещает
название стихотворения, с его несколько религиозным звучанием. Тьма и свет,
точнее, полярность их, известная из "Учения о цвете", пронизывает все
стихотворение, приобретает символическое значение, как, впрочем, и полутень,
"хмурость", лишь наполовину пропускающая свет. "Хмурым гостем ты
живешь на земле суровой": кто не стремится вырваться из границ привычного,
ввысь, к свету, как к сверхчувственному, духовному началу, придающему смысл
бытию, не отваживается испытать "смерть" превращения, для чего
требуется самоотречение, тот останется пленником тьмы. Так в символическом
образе сжигающего себя мотылька заключено представление о смерти и возрождении
как о расставании с нижней ступенью развития и восхождении на новую, более
высокую ступень.
Поэту, написавшему
это стихотворение в Висбадене, казалось, будто он и сам испытал подобное
превращение. Оно совершилось в нем сейчас и совершалось раньше, всякий раз, как
он пытался совладать со своей беспокойной жизнью. В этом смысле "Блаженное
томление" — своеобразное оправдание собственного существования, при
котором изломы и осложнения жизненного пути устраняются в сознательном процессе
превращения. Сосредоточенность на собственной личности, самоосуществление —
всего этого еще мало: нужна любовь, такая, чтобы любящие взаимно дополняли друг
друга. Эта истина высказана в часто неверно цитируемом стихотворении, где
Зулейка поначалу высказывает расхожее мнение: "Раб, народ и угнетатель /
Вечны в беге наших дней. / Счастлив мира обитатель / Только личностью
своей". Но Хатем возражает ей: "Да, я слышал это мненье, / Но иначе я
скажу: / Счастье, радость, утешенье — / Все в Зулейке нахожу" (перевод
В. Левика — 1, 375).
Одним из важных
эпизодов поездки в западные области Германии в 1814 году был визит в
Гейдельберг (с 24 сентября до 8 октября), полностью посвященный осмотру
старинных шедевров из собрания картин братьев Буассере. "Надо признаться,
они и впрямь заслуживают, чтобы к ним совершали паломничество", — писал
Гёте 25 сентября Кристиане, которой он подробно рассказывал о своем путешествии.
433
Однако,
возвратившись в Веймар и вновь оказавшись в своем привычном кругу, поэт все же
решил несколько отгородиться от модного увлечения голландским искусством.
Разумеется, он не думал пренебрегать этими сокровищами, а все же в его письме к
Сульпицу Буассере прозвучал недвусмысленный намек: просматривая свои бумаги на
предмет написания "Итальянского путешествия", сообщал Гёте, ему, по
счастью, редко приходилось сожалеть об ошибках, но зато гораздо чаще —
посмеиваться над односторонними суждениями.
Хатем и Зулейка
На следующий год
поэта вновь потянуло в пределы Рейна, Майна и Неккара. Снова встретился он с
Марианной Юнг, которая минувшей осенью стала женой фон Виллемера. Встреча эта
заворожила обоих: оба испытали глубочайшее потрясение, восторженную взаимную
приязнь. Впрочем, никогда не удастся прояснить до конца, что же оба чувствовали
в ту пору. Помимо всего прочего, они были еще и равноправными партнерами в
сугубо литературной затее — в поэтическом мире Хафиза. Зимой и весной 1815 года
Гёте продолжал писать стихи для "Дивана". Еще глубже проник он в мир
Востока, еще ближе познакомился с творчеством других персидских поэтов.
"Немецкий диван" — так предполагал он назвать сборник теперь уже из
ста стихотворений, перечисленных в списке, составленном самим автором 30 мая
1815 года в Висбадене ("Висбаденский список"). И если бы этот состав
увидел свет, мы недосчитались бы в нем многого и очень существенного из того,
что вошло в окончательный вариант "Дивана". Не было еще деления на книги,
да и готова была лишь шестая часть стихов, впоследствии включенных в
"Книгу Зулейки" — в эту фантастическую книгу любовных диалогов Хатема
и Зулейки. Однако уже в первый день этого нового путешествия на запад Германии,
24 мая 1815 года, в Эйзенахе, родились те строки, где любящие обрели свои
"имена": зазвучала увертюра к поэтическому дуэту, которому суждено
было стать дуэтом не только поэтическим:
Ты же, ты, долгожданная, смотришь
Юным взором, полным огня.
434
Нынче любишь, потом осчастливишь меня,
И песней тебя отдарить я сумею.
Вечно зовись Зулейкой моею.
* * *
Если ты Зулейкой зовешься,
Значит, прозвище нужно и мне.
Если ты в любви мне клянешься,
Значит, Хатемом зваться мне.
(Перевод В. Левика — 1, 366—367)
Все переживания
поэта, как и его счастье, могли войти теперь в поэтический контекст и слиться с
ним. Итак, перед нами Хатем-Гёте и Зулейка-Марианна. В одном из стихотворений,
написанных уже осенью, имя "Гёте", которое должно было рифмоваться с
немецким "Моргенрете" (рассвет), заменено именем "Хатем".
Вами, кудри-чародеи,
Круг мой замкнут вкруг лица.
Вам, коричневые змеи,
Нет ответа у певца.
Но для сердца нет предела,
Снова юных сил полно:
Под снегами закипело
Этной огненной оно.
Ты зажгла лучом рассвета
Льды холодной крутизны,
И опять изведал Хатем 1
Лета жар и мощь весны.
Кубок пуст! Еще налей-ка!
Ей во славу — пьем до дна!
И пускай вздохнет Зулейка,
Что меня сожгла она.
(Перевод В. Левика — 1, 377—378)
Разумеется, нельзя
восстановить перипетии любовного романа на основе стихотворений "Книги
Зулейки". Что на самом деле произошло между Марианной фон Виллемер и Гёте
летом и осенью 1815 года — это так и
1 В русском тексте не передана эта "измена" ожидаемой рифме. — Прим. перев.
435
остается личной их
тайной, которая вместе с тем сохранена для потомков в лирическом наследии
"Дивана" и этой же поэзией украшена. Марианна умела ответить поэту
собственными стихами и настолько точно почувствовала тон диалогов Хатема и
Зулейки, что стихи ее органично вошли в сборник. Письма, которые они в первые
годы после той встречи иногда посылали друг другу, содержали лишь скудные, хоть
и вполне прозрачные, намеки. А приглашения, которое не раз повторялось обоими
супругами Виллемер, Гёте так и не принял. Может быть, поэт, автор стихов о
вулкане Этна, стремился избежать повторения романа, случившегося у него с
Зулейкой в 1815 году, не зная, как он справится с ним? Одно из своих писем к
Гёте — от 1 августа 1816 года — Марианна закончила уверением: "...с
теплом, от всей души, разделяю я с Вами как радость, так и боль, пусть даже я
не умею это выразить. Неизменно Ваша Марианна". А в
Марианна Юнг,
родившаяся в Австрии в 1784 году, в 1798 году попала во Франкфурт в составе
театральной труппы. И не один только Клеменс Брентано был очарован этой юной
танцовщицей, актрисой и певицей, которой он посвятил ряд стихотворений в своих
"Романсах о розарии". Иоганн Якоб фон Виллемер, банкир, любитель
театра и разносторонний писатель-популяризатор, перед тем дважды уже
овдовевший, в 1800 году ввел шестнадцатилетнюю Марианну в свой дом, на что,
вероятно, толкнуло его не только стремление покровительствовать театру и жрецам
искусства. Гёте периодически переписывался с ним, а когда поэт в 1814 году
посетил Висбаден, состоялось и его знакомство с Марианной. За этим последовали
визиты Гёте в Гербермюле, усадьбу Виллемера вблизи от Франкфурта. А 27 сентября
1814 года Виллемер женился, пожалуй со странной поспешностью, на этой девушке,
давно уже жившей в его доме, хотя она была моложе его на целых двадцать пять
лет. 18 октября новоиспеченные супруги вместе со своим гостем созерцали из
домика на винограднике Виллемера праздничный фейерверк, устроенный по случаю
годовщины битвы под Лейпцигом; до глубокой старости оба —
436
и Гёте и Марианна —
вспоминали об этом дне.
Возможно, еще зимой
1814—1815 годов в памяти поэта всплыли приятные впечатления первых встреч с
Марианной, когда в декабре он получил назад свой альбом с записями супругов
Виллемер. Марианна вписала в этот альбом забавные стишки, начинавшиеся так:
Ростом я совсем мала,
Милой крошкой звал меня ты.
Так зови меня всегда ты —
Будет жизнь моя светла.
(Перевод А. Гугнина)
Однако уже в августе
и сентябре 1815 года страсть прорвалась наружу. С середины августа до середины сентября
Хатем-Гёте жил в усадьбе Гербермюле, но и он, и Марианна знали, что им придется
отказаться от своего счастья. Шестидесятипятилетний поэт пережил
"временное омоложение", "повторную возмужалость", как он
сам впоследствии, спустя десять лет, объяснил в беседе с Эккерманом: "у
доподлинно одаренных людей даже в старости мы еще наблюдаем наступление эпох
неутомимой продуктивности", тогда как "другие молоды только
однажды" (запись 11 марта
Отъезд из Гейдельберга
7 октября 1815 года напоминал бегство. "И вот сорвало меня с места и гонит
домой — через Вюрцбург" (но отнюдь не через Франкфурт. — Прим.
авт.), — писал он днем
раньше Розине Штэдель, урожденной Виллемер. Но, в сущности, адресовано письмо
было Марианне. И Якобу Виллемеру
437
Гёте намекнул на
свое положение, в котором "хоть и присутствует душевный разлад, но я не
намерен умножать, а уж лучше — уничтожу". Слова эти были обращены "к
тем двум людям", "которые пребывают в счастливом союзе, коему можно лишь
завидовать" (6 октября
ВОСХОДЯЩЕЙ ПОЛНОЙ ЛУНЕ!
Дорнбург, 25 августа 1828 года
Ах, куда ж ты убегаешь!
После близости такой.
Лик мелькнувший укрываешь
Темной тучей грозовой.
Но, узрев, что я печалюсь,
Как звезда, киваешь мне,
И надеждой упиваясь,
Я люблю тебя вдвойне.
Сбрось покровы! Ярче, ярче,
Всю красу свою яви!
И пусть бьется сердце жарче
В ночь блаженства и любви.
(Перевод А. Гугнина)
В 1816 году поэт собирался
вновь отправиться на запад вместе со своим другом, знатоком живописи Генрихом
Мейером. Однако вскоре после того, как они тронулись в путь, карета
перевернулась, и спутник Гёте получил травму. Восприняв это как дурное
предзнаменование, поэт отказался от путешествия и
1 Ср. стихотворение "Привет" из "Книги любви" и примечание к нему (1, 501): "Легенда гласила, что птица Худхуд (удод) была посредником в любви царя Соломона и царицы Савской". Дело в том, что однажды во время прогулки Гёте и Марианны в Карлсбаде дорогу им перебежал удод. — Прим. перев.
438
удовлетворился
пребыванием на небольшом курорте Теннштедт. Больше он ни разу не бывал ни во
Франкфурте, ни на Майне, Рейне и Неккаре.
“Западно-восточный диван”
Только в 1819 году
был наконец опубликован "Западно-восточный диван", но и впоследствии
к нему добавлялись стихотворения, которые вошли в его состав в последнем
прижизненном издании сочинений Гёте. Поэт сопроводил свой "Диван"
"Примечаниями и исследованиями для лучшего понимания "Западно-восточного
дивана", предназначавшимися для сведения тех читателей, "кто почти
или вовсе не знаком с Востоком". Они вводят читателя в историю, литературу
и религию Востока и свидетельствуют о давнем живом интересе Гете к еврейской и
мусульманской культуре Ближнего Востока. Свои стихотворения поэт сгруппировал в
двенадцать книг и каждую из них снабдил загадочным восточным названием
(например, "Моганни-Наме") и понятным немецким ("Книга
певца").
О пропорциональности
частей он не заботился: "Книга парса", по существу, осталась таким же
фрагментом, как и "Книга Тимура" — в каждой всего по два
стихотворения. В последней поэт, видимо, перевел на язык поэзии свои раздумья о
личности Наполеона. И все же в "Западно-восточном диване" одно с
другим тесно переплетено. В Хафизе стареющий Гёте встретил родственную душу. Он
увидел в нем поэта-мудреца, обретавшегося в мире чувственных наслаждений и
страданий, слабостей людских и взлетов и обозревавшего все вокруг веселым,
ясным, одухотворенным взором. Поэзия "Дивана" — сплав личных
переживаний поэта и освоения духа Востока. В ней вырисовываются четыре круга
тем при частичном взаимном переплетении: первый круг — поэтическая манера
Хафиза, поразившая Гёте и вызвавшая у него необыкновенный творческий подъем,
который в свою очередь "воспевается" в стихах; второй — любовь,
кульминирующая в "драматическом дуэте" Хатема—Зулейки. ("И здесь
порой проглядывает духовный смысл и за покровом земной любви скрывается высшая
взаимосвязь", — говорилось в сообщении газеты "Моргенблатт" за
439
но мудрые изречения
в стихах. Именно в этих стихах, фигурировавших не только в "Книге
изречений", западный поэт, освоив мотивы далекой культуры и веры, в сжатой
форме выразил свое отношение к религии и к миру как таковому.
Ни в каком другом
произведении Гёте слово "бог" не встречается так часто, как в
изречениях и стихах "Западно-восточного дивана". Однако оно
обозначает вовсе не персонифицированное потустороннее божество. Бог для Гёте —
это могучая сила, которая персонифицируется лишь при обращении к ней; она
сущность всего живого, воплощение всех естественных и нравственных истин. В
стихотворении "Талисман", в самом начале "Дивана", поэт
поднимает эту тему и не оставляет ее на всем протяжении поэтического цикла. Во
второй суре Корана ангел Гавриил (или Джибрил) взывает к Магомету: «Скажи:
"Аллаху принадлежит и восток и запад. Он ведет, кого хочет, к прямому
пути!" 1 » А у Гёте мы
читаем:
Весь Восток до края — божий!
Запад весь до края — тоже!
Север и пространный Юг —
Все во власти божьих рук.
(Перевод В. Брюсова)
Ни христианская, ни
исламская религии не являются в "Диване" односторонне определяющими,
перед нами — некая смешанная "западно-восточная" вера в бога — поэт
свободно изучает религию Востока и свободно выбирает все, что привлекает его.
В следующем
четверостишии из "Талисманов" речь идет о ста именах (или ста ликах)
Аллаха: бога возможно познать и восславить лишь в его бесчисленных превращениях
и проявлениях. Бог есть полнота, красота и правда жизни. Здесь Гёте наконец
обрел того бога, какому был привержен со времен юности. Бог этот — вселюбящий,
хотя вначале в "Талисманах" строго возносится хвала богу справедливому:
«Справедливый и всезрящий, / Правый суд над всем творящий, / В сотнях ликах
явлен нам он. / Пой ему во славу "Амен!"» (1, 324). Важно, что образ
Аллаха, на взгляд Гёте, можно было легче связать с непосредственной радостью
жизни, чем образ христианского бога. Райские утехи ожидали борца за веру,
наслаждение подтверждалось и украшалось присутствием
1 Коран. Перевод И. Ю. Крачковского. М., 1963, с. 29.
440
гурий, подруг
блаженных обитателей рая. Однако в исламском элементе "Дивана"
отчетливо проступают также западные черты. Здесь нет фатализма магометанского
толка — есть лишь самоотречение, порожденное раздумьями о смысле человеческих
деяний. В этом и состоит своеобразие "Западно-восточного дивана"
Гёте. Встреча с патриархальной атмосферой Востока, с радостной приверженностью
земному бытию в стихах Хафиза, с любовью и вдохновляющим опьянением вином,
осенена просветленной авторской позицией, сознанием своей причастности к жизни
и в то же время — пребыванием над ней; готовностью и к самоотдаче и к
отречению. Создается впечатление, будто здесь и христианство, и античность
оставлены далеко позади и совершен полный поворот к иному, далекому и чуждому
миру. Однако христианство и античность по-прежнему всего лишь элементы целого,
наряду с другими, пусть даже восточный элемент и доминирует. Автор
"Западно-восточного дивана" впитывает мудрость и опыт всюду, где они
только ему открываются. В рассуждениях, притчах и афоризмах разнообразные
элементы наиболее отчетливо сливаются воедино. Западно-восточное сообщество
духа порождено здесь миропониманием старого Гёте. Но ум его неизменно осваивал
все, что представлялось ему привлекательным. И религия огнепоклонников-парсов
сосуществовала в его сознании с исламом мусульман. От созерцания природы и
человеческой жизни одни пришли к выводу о покорности высшей воле, другие — к
утверждению деятельной нравственности. Такую этику Гёте нашел в религии древних
персов, о которых рассказал в разделе своих "Примечаний и
исследований", озаглавленном "Древние персы". Их живое
богопочитание, неизменно выражающееся в практических действиях, он назвал
"нежной религией, основывающейся на вездесущности бога в его творениях
чувственного мира". Набожность Гёте была созвучна этому созерцанию и
почитанию бога во всех его бесчисленных превращениях и проявлениях его
творения; готовности везде и всюду принимать все достойное поклонения;
религиозности широкого спектра, не ограниченной рамками какого-либо
определенного вероисповедания.
В одном из последних
писем к Буассере от 23 марта 1831 года Гёте сам следующим образом определил
свое отношение к религии: "На этой последней странице я наконец
воспользуюсь поводом всерьез и в шутку
441
закончить свое
письмо удивительным сообщением.
Всякому человеку присуще
религиозное чувство, и остаться с ним наедине, самостоятельно переработать его
в своем сознании он не способен, поэтому он ищет, а не то и сам плодит
прозелитов.
Последнее не в моем
вкусе, но первое я проделал вполне добросовестно, но не нашел такого
вероисповедания — от самого сотворения мира, — к которому я желал бы полностью
присоединиться. И вот теперь, на склоне лет, я прослышал о некой секте гипсистариев,
которые, оказавшись в тисках
между язычниками, иудеями и христианами, заявили, что будут ценить, восхвалять
и почитать все наилучшее, совершеннейшее, о чем только узнают, и поклоняться
ему, поскольку это наилучшее непременно дело рук божества. Тут и пал мне из
глубины темного века радостный свет, я понял, что всю жизнь только и стремился
стать гипсистарием; но ведь и это не такое уж малое усилие: при ограниченности
наших индивидуальных возможностей как еще обнаружить наипревосходнейшее?
Давайте же по
крайней мере не позволим никому превзойти нас в дружбе". (Последние слова
поэт прибавил, очевидно, в утешение адресату — убежденному католику.)
О символическом языке
Начиная со
стихотворений "Западно-восточного дивана", обычно причисляемых уже к
поздней лирике Гёте, поэт выработал для себя поэтическую манеру, которая в
значительной мере может быть охарактеризована как символический язык.
(Разумеется, сказанное не относится к многочисленным стихотворениям "на
случай", которые Гёте и в дальнейшем писал для конкретных лиц и по
конкретным поводам.)
Его поэтическое
видение обратилось в духовное созерцание, при котором все явления
воспринимались как символы чего-то несравненно более высокого и важного.
Взгляд, устремленный на символы, обнаруживал в отдельном явлении многообразные
взаимосвязи обширного духовного мира и каждое из этих явлений рассматривал как
часть великой всеобщности жизни, как отображение того, что принято называть
божественным. В годы своего "классического" периода Гёте стремился
вычленить и наглядно выявить в значительном объекте сокрытые в нем общие
закономерности природы и искусства, с тем чтобы такой
442
объект являл собой
типическое, первозданное в своей области. Словом, надо было, чтобы в растении
просматривалось прорастание; в таком явлении, как расставание, открывался его
исходный смысл; а в скульптурной группе Лаокоона выступал на передний план
трагизм ситуации: отец с двумя детьми в смертельной опасности.
Поэт отнюдь не
утратил этого видения типического, общего — просто отныне все многообразие
жизненных явлений воспринималось как совокупность знаков, где даже простейший
факт обретал символический смысл и включался в важный духовный контекст. Всему
этому способствовала тонкая игра намеков, когда существенна не логическая
последовательность изложения, а свободная — по крайней мере внешне — ассоциация
символически значительных образов и мотивов. Символический язык поздней
гётевской лирики достигает особой интенсивности всякий раз, когда читателю
сначала просто предлагается увиденная картинка природы, а затем без всякого
перехода, без какого бы то ни было разъяснения проводимого сопоставления
раскрывается его духовный смысл. С этим приемом мы встретились уже в
стихотворении "Блаженное томление". А в цикле стихов
"Китайско-немецкие времена года и дня" (1827) есть такие строчки:
Скрылись овцы в отдаленье,
Зеленеет сочно луг;
Скоро райское цветенье
Все преобразит вокруг.
Свет надежды ткет узоры
На туманный лик зари:
Праздник солнца, ясность взора,
Всех нас счастьем озари!
(Перевод А. Гугнина)
Здесь просто и
коротко изображено мелкое событие на лоне природы. Овцы покидают луг, и теперь
там ничего нет, кроме доминирующего цвета — чистой зелени трав. Но ведь уже в
скором времени луг снова запестреет. Вторая строфа непосредственно переносит
увиденное и угадываемое в сферу душевных переживаний человека. Уже сама картина
природы символически предвозвещает надежду и осуществление всех желаний, о чем
говорят две заключительные строчки. Между тем символика здесь еще насыщеннее и
значительнее. Кто знаком с "Учением о цвете", вспомнит утверждение
Гете о том, что зеленый цвет
443
доставляет нашему глазу
"истинное удовлетворение" (1802): желтый и синий содержатся в зеленом
в идеальном равновесии. К тому же зеленый цвет вселяет в сердце надежду и
ожидание. Уже в "Статьях по оптике" (1791) можно было прочесть (§2):
"Восхитительней этого общего зеленого одеяния, в какое обычно облачается
вся растительная природа, оказываются более яркие цвета, каковыми украшает себя
природа в пору своего брачного пира". Стало быть, если обратиться к
биографическому аспекту, то в стихах этих можно уловить также отзвуки гётевских
переживаний лета 1823 года, когда поэт мечтал о счастливом браке с Ульрикой фон
Леветцов — счастье, оказавшемся для него недостижимым. Туманные покровы надежды
уже "светлы"; однако, чтобы свет проявился во всем блеске, туман
должен рассеяться до конца. Сплошь и рядом в стихотворениях Гёте именно из
тумана выступает все желанное и существенное. Световая символика пронизывает
его стихи. А последующие элементы, выраженные словосочетаниями "праздник
солнца, ясность взора", не омраченного видом надвигающихся облаков,
свободно подстраиваются друг к другу, открывая путь к самым широким
ассоциациям, связанным с представлением о счастье.
Гёте часто и в
разных контекстах рассуждал о символике — о символике и символическом. Не
претендуя на охват всего поэтико-философского диапазона его высказываний по
этому вопросу, мы все же попытаемся хотя бы бегло осветить здесь обширное поле
соответствующей проблематики. "Свои труды и поступки я всегда рассматривал
символически, — говорил Гёте, — и, по существу, мне довольно безразлично,
обжигал я горшки или миски" (Эккерман, запись от 2 мая
1 Здесь: человеческой сущностью (лат.).
444
поэтом Эккерману.
"Все, что ни происходит, есть символ, и, во всей полноте являя себя самое,
оно одновременно являет собой все сущее. В этой мысли, мне кажется, заключена и
наивысшая дерзость, и наивысшая скромность", — писал Гёте К. Э. Шубарту 2
апреля 1818 года. Глубинные истоки гётевского символического мировосприятия восходят
к пронизанному духом платонизма убеждению, что мы неспособны непосредственно
воспринимать абсолютное, божественное, первообразы — истину как таковую. Лишь в
единичных явлениях находим мы отражение абсолютной истины, и задача искусства —
способствовать постижению истины через явления-посредники. Поэзии, как всякому
искусству, сущность которого в наглядном воплощении идеи, символический
характер присущ в самом широком смысле слова. "Поэзия указывает нам тайны
природы и старается дать их разгадку с помощью образов" ("Максимы и
рефлексии").
Еще во время поездки
в Швейцарию Гёте писал Шиллеру 16—17 августа 1797 года: он заметил, что
отдельные предметы "собственно являются символическими". "Нет
надобности говорить, что это выдающиеся явления, которые... выступают как
представители многих других, заключают в себе известную тотальность,
постулируют известный ряд, вызывают в моем духе представления о таких же и
иноприродных явлениях и, таким образом, как извне, так и изнутри притязают на
известное единство и всеобщность" (XIII, 145). Гёте радовался этому своему открытию,
коль скоро в отдельных предметах умел распознать общезначимое, и, стало быть,
созерцание вело к раскрытию идей. В отличие от Шиллера ему не нужно было идти
от общей идеи к частному, чтобы находить отдельные явления, наполненные
соответствующим содержанием. Между тем Шиллер слегка приглушил его восторг и
непомерные ожидания, напомнив, что "в конечном счете все сводится к душе
автора, к тому, означает ли тот или иной предмет для него что-нибудь или нет;
по-моему, пустота или содержательность зависят в большей мере от субъекта,
нежели от объекта" (из письма к Гёте от 7 сентября
Этот факт был в
дальнейшем заслонен эффективными формулировками Гёте.
445
В "Максимах и
рефлексиях" говорится: "Истинная символика там, где частное выступает
заместителем общего — не как сон или тень, а как живое, сиюминутное откровение
непознаваемого".
Здесь силе
созерцания приписывается исключительная интерпретационная способность, которая
к тому же выявляет в частном непознаваемое, иными словами — всеобщую
взаимосвязь. Тем самым завораживающая (а для многих прежних читателей поэта и
отпугивающая) особенность символического языка, каким на склоне лет пользовался
Гёте, сводится к внушительной формуле: частное широко раскрывает общее; все,
что обозначает обозначаемое, не умещается в каком-то одном понятии, однако оно
способствует познанию целого. Но притом, повторяем, истолкование принадлежит
тому, кто воспринимает окружающие явления символически.
Гёте решительно
желал провести разграничение между аллегорией и символом. "Символика превращает
явление в идею, идею — в образ, но таким образом, что идея в образе неизменно
остается беспредельно действенной и при том недостижимой: будь она даже
высказана на всех языках, она все равно оказалась бы неизъяснимой"
("Максимы и рефлексии").
Гёте подчеркивал
антипонятийность символа, его открытость, потенциальную широту интерпретации и
тем самым — его многозначность. В этой максиме он вновь анализирует процесс
собственного символического созерцания, выразительными оборотами раскрывая
значение, придаваемое поэтом своему символическому языку. Недвусмысленно
пренебрежительная оценка аллегории была, несомненно, связана с критическим
отношением Гёте к современной ему литературе "форсированных
талантов". Литераторы этого толка исходили в своей работе из идей и
понятий, "а посему в вымысел мог вмешаться рассудок и, умело развив сюжет,
возомнить, будто он и правда творит поэзию".
Допустим, что
упомянутые теоретические высказывания Гёте действительно иллюстрируют
направленность его поэтико-символического мировосприятия. Остается, однако,
вопрос: в какой мере провозглашенные положения реализуются в самом поэтическом
тексте? Символ, в единичном представляющий общее, всегда выступает как часть
более обширного целого, но для того, чтобы читатель мог связать это единичное с
общим, необходима аналогия. В принципе структура символа определяется формулой
"pars
446
pro toto" 1 плюс принцип
аналогии. Но ведь то же можно сказать и об аллегории. Разница лишь в том, что
символ не предлагает каких-либо однозначных соответствий между знаком и
обозначаемым, которые можно было бы облечь в четкие рассудочные понятия. И лишь
в самой поэзии раскрывается суть символа, в общем контексте значений и
"отсылок" как в отдельных произведениях, так и во всем творчестве
поэта. И, согласно старому основополагающему правилу
герменевтики, что любое явление осознается лишь как часть чего-то другого, при
условии, что целое субъекту известно или хотя бы угадывается им, человек,
символически — по принципу Гёте — воспринимающий мир, должен, как и в случае с
аллегорией, неизбежно уже иметь представление об этом "более общем",
прежде чем он сможет воспользоваться символическим видением на практике (вкупе с отношением "pars pro toto" и с принципом аналогии). В одном из
писем к Цельтеру Гёте сообщал, что "наисовершеннейшие символы" порой
возникали непосредственно у него на глазах, например, когда он наблюдал за
сплавом леса по реке Заале близ Йены. Вот крупные бревна "спокойно
скользят по воде и благополучно спускаются вниз по течению", зато поленья,
предназначенные на дрова для топки, кое-как следуют за ними, "некоторые
проплывают как бог на душу положит, другие крутятся в водоворотах" (из
письма от 19 марта
1 Часть вместо целого (лат.).
447
ОСТАЕТСЯ ЛЮБОВЬ И МЫСЛЬ.
ГЁТЕ В 1815—1823 ГОДАХ
Министр Великого герцогства Саксен-Веймар-Эйзенахского
Творческий отклик
Гёте на поэзию Хафиза, как и вообще на дух Востока, зазвучавший во всем многоголосье
весной 1814 года, означал, что поэту удалось окончательно преодолеть угнетенное
состояние, охватившее его после смерти Шиллера и собственной тяжелой болезни,
после всех военных тягот 1806 года и политической смуты последующих лет. В ту
пору Гёте довелось испытать на себе то, что впоследствии он назвал
"повторным возмужанием", "второй молодостью" или, точнее,
"временным омоложением" выдающихся людей. Даже готовность поэта
совместно с Буассере отдаться изучению живописи старых мастеров говорила об
этом, хотя Гёте по-прежнему был убежден в вечной ценности античного
художественного идеала. Дух его стал, несомненно, свободней, гибче. Отсюда —
рождение нового поэтического языка, которым поразил всех читателей
"Западно-восточный диван". Ведь Гёте, некогда издававший журнал
"Пропилеи", ныне дерзал писать вот такие стихи:
Пусть из грубой глины грек
Дивный образ лепит
И вдохнет в него навек
Жаркой плоти трепет;
Нам милей, лицо склонив
Над Евфрат-рекою,
Водной зыби перелив
Колебать рукою.
448
Чуть остудим мы сердца,
Чуем: песня зреет!
Коль чиста рука певца,
Влага в ней твердеет.
("Песня и изваянье". — Перевод Н. Вильмонта — 1, 329)
Прославленное
пластическое искусство древних греков, некогда предлагавшееся в качестве
обязательной нормы и решающего эталона на конкурсе "веймарских друзей
искусства", уже не подается здесь как единственный непреложный идеал.
Теперь сама строгость этого искусства, его четко очерченные формы кажутся поэту
не в меру застывшими, недостаточно гибкими, чтобы отразить "пожар
души" 1. Теперь поэт
стремится к большей "открытости" желаний; он жаждет погрузиться в
пестрое многообразие, какое предлагает чувствам и уму мир персидской поэзии.
Достаточно найти верное отношение к жизни — спокойно созерцать ее и размышлять,
— и надлежащая форма поэзии сложится сама. Искусство классицизма отнюдь не
отвергается как таковое в стихах, приведенных выше; они, скорее, звучат как
оправдание отдохновения, какому предается поэт, как утверждение нового
поэтического языка, призванного отражать многоликость жизни, без прежней
непременной привязанности к значительному объекту.
Душевное состояние
Гёте, несомненно, улучшилось еще и вследствие общего прояснения политической
обстановки — пусть даже Наполеон и потерпел поражение. Поэт испытал сильное
потрясение, увидев последствия военного лихолетья в западных областях Германии,
за которые, в частности, нес ответственность корсиканский наследник Французской
революции. "Эти прекрасные места так опустошены, что нынешнему поколению
достанется не много радости", — писал Гёте сыну Августу 1 августа 1815
года (XIII, 402). А Фойгту
довелось услышать от недавнего почитателя Наполеона даже такое: "Какие
беды ни свалились бы на французов, им этого даже пожелаешь от всей души, едва
увидишь воочию все беды, какими они двадцать лет терзали и разрушали эту
местность, мало того, они навеки обезобразили ее и погубили" (1 августа
1 В немецком оригинале, в первой строке третьей строфы, говорится именно о "пожаре души". — Прим. перев.
449
заботу о науке и
искусстве — как в рейнских провинциях, так и в родном Веймаре и Йене.
На Венском конгрессе
1814—1815 годов, после эпохи революционных потрясений и наполеоновских войн,
было осуществлено переустройство Европы. Но если не считать территориальных
изменений, то "новым" во внутригосударственном плане стало попросту
узаконенное старое, заимствованное из времен, предшествовавших Французской
революции. Нетронутым остался монархистский принцип, напротив, вслед за
крушением Священной Римской империи, а с ней и императорского трона, власть
отдельных государей только возросла. Надежды тех, кто рассматривал
освободительные войны как битву за свободу, как средство укрепления единства
германской нации и, наконец, обретения конституции, не оправдались нисколько
или в лучшем случае — в минимальной степени. Правда, в "союзном акте"
(конституции), обладавшем силой на территории всего Германского союза, в
который с 1815 года объединились около сорока германских князей и свободных
городов, имелась статья 13-я: "Во всех входящих в союз государствах будет
действовать земельная конституция". Однако то был лишь вексель на будущее,
и немногие государства оплатили его, да и то по низшему разряду. Правда,
герцогство Саксен-Веймарское вошло в их число.
Решением Венского
конгресса оно было превращено в великое герцогство и территория его несколько
увеличилась, так что отныне в нем проживало около 180 тысяч человек, и герцог
получил титул "королевского высочества". 22 апреля 1815 года Гёте
поздравил его церемонным посланием: "Теперь Вашей августейшей особе
оказывается и внешняя почесть, даруется вполне заслуженный титул за столь
многостороннее, прямодушное, искреннее усердие" (XIII, 400).
Карл Август
модернизировал систему управления государством и преобразовал прежний Тайный
совет в Великогерцогский совет министров, в котором разные министерства
(департаменты) возглавляли, помимо Кристиана Готлоба фон Фойгта, бывшего в чине
президента совета министров, также и Карл Вильгельм барон фон Фрич, барон фон
Герсдорф и граф Эдлинг. Из всеобщей коллегии Тайного совета возникли
министерства с собственным кругом полномочий, руководители которых, разумеется,
были подотчетны монарху, а в иных случаях и земскому собранию. Гёте не стал
членом этого совета министров. Однако 12 декаб-
450
ря 1815 года и его
назначили государственным министром, "учитывая его замечательные заслуги в
развитии искусств и наук, а также посвященных им учреждений". Для него же создали,
в полном соответствии с его пожеланиями, отдельное управление: "верховный
надзор над заведениями, непосредственно поощряющими науки и искусства в Веймаре
и Йене", и в конце 1817 года к нему причислялось уже одиннадцать
учреждений. Управление это не имело министерских масштабов (вопросами церкви и
школы ведал департамент фон Герсдорфа; университет подчинялся президенту фон
Фойгту) — Гёте был поставлен во главе скромного ведомства, вполне охватывавшего
круг его интересов. Гёте руководил им до конца своих дней, в сознании и впрямь
немалого его значения для престижа небольшого Саксен-Веймарского государства;
был он доволен также и своим официальным положением государственного министра.
19 декабря 1815 года, всего через два месяца после возвращения из рейнских
провинций, Гёте подал герцогу прошение с просьбой подобающим образом
укомплектовать сотрудниками его ведомство: взять в помощники он пожелал
собственного сына, Кройтера — секретарем, а Йона — писарем. Этот гётевский
меморандум — примечательное свидетельство мирового престижа Веймара и самого
поэта.
"Веймар
распространил славу научного и художественного просвещения на всю Германию,
даже на всю Европу; в связи с этим и стало принято в сомнительных случаях
литературного или художественного толка просить у нас доброго совета. Виланд,
Гердер, Шиллер и другие вызывали такое доверие у публики, что подобные запросы
поступали к ним очень часто, и упомянутые особы порой отвечали на них без
должной любезности или по меньшей мере вежливым отказом. И хотя я и сам уже
предостаточно страдал от подобных требований и поручений, все же мне, ныне еще
здравствующему, досталась добрая доля сего обременительного наследства".
Гёте перечислил
далее несколько случаев, когда ему приходилось выполнять эти просьбы. Так что
ему "придется довольствоваться честью выступать перед славным германским
отечеством в роли божьей милостью факультетского и ординарного
профессора". При этих обстоятельствах, заключал Гёте, он, пожалуй, не без
оснований может считать себя "общественным лицом".
451
Круг официальных
полномочий Гёте был очерчен: ему предлагалось осуществлять "верховный
надзор" над заведениями науки и культуры. Однако поле его деятельности
этим не ограничивалось. Как и прежде, он работал в тесном контакте с министром
Фойгтом, в чьем ведении находился университет: тот не мог обойтись без совета
своего друга, уважаемого коллеги Гёте; к тому же поэт поддерживал тесные
отношения с Карлом Августом. Лишь благодаря этому Гёте удалось реорганизовать
библиотеку Йенского университета, что выходило за рамки его полномочий и к тому
же отняло много времени и энергии; удалось также создать общий алфавитный
каталог, составление которого было завершено в 1824 году. Неизменное удивление
вызывают готовность и рвение, с каким поэт брался за общественные дела. Когда
Гёте называл себя "общественным лицом", это не было для него пустой
фразой. Отрешившись некогда от юношеских заблуждений периода Вецлара и
Франкфурта, поэт, казалось, сознательно сооружал барьеры, призванные
воспрепятствовать скатыванию его в солипсизм и субъективизм. Однако, случалось,
это не мешало ему твердо отгораживаться от утомительных притязаний посторонних.
Помимо всего
прочего, Гёте был еще и директором театра. Однако весной 1817 года эта эпоха
его общественного служения завершилась неожиданным образом. Еще в марте 1817
года Гёте записал в своем дневнике, что много занимался "театральными
делами" — коренным образом переделывал театральный устав; все это не
давало никаких оснований предполагать, что всего лишь через месяц закончится
эра Гёте в театре. В 1808 году еще удалось мирно уладить вспыхнувший было
конфликт: Карл Август тогда приказал, по наущению своей сожительницы, актрисы
Каролины Ягеман, пригласить в театр одного певца и при том даже не поставил об
этом в известность Гёте. В ответ на это Гёте решил подать в отставку с поста
директора театра. Теперь же госпожа фон Хайгендорф вопреки воле директора
театра Гёте настояла на том, чтобы заглавную роль в пьесе "Собака Обри де
Мондидье" исполнил... дрессированный пудель. Вслед за этим до герцога, как
он сам писал, дошло, что отныне Гёте желал бы быть освобожденным от досадных
происшествий, связанных с заведованием театром. Герцог тут же дал свое согласие
на его отставку, лишь выразив ему "благодарность за все хорошее, что
совершил
452
ты на этой весьма
сложной и утомительной службе" (из письма к Гёте от 13 апреля
"Об искусстве и древности на землях по Рейну и Майну"
Еще летом 1814 года,
когда поэт впервые навестил братьев Буассере в Гейдельберге, он задумал
рассказать общественности об их незаурядной картинной галерее в отдельной
работе. Для коллекционеров не могло быть ничего лучшего подобной рекомендации.
Через год, после встреч с бароном фон Штейном, замысел этот расширился: новой
администрации, которой предстояло упорядочить ситуацию после проведенной
секуляризации и нескольких лет французского правления, могло пригодиться
подробное заключение о сохранности и размещении художественных сокровищ на
Рейне. "Я займусь этим делом, ибо над ним стоит потрудиться; лучшие вещи
на краю гибели, а между тем благие намерения нового начальства велики", —
писал Гёте сыну Августу 1 августа 1815 года (XIII, 401). Уже в последующие недели — это была
пора расцвета любви Хатема и Зулейки — он вместе с Сульпицем Буассере начал
работу над этим замыслом, и уже к зиме была завершена объемистая рукопись. Она
увидела свет в июне 1816 года в виде внушительной тетради почти в двести
страниц, которая называлась "Об искусстве и древности на землях по Рейну и
Майну". Так родился журнал, который Гёте выпускал вплоть до 1828 года.
Номера этого журнала впоследствии заняли шесть томов, в каждом из которых было
по три тетради, причем последняя тетрадь, включавшая материалы из гётевского
литературного наследства, издана в 1832 году Веймарским обществом любителей
искусства. Начиная со второго тома (1818), журнал стал называться просто
"Об искусстве и древности", и в нем расширился круг затрагиваемых
тем. На склоне лет Гёте обрел печатный орган, публиковавший статьи по всем
вопросам культуры. В сущности, его даже нельзя было назвать журналом: номера
выходили нерегулярно, и статьи, за немногими исключениями, принадлежали перу
самого издателя. Гёте вел на
453
страницах журнала
своего рода публичный монолог — должно быть, в надежде, что стимулы его будут
восприняты, однако он не мог не видеть, сколь незначителен был отклик. Даже в
1909 году в издательстве Котты еще можно было приобрести шестнадцать номеров
журнала "Об искусстве и древности". Своему названию вопреки это
периодическое издание освещало вопросы культуры в широком смысле этого слова.
Гёте высказывал здесь свои суждения о литературе и искусстве, о древностях и об
исторических сочинениях; здесь собирались его статьи по вопросам всемирной
литературы, общие размышления о поэзии и литературной критике, а также
стихотворения. Здесь поэт публиковал многое из не напечатанного до той поры;
здесь увидели свет статьи "Об эпической и драматической поэзии, сочинение
Шиллера и Гёте", а также выдержки из переписки Гёте с Шиллером. Все, что
впоследствии получило известность под названием "Максимы и
рефлексии", рассыпано по номерам журнала, равно как и "Кроткие
ксении"; когда же Гёте подготовил для собственных нужд пересказ
"Илиады", чтобы всегда иметь под рукой это выдающееся эпическое
произведение мировой литературы, то не преминул заполнить им многие страницы
своего периодического издания. В номерах журнала "Об искусстве и
древности" публиковалось также немало рецензий, которые Гёте писал уже в
преклонные годы; примечательно, что он практически игнорировал в них
современную ему немецкую литературу. Точно так же игнорировал он и политику.
Свобода печати, которой так рьяно добивались тогда, была ему не нужна: его
тексты, лишенные политической остроты, никого из правящих не задевали.
Первый номер 1816
года содержал лишь упомянутое выше заключение о сокровищах искусства в землях
по Рейну, Майну и Неккару, причем написанное в виде путевых заметок. В плавно
развертывающемся повествовании Гёте, посетивший один за другим города Кёльн,
Бонн, Нойвид, Кобленц, Майнц, Бибрих, Висбаден, Франкфурт, Оффенбах, Ханау,
Ашаффенбург, Дармштадт, Гейдельберг, представил общественности наиболее важные
собрания произведений искусства, собирателей и соответствующие учреждения. По
ходу дела автор сообщал краткие исторические сведения, касавшиеся не только
самих произведений искусства. Упоминались также культурные и научные заведения,
привлекшие внимание руководителя веймарского
454
"главного
надзора". В первой же главе, посвященной Кёльну, он призвал
государственные учреждения внимательно отнестись к собраниям частных лиц, чтобы
сделать эти коллекции достоянием общественности. Возможно, состоятельный
человек сочтет себя польщенным, "если в своем патриотическом порыве он —
пусть не даром, а на приемлемых условиях — передаст свою собственность
какому-либо казенному заведению, присоединив ее тем самым к общей коллекции".
Этой своей работой Гёте стремился прежде всего побудить ответственных и
заинтересованных лиц "бережно принимать драгоценные произведения,
систематизировать их и сделать доступными публике для ее же пользы".
Нельзя допускать утраты или какой-то изоляции сокровищ — каждый должен иметь
возможность наслаждаться ими.
Во Франкфурте,
например, произведения искусства были рассеяны по разным домам, и Гёте
рекомендовал составить их полный каталог. Город Висбаден переживал процесс
роста, и Гёте советовал сделать город еще значительнее "с помощью
картинных галерей и научных учреждений". В главе, посвященной Кёльну,
Гёте, конечно же, не забыл привлечь внимание читателей к недостроенному собору,
указать "на незавершенность этого строения, увы, лишь задуманного как
некое чудо света". Хваля и поддерживая деятельность братьев Буассере, поэт
предлагал задуматься над тем, "а не настал ли сейчас благоприятный момент,
чтобы продолжить строительство собора".
Центральное место в
работе Гёте заняла обширная глава о Гейдельберге и о картинной галерее братьев
Буассере. Бегло описав историю возникновения этой коллекции, Гёте сделал затем
обстоятельный обзор развития искусства со времен заката Римской империи и до
возникновения средневековой нидерландской живописи. Прозвучал здесь и отзвук
идей Фридриха Шлегеля о значении средневекового религиозного искусства. И Гёте
тоже ставил в заслугу церкви сохранение искусства после падения Римской
империи, "пусть даже лишь как искры под пеплом". Для византийской
школы у поэта не нашлось достаточно добрых слов, но все же, по его выражению,
она еще сохранила остатки "искусной композиции" и сумела передать
дальше "разнообразие сюжетов из Ветхого и Нового завета". Затем в XIII веке мастера ранней итальянской живописи, когда "вновь пробудилось
истинное, радостное восприятие природы", вслед за византийцами при-
455
меняли симметричную
композицию и дифференциацию образов, но они обладали также и чувством цвета,
так что голландцев следует рассматривать как продолжателей этой традиции.
Византийская "тусклая и сухая" живопись, по выражению Гёте, у них
"светлеет", а "спокойная радость созерцания" обращает взор
художника к чувственному миру и создает любезные сердцу образы. Гёте
присовокупил далее описания некоторых произведений гейдельбергской коллекции,
не выказывая, однако, того восхищения, какое некогда выразил сам при виде этих
картин.
Статья, открывавшая
второй номер "Искусства и древностей" за 1817 год, свидетельствовала,
что Гёте по-прежнему в своих воззрениях на искусство в большой мере
придерживался принципов, сформировавшихся под влиянием античного эстетического
идеала. Написал эту статью Генрих Мейер, однако текст был согласован с Гёте, а
подпись "W. К. F." в конце статьи удостоверяла, что в
ней излагались общие взгляды "веймарских любителей искусства". Статья
эта, называвшаяся "Новогерманское религиозно-патриотическое
искусство", резко критиковала религиозно-католизирующие эстетические
течения той поры. После той снисходительности, которую выказал Гёте в общении с
братьями Буассере, его охватил боевой пыл, какой редко случался у него на
склоне лет. "У меня осталось не так уж много времени, чтобы быть
откровенным, давайте же используем его" — так мотивировал он в письме
Цельтеру этот свой выпад (письмо от 29 мая
1 Полное название — "Сердечные излияния отшельника — любителя искусств" (1797). — Прим. перев.
456
Гёте, имело дурные
последствия как для художественной практики, так и для понимания искусства.
Речь шла, стало быть, о художественном эталоне, и Гёте не хотел, чтобы
религиозное средневековое искусство в этой роли заменило собой античное. К нему
вела подобная смена парадигм — это, по мысли Гёте и "веймарских друзей
искусства", можно было увидеть на примере "назарейцев" 1 и им подобных. Аллегорические изображения
разного времени суток работы Филиппа Отто Рунге представляли собой, опять же на
их взгляд, "истинный лабиринт смутных взаимосвязей, вызывающих у зрителя
род головокружения вследствие чуть ли не полной их непостижимости". (Но
нельзя разве это суждение с тем же основанием отнести и ко второй части
"Фауста"?) В статье звучало полное понимание связи тяготения публики
к старине, к собственному прошлому, с патриотическим духом времени; автор
приветствовал коллекционирование и сохранение старинных произведений искусства.
Однако наряду с этим в статье звучала и критика: "Высоко, даже чрезмерно
почитались внешние приметы прошлых времен, которые представлялись лучше
нынешних; нас чуть ли не насильно тянули назад, к немецкой старине". И
еще: "Старинное немецкое искусство ныне настолько захваливают, что более
хладнокровные ценители искусства не могут присоединить к этим похвалам свой
голос, сколь бы искренне патриотичными ни были их убеждения".
Критика Мейера и
Гёте, таким образом, была направлена против христианско-католических и
гипертрофированно националистических тенденций в современном им искусстве и его
восприятии. Веймарцы выступали против религиозного глубокомыслия смутных
контуров, загадочной непонятности — словом, против
"религиозно-мистического" элемента картин, что, разумеется, мешало им
по достоинству оценить произведения Рунге, Овербека, Корнелиуса и
"мистически-аллегорические пейзажи" такого живописца, как Каспар
Давид Фридрих. Непреложный совет "веймарцев" сводился к следующему:
"В отношении искусства самое верное и разумное — это заняться изучением
древнегреческого искусства, как и его продолжением в новейшие времена".
Одно притязание противопо-
1 Прозвище немецких живописцев-романтиков, членов "Союза св. Луки", подражавших итальянским и немецким мастерам раннего Возрождения. — Прим. перев.
457
ставляется здесь
другому, и нелегко объяснить, отчего признание античного искусства единственным
образцом, достойным подражания, больше отвечало духу времени, чем освоение и
дальнейшее развитие иных художественных направлений. А потому Сульпицу
Буассере, ознакомившемуся с гётевским сочинением, нетрудно было возразить на
этот полемический выпад. Любой народ, любая эпоха, отвечал он, должны
придерживаться того, "чем наделили их боги и судьба, чтобы разговаривать с
любезными им язычниками" (из письма к Гёте от 23 июня
Свобода печати или бесстыдство печати?
Конституция Великого
герцогства Веймарского, коротко упоминавшаяся выше, вступила в силу в мае 1816
года. Уже сам этот факт всколыхнул общественность всех немецких государств:
Веймар одним из первых ввел у себя предусмотренный "союзным актом"
"Основной закон о сословной конституции Великого герцогства
Саксен-Веймар-Эйзенахского". Он был принят после обстоятельного обсуждения
в консультативном сословном собрании, созванном исключительно для этой цели.
Предварительно несколько высокопоставленных чиновников после совещания с
герцогом разработали соответствующие проекты. Примечательно следующее:
конституция не была попросту дарована свыше. Правда, она и не была
провозглашена правителем страны в итоге соглашения с представителями сословий,
монарх милостиво предоставил ее своим подданным, при том не позволяя
сколько-нибудь умалить свои монаршьи права. Конституция не принесла разделения
власти в современном смысле слова, не содержала она и перечня основных прав
граждан, составления которого добивался министр фон Герсдорф. Однако все же
отныне в ландтаге предполагалось иметь десять депутатов от крестьян, помимо
десяти представителей дворянства, десяти — от бюргеров и одного депутата от
Йенского университета. Ландтаг утверждал налоги и участвовал в разработке
законов. Имел он также право пода-
458
вать монарху
апелляции. Сенсацию вызвало другое: основной закон провозгласил свободу печати.
Впервые обнародованная в 1776 году в конституции американского штата Виргиния,
затем в 1789 году — в "Декларации прав человека", свобода печати
сделалась одним из главных требований либеральной буржуазии. А потому сам по
себе тот факт, что в Веймаре свобода печати была закреплена в конституции,
вызывал у многих прогрессивно настроенных людей того времени восхищение этим
маленьким государством и его правителем.
Насколько можно
судить, Гёте принимал мало участия во всех этих ранних преобразованиях
герцогства в конституционную монархию. Поэт и прежде не видел сколько-нибудь
серьезной угрозы правам человека в Веймарском герцогстве, ставшем ему родиной,
да и вообще, проблема конституции его не волновала. Еще за двадцать лет до
того, в эпоху революционных потрясений, он с насмешкой отзывался о
"конституциях". Ему довольно было патриархально организованного общества,
руководители которого сознавали бы свою ответственность по отношению к народу.
Что до свободы печати, то очень скоро поэт оказался вовлечен в связанные с этим
проблемы. Публицисты решили воспользоваться своим правом, и Йена стала центром
либеральных и националистических изданий. Да и где еще в Германии можно было
рассчитывать на гарантированную свободу печати? Журнал Лудена
"Немезида", для которого тот некогда, в 1813 году, добивался
покровительства Гёте, заговорил в полный голос: он выступал за объединение нации,
призывал другие германские государства тоже наконец принять конституцию. В 1815
году в Йене был основан союз буршей, который выступал против дурных обычаев
студенчества и раздробленности его на землячества, но в большей мере и за
общенациональные политические реформы. Журнал "Немезида" стал
союзником студентов. А с лета 1816 года начал выходить и первоклассный
естественнонаучный журнал "Изида", редактируемый Лоренцем Океном.
"Изида", однако, не довольствовалась освещением лишь научных проблем:
в журнале печатались также и политические статьи, именно они и завоевали
журналу авторитет в широких кругах общественности. Критике подверглась в
"Изиде" даже веймарская конституция: журнал сожалел, что в ней не
перечислены права человека и что принятием земельной
459
конституции и
ограничилось дело. Тон "Изиды" был резким и боевым; авторы статей
понимали, что их дело — правое. И другие журналы также воспользовались свободой
печати в Веймарском герцогстве, отнюдь не имея в виду одни лишь политические
атаки. Однако вокруг "Изиды" Окена разгорелась острая борьба.
Ссылаясь на свободу печати, воинственно настроенный издатель стал печатать в
своем журнале также и рецензии на книги, что по прежним,
"доконституционным", временам составляло прерогативу одной лишь
"Альгемайне литератур-цайтунг". Дело дошло до судебного процесса,
однако выиграл его Окен. Герцог, которого раздражала "Изида", желал
бы иного исхода, однако не изменил решения суда, уважавшего свободу печати.
Обстановка же и
дальше оставалась сложной, поскольку "Изида" не только критиковала
ситуацию в Веймарском герцогстве, а то и дело резко и язвительно ополчалась на
положение в других немецких государствах. Тогда сочло необходимым вмешаться
верховное полицейское управление. Карл Август, проявив удивительную сдержанность,
несмотря на свое недовольство журналом, осведомился о мнении на этот счет своих
министров, и в частности о мнении Гёте. Как и в прежние времена, когда ему, как
члену Тайного совета, надлежало излагать свое мнение в письменном виде, поэт
составил обстоятельную докладную записку, датированную 5 октября 1816 года.
Дело это — административное, считал Гёте, его надо обсуждать и решать на месте.
Он отверг все предложения предупредить издателя и пригрозить ему наказанием при
повторении проступка. Гёте утверждал также, что дело это не входит в
компетенцию суда, решить его может сам государь самолично. "Что же нужно
делать?" — спрашивал поэт и сам дал на этот вопрос лаконичный ответ:
"Необходимо принять в свое время упущенные меры и незамедлительно запретить
журнал" (XIII,
425). В той же докладной записке, однако, поэт особо подчеркивал: "Окен
тем не менее по-прежнему достоин играть блестящую роль в науке". Гёте
признавал Окена-ученого, однако считал необходимым строго одернуть этого
университетского профессора, занявшегося политикой. Вообще, поэт скептически
относился к идее полной свободы печати, опасаясь злоупотреблений ею. В этом
смысле он проявил единодушие со своим коллегой Фойгтом, который был до такой
степени консервативен,
460
что даже отказался
участвовать в разработке новой конституции. Оба охотно употребляли выражение
"бесстыдство печати", а Гёте утешался еще и тем, "что при
подобной свободе печати нам хотя бы остается свобода не читать эту печать"
(из письма к Г. Фойгту, ноябрь—декабрь
Осложнения не
заставили себя долго ждать. Преодолев некоторые сомнения, Карл Август решил
предоставить замок Вартбург в Эрфурте в распоряжение студентов, желавших в 1817
году при большом стечении народа отметить трехсотлетие Реформации и четвертую
годовщину "битвы народов" под Лейпцигом Само празднество прошло,
правда, без происшествий, хотя кое-кто из выступавших — как преподаватели, так
и студенты — с пылом ратовали в своих речах за единство Германии и протестовали
против монархического государственного устройства. Под конец были символически
сожжены некоторые сочинения, вызывавшие в ту пору всеобщую ненависть (при этом
просто на стопках бумаги написали названия соответствующих книг), а также
кое-какие атрибуты, символизирующие непопулярную систему правления. Резонанс от
этих событий был куда больше собственно их значения, и снова "Изида"
обратила на себя внимание публицистическим анализом происшедшего. Гёте был
настроен к студентам весьма благосклонно, хотя и опасался малоприятных
последствий выступлений прессы. Все же в декабре 1817 года у него появилось
"предчувствие еще более прискорбных событий по причине свободы
печати" (10 декабря
461
Градом посыпались
протесты иностранных государств, которые стали относиться к Великому герцогству
Веймарскому как к некоему бунтарскому гнезду. Веймарский правитель терпеливо
разъяснял суть празднества в Вартбурге, защищая его участников, и до некоторой
степени ему удалось умерить тревогу зарубежных наблюдателей. Все же покоя не
было. В январе 1818 года вопрос о свободе печати вновь встал на повестку дня:
Луден напечатал в своем журнале конфиденциальный доклад о положении в Германии,
который Коцебу составил для русского царя. Стало ясно, что малое государство
неизбежно будет попадать в затруднительное положение, пока Германский союз в
целом не перейдет к столь же либеральному отношению к прессе. В конечном счете
Карлу Августу пришлось в 1818 году, с согласия ландтага, издать особое
предписание против злоупотребления свободой печати. Цензура, правда, все еще не
вводилась, хотя и были назначены специальные государственные
"фискалы", которым надлежало вмешиваться в случае противозаконных
публикаций в печати и особенно в случае жалоб со стороны зарубежных
правительств. Тогда Генрих Луден отказался от издания своего журнала, а Людвиг
Виланд перестал выпускать "Друга народа".
Несколько позже, 23
марта 1819 года, йенский студент-богослов Карл Людвиг Занд убил в Карлсруэ
Коцебу. Это бессмысленное кровавое преступление стало для Меттерниха и его
единомышленников желанным поводом, чтобы принять так называемые Карлсбадские
постановления против "демагогических происков". В сентябре 1819 года
эти постановления обрели форму общегерманского закона, который стал серьезной
угрозой для всех свободолюбивых устремлений, преследующих цель что-либо
изменить в существующем положении дел. Меттерних и его единомышленники также
хотели разделаться со свободой печати: в университетах, считавшихся
рассадниками политических волнений, были назначены государственные кураторы;
студенческие организации — "буршеншафты" — подавлены; для любых
сочинений объемом меньше двадцати печатных листов введена предварительная
цензура. В Майнце создали центральное общегерманское управление, которому
предстояло расследовать "революционные происки", — оно просуществовало
до 1828 года. Поскольку Карлсбадские постановления имели обязательную силу на
террито-
462
рии всей Германии,
отдельное государство тем самым лишалось свободы действий. Так, вплоть до 1848
года остались в силе все эти уложения, призванные усмирить любые либеральные
или общенациональные поползновения и оберегать неизменность старых порядков. В
последние августовские дни 1819 года Гёте еще довелось стать свидетелем
дипломатической активности в Карлсбаде, увидеть там Меттерниха и других высокопоставленных
лиц. По-видимому, Гёте отнюдь не был огорчен, узнав о предмете происходивших
там совещаний. Во всяком случае, он так писал своему герцогу: "Вашему
королевскому высочеству наверняка вскоре станут известны результаты этих
переговоров, и я лишь желаю, чтобы их успешное завершение полностью оправдало
мои предчувствия" (3 сентября
Либеральная попытка
учредить в Веймаре закрепленную конституцией свободу печати так и осталась в ту
пору преходящим эпизодом. Гёте не принадлежал к ее поборникам, что объяснялось
его взглядом на политику. Не всякий, полагал поэт, кто желает высказать свое
мнение, имеет на то право. Ученые, занявшиеся политикой, такие, как Луден и
Окен, на взгляд Гёте, уклонялись от своего истинного призвания. Когда
журналисты к тому же начинали бороться за решительные изменения в существующем
порядке вещей, они лишь нежелательным образом будоражили широкую публику,
читающую газеты.
Смерть Кристианы.
Новая жизнь в доме на Фрауэнплане
Остается поведать
еще кое-что о личной жизни поэта в период после 1815 года. Война закончилась, и
в 1816 году настала первая весна, "прихода которой впервые за столь долгое
время ожидали без страха и ужаса" (из письма Цельтеру от 14 апреля
463
принесли некоторое
облегчение несколько недель в Карлсбаде, где она лечилась в 1815 году, пока муж
ее пребывал в Висбадене и в рейнских провинциях, однако зимой 1815—1816 годов
ее состояние снова ухудшилось.
Весной еще можно
было надеяться, что Кристиана будет в силах заниматься хозяйством в доме и в
саду, да и сама она радовалась приходу тепла. "Весна круглый год" —
так называлось стихотворение Гёте, датированное "15 марта 1816 года",
которое поэт сам переписал набело. Оно читается как запоздалое прославление
подруги жизни. Легкие строки, написанные в свободной манере многих поздних
гётевских стихотворений, многими оборотами напоминающие поэзию рококо, но при
всей серьезности светлые и радостные — стихи эти используют старинный
поэтический мотив, придавая ему глубоко личное звучание: любимая даже
превосходит все прекрасное, что только дарит природа. Для лирического героя
возлюбленная — это вечная весна, "весна круглый год".
ВЕСНА КРУГЛЫЙ ГОД
На грядах землю
Рыхлит побег.
Вот первый ландыш,
Белей, чем снег;
Шафран пылает,
Луга цветут;
Здесь — пурпур крови,
Там — изумруд.
И первоцветы
Стоят, кичась,
Фиалки глянет
Лукавый глаз.
И все в движеньи,
И все живет.
Короче: снова
Весна идет.
Но в чаще сада
Прекрасней всех
Моей подруги
Приветный смех.
И что желанней
Ее очей,
Задорной песни,
Живых речей?
464
Душа любимой
Чиста, ясна,
В невзгодах, в счастьи —
Всегда одна.
Пусть розы щедро
Июнь растит —
Он прелесть милой
Все ж не затмит.
(Перевод Д. Усова [1, 480—481])
В конце мая
состояние Кристианы ухудшилось, и Гёте жил в глубокой тревоге. День за днем
отмечал он в своем дневнике, что жена его "в крайней опасности". Она
ужасно страдала, агония ее была долгой и настолько страшной, что порой ни у
кого не доставало сил находиться с ней в одной комнате. Запись от 6 июня:
"Кончина жены близка. Последняя страшная борьба ее натуры... Она
скончалась около полудня. Во мне и вне меня — пустота и безмолвие смерти".
Теперь причиной
смерти Кристианы считают уремию, то есть самоотравление организма через кровь
вследствие почечной недостаточности. Безотрадное свидетельство оставила Иоганна
Шопенгауэр: "Кончина бедняжки Гёте — самое ужасное из всего, что мне
когда-либо приходилось слышать. Совсем одна, в руках равнодушных сиделок, она
умирала почти без всякого ухода; ничья любящая рука не закрыла ей глаза, даже
собственного ее сына не удалось побудить зайти в ее комнату, да и сам Гёте тоже
не решался на это... Никто не решался приблизиться к ней, ее оставили на
попечение чужих женщин, она уже не могла говорить, потому что прокусила себе
язык, я просто не в силах описывать картину всех этих ужасов..." (из
письма к Элизе фон дер Рекке от 25 июня
В день смерти жены,
в состоянии глубокого потрясения, Гёте написал следующее четверостишие:
"Ты тщетно, о солнце, пыталось / Просиять сквозь облак унылый! / Мне в
жизни одно осталось: / Скорбеть над ее могилой" (перевод
М. Лозинского [I, 482]). Всякий, кто встречался в эти дни с
поэтом, видел его глубокую скорбь и растерянность и мог бы подтвердить, что его
признание 24 июня 1816 года в письме к Буассере не было пустой фразой: "Не
хочу отрицать, да и к чему была бы гордость, что состояние мое граничит с
отчаянием".
В том же году Гёте
продолжал писать стихи для "Западно-восточного дивана" и то и дело
уносился
465
мыслями к Марианне
фон Виллемер. Но отношения, связывавшие его с ней, были совсем иного рода. Конечно,
Гёте ни разу прежде не встречал женщину, которая так гармонировала бы с ним
умом и душой и оказалась способна отвечать ему стихами. Кристиана же привлекала
его к себе своей естественностью и жизненной силой; в ее присутствии он отдыхал
чувствами, хотя сплошь и рядом сам надолго уезжал от нее. Только этим можно
объяснить, что он прожил с ней двадцать восемь лет. Об этом же красноречиво
свидетельствует переписка супругов.
Теперь дом на
Фрауэнплане опустел и затих. Последние десять лет чем-то вроде компаньонки
Кристианы была здесь Каролина Ульрих; она родилась в 1790 году, в семье
судейского чиновника, который впоследствии потерпел служебную неудачу. Каролина
еще юной девушкой познакомилась с семьей Гёте. Живая, интересовавшаяся многим,
в том числе литературой, она стала часто бывать в доме поэта, а с 1806 года,
когда Кристиана лишилась помощи сестры и тетки, сделалась близким другом дома.
Она сопровождала тайную советницу фон Гёте в ее поездках, писала порой под ее
диктовку письма — ведь самой Кристиане это занятие доставляло немало
затруднений. С 1809 года Каролина совсем переселилась в дом на Фрауэнплане.
Когда Гёте послал сюда из Йены первый том романа "Избирательное
сродство", он рассчитывал, что читать его Кристиане вслух будет Каролина.
В своих письмах поэт никогда не забывал ее упомянуть, а сплошь и рядом
обращался прямо к ней. И для него она тоже кое-что переписывала. "Одна
лишь Ули теперь у меня и осталась, — писал Гёте в одном из своих писем, — ведь
вся канцелярия встала под ружье" (из письма Т. Й. Зеебеку от 3 апреля
466
Осенью 1816 года
казалось, что неожиданный визит обещает трогательную встречу, однако она не
вышла из рамок формальности и обязательного гостеприимства. В Веймар приехала и
на несколько недель остановилась у родственников, у своей сестры и зятя Риделя,
Шарлотта Буфф, она же давно овдовевшая фрау Кестнер — словом, Лотта из Вецлара.
25 сентября она вместе с дочерью и родственниками была приглашена на обед в дом
Гёте, однако былой доверительности, близости далеких вертеровских времен между
старыми знакомыми не возникло: хозяин дома ограждал себя от лишних эмоций.
"Я не лелею воспоминаний в том смысле, в каком вы это понимаете... Нет
такого прошлого, возврата которого стоило бы желать", — сказал поэт
канцлеру фон Мюллеру 4 ноября 1823 года. Подобно тому как он боязливо
сторонился зрелища смерти, способного лишить его душевного равновесия, точно
так же ограждал он себя и от воспоминаний о прошлом, которое в свое время с
таким трудом преодолел. Он держал прошлое в узде, во всяком случае, хотел
подавить его, но не всегда преуспевал в этом. Как часто в дни путешествия по
Рейну и Майну возвращался он мыслями к временам Лили Шёнеман, как долго длился
в "Западно-восточном диване" диалог Хатема с Зулейкой. Правда, то
были словно бы пунктирные воспоминания в отсутствие той, к кому относились, они
вдохновляли поэта на новое творчество, "складывающееся из расширенных элементов
былого" (Беседы с канцлером фон Мюллером, запись от 4 ноября
Шарлотта же сочла,
что была права, скептически отнесясь к этой встрече: "Я познакомилась с
одним старым господином, который, не знай я, что он — Гёте (и даже при всем при
этом), не произвел бы на меня приятного впечатления. Ты же знаешь, сколь мало я
ожидала от этой встречи, вернее, от этого нового знакомства... Правда, в своей
чопорной манере он всячески старался проявить ко мне любезность" (из
письма к сыну Августу от 4 октября
467
ным проникновением
воссоздал дни пребывания Лотты в Веймаре.
Вскоре просторный
дом Гёте наполнился новой жизнью. В июле 1817 года сын поэта Август женился на
Оттилии фон Погвиш, старшей дочери прусского майора. Ее мать, придворная дама
великой герцогини, была в разводе с отцом и вела в Веймаре скромный образ
жизни. Оттилия привлекла внимание Августа еще в 1812 году, хотя в ту пору ему
не удалось произвести на нее желаемого впечатления. Полноватый, флегматичный,
хоть и несколько неуравновешенный, сын Гёте и порывистая, своевольная Оттилия
были очень разными людьми. Когда в 1813 году в Веймаре ненадолго остановился
один прусский доброволец, шестнадцатилетняя Оттилия влюбилась в него. Пруссачка
по рождению, она не одобряла поведения Августа фон Гёте, относившегося к
освободительной борьбе без достаточного воодушевления и позволявшего отцу удерживать
его дома, при себе. Оттилия впоследствии не раз вспоминала о своей несбывшейся
любви к лейтенанту Фердинанду Хайнке, который в ту пору был уже помолвлен.
Вторичное ухаживание Августа в 1816 году увенчалось успехом наверняка еще и
потому, что он был сыном знаменитого Гёте и Оттилию привлекала возможность
утвердиться в роли невестки поэта и хозяйки дома на Фрауэнплане. К тому же это
избавляло ее от необходимости по примеру матери исполнять малоприятную
должность придворной дамы, в которую ей пришлось бы вступить, чтобы обеспечить
себя материально.
На верхнем этаже
своего дома Гёте оборудовал уютную квартиру для молодой четы, очень довольный
решением сына создать семью и появлением в доме милой невестки, к тому же
наделенной живым умом и даже поэтическим дарованием.
Нелады в этом браке
начались скоро. Правда, на свет появилось трое внуков, которых дед любил и
баловал: в 1818 году — Вальтер, в 1820 — Вольфганг, в 1827-м — Альма. И все же
супружеская жизнь их родителей отличалась бурным характером. Очень скоро каждый
из супругов зажил отдельной жизнью; Август и Оттилия то ссорились, то мирились,
но разлад в семье уже нельзя было поправить. Хоть Гёте и говорил: "Они —
пара, пусть даже они не любят друг друга" (К. Л. Ф. Шультцу, 8 июня
468
в этом смысле не
оправдались. Оттилия была непоседлива, изменчива, ей мнилось, что она не
реализовала своих возможностей; она то и дело ввязывалась в романтические
любовные истории, дававшие обильную пищу для пересудов в маленьком Веймаре.
Как-то раз она написала для самой себя меткую эпитафию: "Окруженная
родниками, она умерла от жажды, потому что никто так и не подал ей глотка
воды". На старшего Гёте она взирала с восхищением и почтением. А поэту
иной раз приходилось запираться в своем кабинете, чтобы только не слышать
перебранки в верхних комнатах; он желал лишь одного: чтобы между супругами
наконец установилось согласие. Когда Оттилия сравнивала мужа со свекром, это
всегда было не в пользу мужа. Августу достался тяжкий удел наследника, и он
сломался под этим грузом: он всегда оставался лишь сыном гениального человека и
жил в тени гения, что было бы не под силу и любому другому. Его не могло не
угнетать сознание того, что он недостоин имени Гёте. А то, что всемогущий отец
на всю жизнь привязал его к себе и, преисполненный самых добрых намерений, не
давал ему освободиться от пут, оказалось для него роковым. После изучения
юриспруденции в Гейдельберге и в Йене — все это время Гёте-патриарх потчевал
его своими наставлениями — Август служил асессором в веймарской судебной
палате, а в 1815 году стал уже советником. Служил он и при дворе, в дирекции
строительства дворца, затем помогал отцу в административной деятельности
"высшего надзора". Впоследствии он искусно провел по поручению отца
серию деловых переговоров, но всегда и везде он оставался лишь сыном великого
человека, обеспеченным и придавленным должностью чиновника средней руки. Август
честно выполнял свои служебные обязанности. Однако казалось, воля его словно
парализована величием отца, может быть, поэтому он так и не занялся ничем
таким, что способствовало бы расцвету его собственной личности. Симптомом
внутреннего разлада было и пристрастие Августа к вину, хотя вино в доме Гёте
вообще потреблялось в больших количествах. Карл фон Хольтай, друг Августа, в
своих воспоминаниях под названием "Сорок лет" (1843—1850) высказал о
нем такое суждение: "Август Гёте не был заурядным человеком. Даже в его
нелепых выходках и то проявлялась своеобразная сила: он предавался беспутству
не столько из слабости, сколько восставая против всего, что
469
его окружало".
Незадолго до смерти Август взбунтовался — правда, лишь в стихах, опубликованных
в журнале "Хаос", который издавала Оттилия: "Я не желаю, чтоб
меня, как прежде, / На помочах вели, без слов, / На край пучины брошусь я — в
надежде / Освободиться от оков. [...] Я лучшим дням иду навстречу, / И узы, что
постыли мне, спадут".
Путешествие в
Италию, предпринятое Августом в мае 1830 года, должно было дать ему
отдохновение и наполнить светом серые будни. Прошли месяцы, наполненные
разнообразнейшими впечатлениями, однако в ночь на 27 октября Август внезапно
скончался в Риме. Эту ужасную весть сообщил его отцу канцлер фон Мюллер. Но
Гёте принял ее "с величайшим мужеством и выдержкой и лишь воскликнул:
"Hon ignoravi me mortalem
genuisse" 1 — и глаза
его наполнились слезами" (из свидетельства фон Мюллера). Но даже надпись
на могиле, вырытой у пирамиды Цестия, скрепила сыновнюю связь с отцом, столь же
прекрасную, сколь и сковывавшую Августа: "Patri antevertens" 2.
Внезапная смерть
мужа не повергла Оттилию в отчаяние, но все же ее терзала мысль о том, почему
ее брак постигло крушение. "И я тоже горше оплакиваю нашу совместную
жизнь, чем его смерть, — писала Оттилия своей подруге Адели Шопенгауэр 11
декабря 1830 года. — Конечно, оба мы были безмерно несчастливы, но меня не
покидает ужасное чувство, что он умер как бы ради нас или ради меня, точнее,
ему казалось, что для нашего счастья так лучше".
Оттилия по-прежнему
мечтала о безграничной любви, сама была готова ее дарить и видела счастье жизни
лишь "в том, чего искала всю жизнь, — в глубокой и жертвенной любви".
"Отче наш, все в руках твоих, / Одари любовью меня" — этими строчками
Оттилия начала и заключила свое стихотворение "Молитва". Письма Оттилии,
ее стихи — свидетельство трудного и в конечном счете неудавшегося процесса
самоосуществления. Меняющиеся знакомства (или, по выражению недоброжелателей,
"любовные приключения") приносили ей недолгое счастье и новые муки.
Она не смогла вжиться в роль рачительной хозяйки дома, но в интеллектуальной
атмосфере салона она оживала и умело вела свою роль. Начиная с 1829 года она в
течение нескольких лет издавала частный литератур-
1 Знаю, что смертного произвел на свет (лат.).
2 Ушедшему прежде отца (лат.).
470
ный журнал
"Хаос", который из-за малого тиража (около тридцати экземпляров) стал
своего рода форумом лишь для круга ее друзей; так Оттилия пыталась решить для
себя проблему собственного творчества. Она была привязана к Гёте, любила и
почитала его, он же предоставлял ей полную свободу, даже после смерти Августа,
когда ему часто приходилось самому присматривать за ведением хозяйства, чтобы
хаос в доме не превысил допустимых пределов.
Поэт ограждает себя от внешних помех
Однажды Гёте вновь
получил письмо от Беттины Арним, урожденной Брентано. В этом письме, помеченном
28 июля 1817 года, Беттина обращалась к нему в своей былой манере — по-детски
на "ты", — пытаясь восстановить отношения, оборвавшиеся шесть лет
назад. В 1811 году, только что сделавшись женой Ахима фон Арнима, Беттина
приехала в Веймар и посетила выставку в Академии изобразительного искусства.
Здесь она ввязалась в резкую ссору с Кристианой и вела себя настолько
оскорбительно, что Гёте отказал ей от дома. Если верить молве, Беттина обозвала
жену своего обожаемого кумира "жирной кровяной колбасой". Никто из
присутствовавших при ссоре, однако, не оставил никаких свидетельств на этот
счет.
"Я и не
предполагала, — писала Беттина, — что когда-нибудь все же снова решусь тебе
написать, но ты ли это?.. Теперь, конечно, я понимаю, как трудно было выносить
меня, при моей страстности, да я и сама себя не выношу..."
Гёте, однако, не
стал ей отвечать: он больше не желал иметь с ней дело. Работая над
"Поэзией и правдой", он использовал записанные Беттиной рассказы его
матери о его детских годах, но теперь он больше не желал поддаваться назойливым
попыткам к сближению, исходившим от этой женщины. Она же в своем письме то и
дело снова впадала в роль ребенка, например рассказывая о своем сне: она будто
бы очнулась от мирного сна "у тебя на коленях, за длинным накрытым
столом". Гёте не довелось уже узнать другую Беттину — зрелую женщину, с
достойным восхищения энтузиазмом вступившуюся за права бедняков и всех
обездоленных ("Эта книга принадлежит королю", 1843—1852).
Словом, от новой попытки
Беттины к сближению
471
Гёте отделался
молчанием: он вообще избегал теперь всяческого выяснения отношений и споров, по
крайней мере старался, чтобы споры случались не часто. Порой он колебался, не
зная, как ему следует относиться к тому, что творилось вокруг. "Сейчас
необходимо четко высказать свое мнение, чтобы сохранить разумное, коль скоро
неразумие круто взялось за дело" — такими словами защищал Гёте свою
полемическую статью "О новогерманском религиозно-патриотическом искусстве".
Против "современного помешательства безумных сыновей", против ложных
взглядов следует воевать "резко и неумолимо", писал Гёте Рохлицу 1
июня 1817 года. Несколько позже он высказывался уже по-иному. Я знаю, говорил
Гёте, на чьей стороне я стою и какой образ мыслей мне подобает. "Его я и
стараюсь утвердить в моем сознании, будь то по отношению к искусству или к
природе, другие же пусть поступают иначе — спорить я отныне вообще не
намерен" (из письма С. Буассере от 17 октября
Гёте никогда не
покидало чувство одиночества. Упоминания об одиночестве упорно повторяются в
его письмах. Свет дружбы, какая связывает его с немногими людьми, например с
Цельтером, изредка озаряет этот мрак одиночества. Еще в октябре 1817 года Гёте
написал слова, которые впоследствии не раз повторял: "Жить
— в сущности значит лишь
многих пережить" (из письма к Буассере от 17 октября
472
"Все, ты сказал мне, погасили годы:
Веселый опыт чувственной природы,
О милом память, о любимом вздоре,
О днях, когда в безбережном просторе
Витал твой дух, — ни в чем, ни в чем отрады:
Не радуют ни слава, ни награды,
Нет радости от собственного дела,
И жажда дерзновений оскудела.
Так что осталось, если все пропало?"
"Любовь и Мысль! А разве это мало?"
(Перевод В. Левика — 1, 353)
Осталась вера в
осмысленную упорядоченность всего сущего и ее понимание, насколько оно вообще
доступно смертным.
"Созерцая
мироздание в самых широких его пределах, как и в мельчайшей частице, мы
невольно начинаем предполагать, что в основе всего сущего лежит некая мысль, в согласии
с которой бог в природе, а природа — в боге могут творить и действовать от
одной вечности к другой. Созерцание, наблюдение, размышление помогают нам ближе
подойти к этим тайнам" ("Сомнение и смирение"). И вечно
оставалась возможность Любви, сокрушающей любые ограничения, дарящей чувство
сопричастности к главной идее всего сущего.
"Зубец, 19
февр. 1818", — гласит пометка на рукописи приведенного стихотворения.
Прежде, приезжая в Йену, Гёте чаще всего жил во дворце, но с 1817 года он
временно квартировал в двух скромных комнатах садового дома в Ботаническом
саду. А на этот раз он снял комнату в постоялом дворе "У ели" на
Камсдорфском мосту, дабы побыть "в почти полном одиночестве" и к тому
же видеть из южного эркера движение солнца по небосводу еще в самом начале
весны. Сообщая Цельтеру 16 февраля 1818 года, что он "завладел зубцом (как
называют эркер в просторечии)", поэт писал: "Здесь провожу я теперь
лучшие часы дня: прямо передо мною — река, мост, песок, заливной луг с выгоном
и сады, дальше — славное шутовское гнездо, а за ним — холмы и горы и
пречудеснейшие ущелья и высоты... В ясную погоду я вижу заход солнца каждый
день — чуть позже и чуть дальше к северу, и тогда только я возвращаюсь в
город".
473
Бог и природа. Миросозерцательные стихотворения
Свои
основополагающие представления о боге, о мире и о человеке Гёте высказал в ряде
стихотворений начальной поры своей старости, вслед за которыми появились
другие, не менее значительные. Их можно назвать миросозерцательными, если
только не забывать при этом, что и другие лирические произведения поэта, не
удостоенные столь торжественного наименования, тоже выражают гётевское
"мировоззрение". Речь идет не только о больших гимнах юности и зрелых
лет поэта, но, к примеру, и о таком стихотворении, как "На озере", и
о других стихах, воспевающих природу, о балладах, элегиях и, разумеется, о
"Западно-восточном диване". Всюду выражено гётевское
"мировосприятие", каким оно было в определенную пору жизни.
Бесспорно, однако, что в некоторых особенно запоминающихся стихотворениях
сосредоточена сумма основополагающих представлений поэта, объемом и значением
превосходящая любые частные выводы. Эти мировоззренческие принципы поэта и были
положены им в основу пытливого, исследовательского проникновения в природу, и,
наоборот, любой новый вывод неизменно подтверждал главные принципы.
Рассмотрение целого и созерцание частностей взаимосвязаны — одно невозможно без
другого. В этом смысле Гёте-естествоиспытатель еще весьма далек от принципов
непредвзятого экспериментального естествознания, которое излагает итоги
исследований в математических формулах законов, определяющих количественную и
функциональную стороны явлений. Причем этими формулами с тем же успехом может
воспользоваться всякий, кто только соблюдает необходимую процедуру
эксперимента. Но истолкование смысла эксперимента, выходящее за его рамки, при
этом не предусмотрено, во всяком случае, не такое истолкование, которое
оказывало бы обратное влияние на конкретную постановку исследования и опытов.
Правда, могут быть воспроизведены и естественнонаучные опыты, поставленные
самим Гёте. Однако он никогда не укладывал результаты в числовые формулы, а
насыщал их толкованиями, вытекавшими из его собственных основополагающих
принципов, или по меньшей мере подводил дело к соответствующим заключениям.
Гёте неизменно делал упор на связи любых выводов с великим целым, в рамках
которого природа и человек должны были
474
оставаться в
неразрывной взаимозависимости. Подобный взгляд на природу — независимо от того,
дает он в конкретном случае верный или ошибочный результат, — непреходящий
вызов такому естествознанию и такой технике, что превыше всего ставят свою
эффективность и потому несут свою долю ответственности за бездумное вторжение в
природу и расхищение земных богатств. Разумеется, наличие подобного вызова не
означает, будто нужно отказаться от методов современных естественных наук,—
важно лишь задуматься над их последствиями для человека и рассматривать их
наряду с прочими видами человеческой деятельности, в едином контексте существования
мира, общества и индивидуума. Смысл же этого неразрывного единства не
исчерпывается верностью, надежностью и эффективностью естественнонаучных
методов, так же как он и не может быть выведен из них.
Согласно Гёте,
частное явление символически указывает на целое; предпосылка — одновременное
восприятие общего и единичного. Основополагающие убеждения, провозглашенные в
миросозерцательных стихотворениях поэта, содержат квинтэссенцию гётевского
мировосприятия. Стало быть, эти убеждения — плод его собственного толкования
бытия — нельзя рассматривать как какие-либо нерушимые законы мироздания. Они —
свидетельство веры поэта, его специфического религиозного чувства, черпавшего
из многих источников и впечатляющего своей силой и искренностью, своей
обращенностью к миру; они — ориентиры, по которым выверяются мысль и действие в
гётевском понимании этих слов. С их помощью поэт, познавший тревогу и много мук
принявший от нее, поэт, который порой был близок к отчаянию и уже знал, что
жить долго — значит лишь многих пережить, старался утешить себя и подбодрить:
Того во имя, кто зачал себя,
В предвечности свой жребий возлюбя;
Его во имя, кто в сердца вселил
Любовь, доверье, преизбыток сил;
Во имя часто зованного здесь,
Но — в существе — неясного и днесь:
Докуда слух, докуда глаз достиг,
Лишь сходное отображает лик,
И пусть твой дух как пламя вознесен,
475
Подобьями довольствуется он;
Они влекут, они его дивят,
Куда ни ступишь — расцветает сад.
Забыты числа, и утрачен срок,
И каждый шаг как вечности поток.
(Перевод Н. Вильмонта — 1, 455)
Этим стихотворением
Гёте в 1817 году открывает свой сборник "Вопросы естествознания
вообще", и его же, только под названием "Procemion" ("Вступление"), поэт ставит
во главе цикла "Бог и мир", вошедшего в последнее прижизненное
издание его сочинений. В цикл включены преимущественно стихотворения
религиозного и естественнонаучного содержания — тем самым Гёте указывал на
истоки своих мировоззренческих принципов зрелых и преклонных лет.
Зачин этого
стихотворения, созвучный известной молитвенной формуле — "Во имя отца и
сына и святого духа", исполнен торжественности, но сразу же за ним следует
авторская мысль. Уже в первых двух строках возвещается все, что далее
экспонировано во второй строфе: вся природа в целом представляет собой лишь
вариации единого, божественного начала. Мироздание не отделено от творца,
который воплощает себя в нем, и самовоплощение это неиссякаемо. Бог как
олицетворение разумного миропорядка и есть созидатель нравственных основ,
придающих смысл жизни человека, — это вера, доверие, любовь, труд. О них вновь
и вновь напоминал в старости Гёте, а о боге как таковом даже не упоминал.
Гётевское кредо сводилось к следующему: можно принять на веру наличие высшего
существа, абсолютного и бесконечного, однако его нельзя персонифицировать и
непосредственно узнать, как и дать ему имя. Человек, однако, может ощутить
божественное начало во всем сущем, понимая природу как бога-природу; он может
увидеть в частном подобие великого целого, наслаждение отблеском бесконечного и
тем довольствоваться. "Истинное, идентичное божественному вообще не может
быть познано нами непосредственно; мы созерцаем его лишь в отблеске, в примере,
символе, в его частных и сродственных ему проявлениях; мы воспринимаем его как
непостижимую жизнь и, однако, не можем отказаться от желания его постичь"
("Опыт учения о погоде").
Человеку, способному
созерцать мир незамутненным взором, довольно подобия, символа: через них
476
ощутит он
соприкосновение с бесконечным, времени неподвластным. И самый бег времени
станет ему безразличен, коль скоро ему ведомо, что во всех превращениях
сохраняется и остается жить единое и единичное.
В животворящей
работе природы всегда присутствует деятельное божество. Но это никак не
потустороннее существо, раз и навсегда создавшее природу и оставившее ее на
произвол судьбы. Нет, божество непрестанно самоосуществляется в ней:
Не ладен бог, коль, дав толчок к вращенью,
Перста вокруг велит кружить творенью;
Ему под стать, низыдя в мрак священный,
Миры, собой, себя живить вселенной,
Дабы в сплетеньях зиждущих начал
Ни мощь его, ни дух не иссякал.
(Перевод Н. Вильмонта [1, 481])
В письме к А. Г. Ф.
Шлихтегроллю от 31 января 1812 года Гёте в характерных выражениях отмежевался
от представлений Фрица Якоби о боге как сверхъестественном существе: такой бог,
писал поэт, должен бы все больше отдаляться от реального мира, "тогда как
мой бог все явственнее вплетается в него". Вот почему, если предыдущая
строфа подчеркивала единство природы и бога, то следующая вещает нам о нравственном
мире, живущем в глубине человеческой души:
У нас в сердцах — миров живая ось;
Отсель в народах дивно повелось,
Чтоб каждый лучшее, что повстречал,
Святыней, богом нарекал
И сушу и небо ему вручил,
Страшился и — коль мог — любил.
(Перевод Н. Вильмонта [I, 481])
Божественности
Вселенной соответствует внутренний мир человека, но поскольку и здесь действует
божественное начало, то вполне разумно стремление народов даровать имя бога
лучшему, что есть в этом внутреннем мире. Так свойственно поступать и
отдельному человеку. Здесь намечается своего рода плюрализм веротерпимости:
всякому дозволено почитать и нарекать божественным то, что представляется ему
наиценнейшим. Как и в раннем стихотворении "Божественное",
477
так и здесь
божественное начало непосредственно связывается с нравственной позицией
человека. Не будь этого, бог пребывал бы только в природе и не воспринимался бы
как таковой: только человек и создает бога своей этикой. Без человеческого
гуманизма нет бога — таков дерзкий, многообязывающий постулат внутреннего
религиозного чувства человека, могущий быть воплощенным лишь в конкретной
деятельности. Гёте считал его для себя непреложным и им оправдывал свои
политические суждения. Между тем и современникам его, как ныне и потомкам,
осталось неясным, во всех ли случаях может быть оправдана этим неизменная
приверженность поэта к установленному порядку.
Основная мысль
строфы "У нас в сердцах миров живая ось" повторяется и в позднем
стихотворении "Завет", написанном в 1829 году. Здесь Гёте также
вначале ведет речь о природе. Благороднейшим символом ее порядка и красоты
предстает Солнечная система; однако и внутри человека, в его душе, существует
сродственный порядок, и средоточие его — нравственный закон:
Теперь — всмотрись в родные недра!
Откроешь в них источник щедрый,
Залог второго бытия.
В душевную вчитайся повесть,
Поймешь, взыскательная совесть —
Светило нравственного дня.
(Перевод Н. Вильмонта — 1, 466)
Этот закон,
заключенный в душе человека, есть эманация, отсвет, подобие высшего
божественного закона. Ведомо это и Вильгельму Мейстеру, герою романа "Годы
странствий Вильгельма Мейстера". Увидев с башни обсерватории простершееся
над ним звездное небо, он задает риторический вопрос: "Какое право ты
имеешь хотя бы помыслить себя в середине этого вечно живого порядка, если в
тебе самом не возникает тотчас же нечто непрестанно-подвижное, вращающееся
вокруг некоего чистого средоточия?" (8, 105). Здесь слышится отзвук
кантовских слов насчет звездного неба над нами и нравственного закона в наших
душах.
8 октября 1817 года,
как записано в дневнике Гёте, были "перебелены пять стансов". Это
"Первоглаголы.
478
Учение орфиков"
— поэтический цикл-исповедь об исконных силах, определяющих течение
человеческой жизни. Постигая разумом мир, автор систематически исследует все, что
в жизни человека неизменно предстает в неразрывном сплетении, связывая его с
решающим воздействием исконных сил: Даймона, Тихе, Эроса, Ананке, Элписа. Этим
пяти силам к тому же одновременно соответствуют пять этапов человеческой жизни
— хотя это нигде особо не подчеркивается. Даймону принадлежит решающая роль
прежде всего при рождении человека; Тихе — в юности его, Эрос приносит
переломный рубеж в жизни; Ананке правит человеком в годы его труда, в пору его
средних лет; Элпис остается старцу, помогая пережить расставание с земным
бытием. Так в стихотворении говорится о пяти силах, то одновременно, то
попеременно воздействующих на человека, его жизненный путь. Этому отвечает и
внешняя форма стансов: строгое их построение, при котором каждый станс завершается
строками с парной рифмой. Но вместе с тем каждая отдельно взятая строфа
указывает на следующую — особенно четко заметен этот переход от
"Тихе" к "Эросу".
Первоглаголы. Учение орфиков
ДЕМОН
Со дня, как звезд могучих сочетанье
Закон дало младенцу в колыбели,
За мигом миг твое существованье
Течет по руслу к прирожденной цели.
Себя избегнуть — тщетное старанье;
Об этом нам еще сивиллы пели.
Всему наперекор вовек сохранен
Живой чекан, природой отчеканен.
СЛУЧАЙ
Все разомкнет, со всякой гранью сладит
Стихия перемен, без долгих споров
Упрямую своеобычность сгладит, —
И ты к другим приноровляешь норов.
Так жизнь тебя приманит и привадит —
Весь этот вздор не стоит разговоров.
Но между тем, глядишь, пора приспела:
Готов светильник — за огнем лишь дело.
479
ЛЮБОВЬ
Вот он, огонь! Из древних бездн возреяв,
Пернатой бурею спешит ниспасть
Легчайший гость слепящих Эмпиреев,
Весною веет и лелеет страсть,
Покой души во всех ветрах развеяв:
То жар, то хлад, то радость, то напасть.
Во тьме стихий иной себя забудет,
Но лучший верен личному пребудет.
НЕИЗБЕЖНОСТЬ
Меж тем созвездий вечное веленье
Неотменяемо; не в нашей воле
Самим определять свое воленье;
Суровый долг дарован смертной доле.
Утихнет сердца вольное волненье,
И произвол смирится поневоле.
Свобода — сон. В своем движенье годы
Тесней сдвигают грани небосвода.
НАДЕЖДА
Что ж! пусть стоит железная твердыня,
Предел порывов, древний страж насилья!
Чу, дрогнули засовы — благостыня
Повеяла — взлетает без усилья
Над пеленою мглистою богиня
И нас возносит, нам дарует крылья.
Мы с ней наш путь сквозь все свершаем зоны:
Удар крыла — и позади зоны!
(Перевод С. Аверинцева — 1, 462—463)
Непосредственным
поводом к созданию цикла "Первоглаголы. Учение орфиков" послужили
попытки тогдашних филологов и специалистов по истории древнего мира изучить
самые ранние, восходящие еще к догомеровской эпохе мифическо-религиозные
представления древних греков, нашедшие отражение в орфической лирике. В ней
встречались изречения и символы, являвшиеся сплавом древнейших представлений
древнегреческого, древнеегипетского и древневосточного происхождения. В них
были заключены тайны, связанные с древними верованиями. Все, что приписывалось
легендарному певцу Орфею и идущей от него орфической традиции, — не что иное,
как священные
480
заклинания. В одном
лице были соединены в ту пору поэт и жрец. Исходя из этого, Гёте и назвал свой
цикл "Первоглаголы" 1.
В работах Георга Зёга, датского исследователя истории древнего мира, Гёте нашел
ссылки на древние мистические верования, будто божества, подобные названным —
по-гречески — в стансах, присутствуют при рождении человека. Цикл
"Первоглаголы. Учение орфиков" — поэтический отклик на изыскания
филологов и исследователей мифов. Разумеется, у Гёте не было намерения внести
очередной вклад в изучение раннеантичной космогонии и орфических заклинаний.
"Священные" древние слова, обозначавшие силы, властвующие над судьбой
человека, он интерпретировал соответственно своему жизненному опыту и своим
убеждениям. И в жизнерадостно-непринужденном стиле, какой часто бывал свойствен
ему в старости, поэт следующим образом охарактеризовал свой метод освоения
наследия прошлого: "Если вновь извлечь из туманных источников древности их
квинтэссенцию, получишь услаждающий душу кубок, а если еще с помощью живого собственного
опыта вновь освежить мертвые речения, то выйдет не хуже, чем с той сушеной
рыбиной, какую молодые люди окунули в источник молодости, а когда она вдруг
набухла, затрепыхалась и уплыла, они лишь возрадовались, что наконец нашли
истинно животворящую воду" (из письма Сульпицу Буассере от 16 июля
После того как Гёте
опубликовал эти стансы в 1820 году в сборнике "Вопросы естествознания
вообще, преимущественно морфологии", он напечатал их вторично в журнале
"Об искусстве и древности", снабдил строфы соответствующим
комментарием. Правда, это не был комментарий в том смысле, какой обычно
вкладываем в это понятие мы. Поэт ни единым словом не раскрывает сути своих
стихов, по-прежнему перед нами в основном намеки. Однако лейтмотив всех
примечаний таков: попытка доказательства беспрестанного полярного
взаимодействия
1 По-немецки "Urworte", то есть, точнее, "праслова".
481
свободы и необходимости.
Это очевидно уже из чередования строф: если в одной речь идет главным образом о
принуждении, то в последующей непременно говорится о свободе. В центре цикла,
однако, поставлено восьмистишие, посвященное двойственной власти Эроса.
Впрочем, каждая строфа отображает силу, вмещающую обе грани: одну —
явную", другую — тайно противодействующую первой.
Применительно к
первой строфе Гёте писал о "демоне" в примечании, что он
"означает здесь необходимую, непосредственно при рождении выраженную,
ограниченную индивидуальность данного лица". Стало быть, поэт отнюдь не
имеет здесь в виду ту двойственную силу, преследующую человека извне, — то
"демоническое", о каком нередко размышлял Гёте в старости: ведь
демоническое не божественного происхождения, поскольку неразумно,
нечеловеческого, поскольку не являет следов рассудка, но и не дьявольского,
поскольку может быть и благотворным. "Демон" здесь — всего лишь
прирожденная необходимость быть таким, каков ты есть, и больше никем другим.
Гарантами неповторимой индивидуальности выступают: расположение небесных светил
в час рождения человека да еще прорицания сивилл и пророков — сочетание, уже
наличествующее в потолочной фреске Микеланджело в Сикстинской капелле Ватикана.
Так, "Поэзия и правда" начинается с описания положения созвездий на
28 августа 1749 года, пусть автором даже слегка подтасованы "благоприятные
предзнаменования" 1, дабы
жизнь новорожденного была осенена многообещающими знаками. Но "демон"
"Первоглаголов" — отнюдь не просто слепое, бессмысленное принуждение.
"Демон" понимается как монада, как энтелехия, как некая внутренняя
сила, движущая сила развития, понуждающая человека к раскрытию врожденных
наклонностей: "...вовек сохранен / Живой чекан, природой отчеканен".
Правда, здесь уверенно провозглашается лишь долженствование, лишь пожелание;
развитие в желательном направлении — отнюдь не нечто само собой разумеющееся.
Ведь развитию энтелехии можно и помешать, можно не дать ему совершиться, и в
стансах "Неизбежность" говорится именно об этом, нехотя, почти через
силу, однако точки над i все же расставлены:
"Нет никого, кто не чувствовал
1 В "Поэзии и правде": "Расположение созвездий мне благоприятствовало" (3, 12).
482
бы себя мучительно
стиснутым, когда он вызывает подобные состояния, хотя бы в воспоминании"
(из гётевского комментария [I,
650]). Кажется, будто "Случай" способен изменить предопределенность
судьбы индивидуума, ее ограничительную роль. Человеческая личность окунается в
многообразие жизненных связей, откликается на них, вынуждена приспосабливаться
к ним, но способна и растратить себя понапрасну. "Конечно, повсюду
сохраняется "демон", и в этом сказывается наша собственная природа,
древний Адам, или, как бы его ни называть, тот, кто, будучи изгоняем,
возвращается каждый раз все более и более непреодолимо" [I, 651].
Под властью любви
Эроса принуждение и воля сливаются воедино. Безоглядное посвящение себе
"одному" 1 — веление
рока, которое при всем том доставляет наслаждение. "Один" в последней
строчке строфы — это не только партнер в любви, но также и "доставленный
судьбой предмет", которому человек готов полностью себя посвятить. Отсюда
понятен переход к стансам "Ананке". Посвятить себя
"Одному", захватить его — значит создать новые узы, которые влекут за
собой ограничения, новую необходимость и заявляют свои притязания. Возвращаясь
к сказанному в начале стихотворения, поэт указывает на "вечное
веленье", которому подчинена вся человеческая жизнь. "Ананке"
("Неизбежность") — это некое внешнее принуждение, неумолимая необходимость,
ограничивающая пределы свободы и приучающая к смирению, к осознанию той истины,
что "свобода — сон". Дана, однако, человеку и надежда, которая вновь
и вновь поднимает его над необходимостью внешних принуждений. И так
человеческая жизнь пульсирует между принуждением и свободой, воплощая себя в
диастоле и систоле, и оба эти состояния следует признать возможными и
уготованными человеку.
Всю ткань
"Первоглаголов" пронизывают мотивы высшего, не только земного,
существования человека. Ядро личности провозглашается неразрушимым, не только в
короткий срок человеческой жизни, но и за ее пределами. Ядро это "нельзя
ни расколоть, ни раздробить, даже на протяжении многих поколений" (из
гётевского комментария). Гёте трудно было примириться с тем, что человеческая
жизнь ограничена
1 Последняя строчка восьмистишия "Эрос" в подстрочном переводе звучит так: "Но благороднейший посвятит себя одному". — Прим. перев.
483
быстротечным земным
бытием. С надеждой заглядывал он в сферы бесконечного. И там мнилось ему —
прочной субстанцией — ядро личности, способное обрести бытие, но при том не
исчезнуть вместе с ним. Последняя строчка стансов — "Удар крыла — и позади
эоны!" — открывала перспективу бессмертия. В старости Гёте упорствовал в
своей вере в бессмертие, принимая ее как постулат, за отсутствием каких-либо
реальных доказательств в ее пользу и при том, что он отказывается принимать
всерьез посулы христианской религии на этот счет. Поэт не желал примириться с
тем, что в вечно живой и обновляющейся природе человек оказывается скован
границами своего земного существования. Гёте понимал, он касается здесь такого,
что неподвластно рассудку, "но все же не хочется и воцарения
безрассудности", писал он Цельтеру 19 марта 1827 года. "Вечное
блаженство мне ни к чему", — заявил он канцлеру фон Мюллеру 23 сентября
1827 года. В другой раз Гёте заговорил с ним о своих "взглядах на духовное
бессмертие" (из "Разговоров с Гёте" канцлера Мюллера, запись от
19 февраля
484
Восьмистишие
"Надежда" в "Первоглаголах" открывает перспективу сразу в
двух направлениях: от присущего жизни конфликта между желаниями человека и
необходимостью — к сфере свободы, полного отсутствия ограничений, а также от
преходящего — к вечной жизни духа, требуемой поэтом. Человек имеет право на все
это, полагал автор новых (но вместе с тем и древних) первоглаголов, и эта
убежденность диктует стансам их размеренно твердый ритм.
Гёте, особенно в
старости, питал пристрастие к афоризмам. Он сам любил формулировать свои мысли
коротко и метко, повод же для этого представлялся беспрестанно: во время
визитов, в связи с повседневными жизненными наблюдениями, по прочтении книг.
Сплошь и рядом Гёте обращался для этого к сборникам пословиц и нисколько этого
не скрывал: "Не все тут слова из саксонской земли, / Не все в огороде моем
проросли; / Но каких бы семян ни прислала чужбина, / Я их вырастил сам — вот
какая картина". В собрании сочинений 1815 года накопившиеся с годами
изречения собраны им в разделах "Изречения", "Бог, душа и
мир" и "Эпиграммы". Все созданное позже поэт собрал воедино в
"Кротких ксениях" — названных так в отличие от прежних, язвительных
ксений времен его творческой дружбы с Шиллером; часть "кротких
ксений" он опубликовал вначале в журнале "Об искусстве и
древности" за 1820 год. Эти рифмованные изречения охватывают столь же широкий
круг тем, как и прозаические "Максимы и рефлексии": религия и жизнь,
искусство и наука, политика и анализ движений собственной души. Собрав эти
изречения, поэт тем самым создал для себя и для читателей своего рода сборник
поучений на все случаи жизни, предложил, в частности, пестрый набор
"мировоззренческих" мотивов: "Уйти желаешь в бесконечность — /
Лучше узри в конечном вечность". Или: "Желаешь насладиться целым — /
Узри его в частичном смело".
На пестрый луг я ступил, под своды
Первозданной природы;
И, божьей милостью упиваясь,
В роднике традиции я купаюсь.
Весело и
непринужденно, самоиронично, а порой и язвительно, мудро и метко изъяснялся
стихами поэт
485
по разным поводам.
Суждения, которые представлялись существенными, он шлифовал, превращая их в краткие,
сжатые афоризмы, но порой довольствовался и беглым намеком, что было особенно
свойственно ему в преклонные годы. Правда, иной раз при этом провозглашались
прописные истины, да и искусство стихосложения временами оставляло желать
лучшего: "Не то года мне изменяют, / Не то ребенком стал я вдруг? / Я, что
ли, спятил? — Сам не знаю... / Иль все с ума сошли вокруг?" Или такое:
"Наблюдай из года в год / Надо знать, чем жив народ; / А уж сам смотри всю
жизнь / Только не переменись".
Сам Гёте, во всяком
случае, не раз претерпевал всевозможные "перемены", а Бертольт Брехт
в этой связи поведал о некоем мыслителе, господине Койнере, следующее:
"Некто, давно не встречавший господина К., приветствовал его словами:
"Ба, да вы нисколько не изменились!" — "Как?!" — только и
сказал господин К. и побледнел". Вера Гёте в "живой чекан",
сохраняющийся в неизменном виде во всех метаморфозах, в четверостишии,
цитировавшемся выше, низведена до уровня чахлой альбомной поэзии.
Гёте — естествоиспытатель
В
"миросозерцательных" стихотворениях Гёте, какие упоминались выше,
высказывались убеждения, лежавшие в основе его подхода к изучению природы.
Неустанно, из года в год, продолжал он свои наблюдения за явлениями,
распространявшимися на разные области знания: геологию и минералогию, ботанику
и сравнительную анатомию, учение о цвете и метеорологию. Выше уже говорилось о
том, как поэт начиная с 1776 года, в силу своих служебных обязанностей в
Веймарском герцогстве, соприкоснулся с множеством проблем, связанных с
состоянием почвы и растительного мира, например, когда потребовалось заняться
рудниками в Ильменау, когда он ведал строительством гидротехнических сооружений
и грунтовых дорог, принимал участие в устройстве парков, наконец, когда заложил
собственный сад. Многочисленные стимулы к занятиям этого рода исходили также из
Йенских естественнонаучных учреждений. "Я от самого общего, самого
заметного пришел к полезному, практически применимому, от потребности — к
познанию..." — так вспоминал он, обобщая историю своих
486
ботанических
штудий 1. Но Гёте не
довольствовался этим, он вел самостоятельную исследовательскую работу, стремясь
получить представление о взаимосвязях, существующих в природе, и постичь суть
системы, определяющей многообразие окружающих форм. Он был счастлив, когда в
1784 году открыл межчелюстную кость у человека — ведь тем самым обнаружилось
доказательство единого строения скелета у всех млекопитающих. Радовался поэт и
тогда, когда посчитал, что ему удалось распознать "скрытое родство"
всех частей растения — по листу и связанному с ним черенку, — и соответственно
описал это явление в работе "Метаморфоза растений" (1790), в которой
высшее растение на каждой стадии своего развития уподобляется "листу"
с изменчивыми функциями.
В конечном счете у
Гёте набралось множество набросков работ по естествознанию, разных проектов,
трактатов. Однако печатать все это он не спешил, оваций по поводу своих
открытий ему ждать не приходилось. Так, статью "О межчелюстной кости у
человека и у животных" он даже не отдал в печать, поскольку специалисты
весьма скептически оценили выводы, изложенные в его рукописи. Работа над
"Статьями по оптике" (1791—1792) застопорилась уже после второй
статьи, хотя многолетние изыскания в этой области вошли в два солидных тома
"Учения о цвете" (1810) — самого обстоятельного научного труда Гёте.
После его публикации, правда, изучение природы несколько отодвинулось для поэта
на второй план, хотя Гёте и в дальнейшем не забывал своих интересов. С годами у
Гёте накопилось множество неопубликованных статей, однако он намерен был и
впредь высказывать свои мысли о разного рода естественнонаучных проблемах. С
1817 года он поэтому стал издавать специальные выпуски, отдельные тетради
которых выходили нерегулярно до 1824 года под общим названием "Вопросы
естествознания вообще, преимущественно морфологии. Опыты, размышления, выводы,
связанные с жизненными событиями". Гёте одновременно издавал две серии:
"Вопросы естествознания вообще" и "Вопросы морфологии"; в
каждую из них вошло по шесть выпусков, причем по четыре выпуска были объединены
в обоих первых томах этих серий (1817—1822), а еще по два — в обоих вторых
1 Гётe И. В. Избранные сочинения по естествознанию. М., 1957, с. 62.
487
томах (1822—1824). В
наши дни обе серии были переизданы в двух томах Немецкой академией естествоиспытателей
с сохранением их первоначальной последовательности 1. В выпуски "Вопросов морфологии"
вошло кое-что из уже опубликованного и написанное ранее: еще раз напечатана
"Метаморфоза растений" вместе с одноименной элегией; тут же
опубликована статья о межчелюстной кости; помещены наброски и статьи по
сравнительной остеологии, небольшие работы по ботанике и зоологии, и, как
указывал необычный подзаголовок сборника, Гёте считал нужным сообщить сведения
о жизненных обстоятельствах, сопутствовавших его естественнонаучным
исследованиям. В совокупности все напечатанное должно было служить
"свидетельством тихой, упорной и последовательной деятельности". В
самом начале он поместил сокращенный вариант очерка "История моих
ботанических занятий", рассказал о возникновении и резонансе своей работы
о метаморфозе растений; затем, под заголовком "Счастливое событие",
поведал о своей первой встрече с Шиллером, когда у них завязался разговор о
метаморфозе растений и Шиллер, покачав головой, сказал: "Это не опыт, а
идея".
В серию
"Вопросы естествознания вообще" вошли преимущественно новые статьи.
Здесь были представлены дополнительные материалы по учению о цвете (особенно об
энтоптических цветах). Многие страницы были отданы вопросам геологии и
минералогии Богемии, где поэт во время отдыха усердно занимался научными
исследованиями. В других статьях сообщалось о результатах метеорологических
изысканий, которыми Гёте активно занялся после завершения "Учения о
цвете". Однако нашлось здесь место и ранней теоретической статье 1793 года
"Опыт как посредник между объектом и субъектом", а под названием
"Стародавнее, чуть ли не устаревшее" поэт включил сюда еще и свои
афоризмы. Помимо всего этого, Гёте временами, особенно в выпусках "О
морфологии", предоставлял страницы сборника молодым естествоиспытателям,
выступавшим с собственными статьями. Здесь невозможно даже перечислить все
статьи выпусков 1817—1824 гг., как и пытаться сколько-нибудь подробно
рассмотреть хотя бы некоторые из них; неизбежно понадобилось бы обстоятельно
разъяснять
1 Goethe J. W. Die Schriften zur Naturwissenschaft. Weimar, 1947 ff. — Обе серии занимают 8—9 тт. названного издания.
488
некоторые
специальные вопросы, а для не посвященного в них автора данной книги это вообще
дело рискованное. Разумнее, на наш взгляд, попытаться очертить особенности
естествоиспытательского метода Гёте в целом.
Разумеется, сборник
этот не представлял собою единого по замыслу произведения с четким тематическим
членением. Гёте обогатил его не только автобиографическими вставками, но также
и стихами. Этим поэт ясно показывал, что его взгляд на природу не исчерпывался
отдельными исследованиями, а, напротив, изучение отдельных явлений велось им на
основе общего миросозерцания, которое можно было выразить исключительно языком
поэзии, что и нашло отражение в его "миросозерцательных" стихах. Ведь
в изречениях и строфах, рассыпанных среди научных статей, не ощущается — в
отличие от элегий о метаморфозе растений и животных — авторское стремление
разъяснить читателю те или иные конкретные выводы естественных наук. Уже
упоминавшиеся выше строки "Того во имя, кто зачал себя!" украшали
начало первого выпуска "Вопросов естествознания вообще", а
глубокомысленное стихотворение "Одно и все" — "В безбрежном мире
раствориться, / С собой навеки распроститься / В ущерб не будем никому"
(1, 464) — завершало пятый выпуск: это был гимн вечной, животворящей,
одухотворенной природе — "Приди! пронзи, душа Вселенной!" (1, 465).
Природе, которая преобразует сотворенное, но и уходящее воспринимает в себя и
хранит. "Повсюду вечность шевелится, / И все к небытию стремится, / Чтоб
бытию причастным быть" (1, 465). Также и цикл "Первоглаголы. Учение
орфиков" впервые напечатан как вступление ко второму выпуску
"Вопросов морфологии". Поэт-натуралист к тому же сопроводил этот цикл
двумя стихотворными сентенциями, в которых выразил два кардинальных положения:
недопустимо, чтобы повсюду возобладал всеразлагающий анализ; необходимо
осознать целостность явления как единство целого внутри и вовне. А допускаемое
в процессе исследования уподобление целого мельчайшим его частям не должно
вести к исчезновению многогранности живой формы из поля зрения исследователя:
Мирозданье постигая
Все познай, не отбирая:
Что — внутри, во внешнем сыщешь;
489
Что — вовне, внутри отыщешь.
Так примите ж без оглядки
Мира внятные загадки.
* * *
Нам в правдивой лжи дано
Жить в веселье строгом:
Все живое — не одно,
Все живет во многом.
("Эпиррема". — Перевод Н. Вильмонта [I, 486—487])
В начале первого же
выпуска "Вопросов морфологии" Гёте вкратце разъяснил свое понимание
формы ("Пояснение намерения") 1
и высказался против разложения феномена на "элементы", поскольку из
них вновь уже не составишь живое. "Всякое живое существо не есть нечто
единичное, а является известной множественностью; даже в той мере, в какой оно
нам кажется индивидуумом, оно все же остается собранием живых самостоятельных
существ, которые по идее, по существу одинаковы; в явлении же, однако, могут
представиться одинаковыми или похожими, неодинаковыми или непохожими". Так
и в своем учении о цвете Гёте выступал против изолирования отдельного светового
луча, как это делал в своих опытах Ньютон. Взор Гёте стремился видеть живое в
несколько более крупных элементах — и уже этим его подход отличался от позиции
современного нам естествознания, которое последовательно двигалось ко все
меньшим и меньшим объектам исследования. Одна из серий выпусков за 1817—1824
годы была призвана "основать и разработать учение, которое мы склонны
назвать морфологией" 2. Еще
в 1795 году Гёте дал такую формулировку: "Морфология должна содержать
учение о форме, об образовании и преобразовании органических тел" 3. Это учение, по мысли Гёте, может
рассматриваться как самостоятельная наука, но и как вспомогательная дисциплина
по отношению к физиологии. Учение о форме способно лишь представить явление, но
не раскрыть его, изложив, к примеру, историю развития живых организмов. Все
внимание его направлено на существующий мир форм и
1 Гёте И. В. Избранные сочинения по естествознанию, с. 11.
2 Там же.
3 Там же, с. 104.
490
на происходящие в
нем процессы. В одном из введений к выпускам "Вопросов морфологии"
Гёте пояснял: "У немца для комплекса проявлений бытия какого-нибудь
реального существа имеется слово "Gestalt" (облик, образ, форма). Употребляя его, он отвлекается от всего
подвижного и принимает, что все частности, входящие в состав целого, прочно
установлены, закончены и закреплены в своем своеобразии.
Однако если мы будем
рассматривать все формы, особенно органические, то найдем, что нигде нет ничего
устойчивого, ничего покоящегося, законченного; что все, напротив, скорее
зыблется в постоянном движении. Поэтому наш язык достаточно обоснованно
употребляет слово "образование" как в отношении к чему-либо
возникшему, так и к еще возникающему.
Таким образом, если
мы хотим дать введение в морфологию, то мы, собственно, не можем говорить о
форме; а употребляя это слово, во всяком случае, должны иметь при этом в виду
только идею, понятие или нечто лишь на мгновение схваченное в опыте.
Все образовавшееся
сейчас же снова преобразуется, и мы сами, если хотим достигнуть хоть
сколько-нибудь живого созерцания природы, должны, следуя ее примеру, сохранять
такую же подвижность и пластичность" 1.
Мы должны постичь,
учит Гёте, жизненную организацию формы, которая, подобно всему живому, говоря
его же словами, "не есть нечто единичное, а является известной
множественностью". При этом в отличие от прежнего, когда упор делался
преимущественно на функции отдельных органов, надлежит рассматривать организм
как исполненное смысла единое целое, являющееся самоцелью: "Каждый зверь —
самоцель. Совершенным из чрева Природы / Вышел он, и дитя породит, как сам,
совершенным" (перевод Н. Вольпин — 1, 460).
После того как Гёте
от умозрительных построений герменевтики и алхимических экспериментов, уже в
Веймаре, пришел к осознанию важности конкретных наблюдений за природой,
по-прежнему оставались на повестке дня принципиальные вопросы: каковы тайные
законы, повелевающие природе явить все многообразие своих форм? Каковы главные,
опре-
1 Гёте И. В. Избранные сочинения по естествознанию, с. 11—12.
491
деляющие формы в
различных ее сферах? Какие основные элементы способен выявить пытливый взгляд
исследователя — чтобы к ним можно было свести (и из них вывести) все
многообразие явлений? Что остается неизменным во всем сложном процессе
формирования и трансформации? Слова, встречающиеся в письме поэта к Шарлотте
фон Штейн (от 10 июля 1786 года), воспринимаются как род жизненной программы:
мир растений, пишет Гёте, преследует его как некое наваждение, и дальше:
"...необъятное царство упрощается в моей душе", это не сон, не
фантазия; "это обнаружение существенной формы, с которой природа как бы
всегда играет и, играя, вызывает разнообразнейшую жизнь. Будь у меня время в
кратком жизненном сне, я бы отважился распространить это на все царства природы
— на все ее царство" 1.
В основе же всех
вопросов, с которыми Гёте обращался к природе, было изначальное убеждение,
которое и связывало его по-прежнему со всеобъемлющими умозрительными
построениями герменевтики: все сущее образует великое психофизическое единство.
Эта концепция поэта отчасти соприкасалась с идеями такого философа, как
Шеллинг, как и с прочей натурфилософией того времени. Однако характерный для
Гёте неизменный акцент на строгом и точном наблюдении природы определял отличие
его взглядов от воззрений натурфилософов.
Гёте был убежден,
что "природа действует согласно идее", стремился выявить эту идею и
утверждал: "Точно так же и человек, за что бы ни брался, всегда следует
некоей идее". Исходя из подобных предпосылок и не желая от них
отказываться, он увяз в путах фундаментальной проблемы: как добиться, чтобы
смысл всеобщего порядка, идеи, которым подчинена природа, а также идеи,
привнесенные в нее человеком, соотносились с фактами, получаемыми на практике
при наблюдении природных явлений? Влияет ли одно на другое? Должны ли в этом
случае идеи склониться перед опытом или же опыт должен быть приведен в
соответствие с идеями?
"Размышление и
смирение" — так называлась небольшая статья в разделе "Разное"
второго выпуска "Вопросов морфологии". В ней Гёте —
естествоиспытатель, которого одновременно тяготили и воодушев-
1 Цит. по: Канaeв И. И. Иоганн Вольфганг Гёте. Очерки из жизни поэта-натуралиста. М.—Л., 1964, с. 94.
492
ляли собственные исходные
гипотезы, — сформулировал задачу так: "Рассматривая мироздание во всем его
объеме и в мельчайших деталях, мы представляем себе, что в основе всего лежит
идея, по которой извечно действуют и творят бог в природе, природа в боге.
Созерцание, рассмотрение, размышление подводят нас ближе к этим тайнам. Мы
отваживаемся и осмеливаемся создавать идеи; но мы умериваем свой пыл и
составляем понятия, которые должны быть аналогичны тем первоначальным понятиям.
Здесь мы
сталкиваемся с трудностью, которая не всегда ясно осознается, а именно что
между идеей и опытом лежит пропасть, перешагнуть которую мы напрасно стараемся.
И несмотря на это, мы вечно стремимся преодолеть этот пробел разумом,
рассудком, силой воображения, верой, чувством, мечтой, а если ничто не поможет,
то глупостью" 1.
Здесь нагромождены
понятия, далеко уводящие нас от строгой науки, от естествознания, стремящегося
получить в эксперименте поддающиеся проверке результаты. Даже
"глупость" призвал себе на помощь сочинитель — не то в раздражении,
не то шутки ради. "Соединить идею и опыт весьма трудно, что очень мешает в
естествоиспытании. Идея независима от пространства и времени, естествоиспытание
ограничено пространством и временем. Поэтому в идее теснейшим образом
переплетаются симультанное и сукцессивное, с точки же зрения опыта они всегда
разделены, и действие природы, которое по идее нам представляется симультанным
и сукцессивным одновременно, может довести нас до своего рода сумасшествия.
Разум не может себе представить объединенным то, что чувствами воспринято
раздельно, и так и остается неразрешенным противоречие между восприятием и
существующим в идее" 2.
Гёте не знал, как
тут выйти из положения, и потому в заключение своих размышлений над этой
дилеммой "перенесся" в сферу поэзии, что, разумеется, никак не
способствовало решению проблемы: "Поэтому мы с некоторым удовольствием
бежим под сень поэзии и с небольшими изменениями споем старую песенку на новый
лад: "Так скромным взором созерцайте / Шедевр ткачихи сей
извечный..." 3
1 Гёте И. В. Избранные философские произведения. М., 1964 с. 216.
2 Там же.
3 Там же, с. 217.
493
И еще одной исходной
посылки придерживался Гёте. Доверяясь ощущениям своих органов чувств, он
отвергал необходимость насильно отбирать у природы ее тайны с помощью
искусственных приборов. "Природа умолкает на плахе" 1, — считает Гёте и дальше утверждает: в том и
состоит "величайшая беда современной физики, что эксперименты проводятся
словно бы в отрыве от человека, а природу хотят познавать лишь через показания
искусственных приборов и даже стремятся ограничиться этим, доказывая, на что
она способна". Поэтому Гёте приходилось довольствоваться такими порядками
величин, которые еще доступны органам чувств человека. Стремясь обнаружить
мельчайшие основные единицы в природе, Гёте заведомо искал только те, что были
доступны восприятию наших органов чувств. Однако уже сама по себе эта исходная
посылка в принципе закрывала ему путь ко всем естественным наукам, шаг за шагом
подступавшим ко все более мелким частицам веществ, а уж мир элементарных
частиц, объект современной науки, надо полагать, и вовсе представился бы поэту
нечеловеческим кошмаром.
Таковы были исходные
предпосылки естественнонаучных изысканий Гёте. Он охотно, помногу и тщательно
вел наблюдения, но не желал задерживаться на стадии анализа. А чтобы в
наблюдаемом отыскивались всеобщие закономерности, роль постоянной регулирующей
силы выполняли априорные представления, вытекавшие из его изначальных
убеждений. Для постижения идей, определяющих ход работ в природе, поэт нуждался
в собственных идеях, способных объединить единичные явления в осмысленное
целое, ведь Гёте был убежден в наличии связи между идеями природы и идеями
наблюдателя и исследователя. "Будь несолнечен наш глаз — / Кто бы солнцем
любовался? / Не живи дух божий в нас — / Кто б божественным пленялся?" (перевод
В. Жуковского [I, 651]) — провозглашал поэт во вводной главе
к "Учению о цвете" и впрямь требовал, чтобы свет и глаз
"мыслились как одно и то же". Правда, желая методологически
подкрепить свои "Статьи по оптике", Гёте поведал в работе "Опыт
как посредник между объектом и субъектом" (1792—1793) о проведении серии
экспериментов, действуя сугубо эмпирически; на его взгляд, достаточно
обнаружить заданную самой
1 Там же, с. 339.
494
природой связь между
отдельными фактами, как тотчас возникнут "опыты более высокого
порядка" 1. Однако по
прошествии нескольких лет в статье, которой издатели текстов Гёте дали название
"Опыт и наука", обнаружилось то, что было завуалировано в "Опыте
как посреднике...": насколько сам Гёте как естествоиспытатель возлагал
надежды на активную, решающую роль идей: "Естествоиспытатель стремится
схватить и зафиксировать определенное в явлениях. В отдельных случаях он
обращает внимание не только на то, как феномены проявляются, но и на то, какими
они должны были бы проявляться. Как я часто мог заметить, особенно в
разрабатываемой мною области, существует много эмпирических дробей 2, которые нужно откинуть, чтобы получить чистый
постоянный феномен. Но как только я позволил себе это, я уже предлагаю своего
рода идеал" 3.
В конце концов
результатом всех данных опыта и экспериментов, по словам Гёте, перед нами
предстает "чистый феномен". "Чтобы изобразить его, человеческий
ум определяет все эмпирически колеблющееся, исключает случайное, отделяет нечистое,
развертывает спутанное, даже открывает незнакомое" 4.
О том, какое большое
значение придавал Гёте идеям, движущим исследователем, свидетельствует хотя бы
предложенное им разделение всех натуралистов на следующие четыре категории:
"1. Использующие, ищущие пользу, требующие ее...
2. Любознательные... 3. Созерцающие...", уже вынужденные
"прибегать к помощи продуктивного воображения". И тем удивительнее,
кого же причисляет Гёте к людям четвертого типа: "Объемлющие, которых можно
было бы назвать в более гордом смысле созидающими, проявляются в высшей степени
продуктивно; тем именно, что они исходят из идеи, они уже высказывают единство
целого, и до известной степени делом природы является подчиниться в дальнейшем
этой идее" 5.
1 Гёте И. В. Избранные философские произведения. М., 1964 с. 107.
2 Слово "Bruch" здесь, видимо, переведено неверно. Речь явно идет об "ошибке", "огрехе" (смысл: "отбросить огрехи"). — Прим. перев.
3 Там же, с. 119.
4 Гёте И. В. Избранные философские произведения, с. 120.
5 Гёте И. В. Избранные сочинения по естествознанию, с. 144.
495
Согласно этой
методологии, натуралист, стало быть, присвоил себе право по своему усмотрению
"отбрасывать эмпирические ошибки". Подобная методология, однако, не
может претендовать на роль точного и общепризнанного инструмента познания
природы, способного также выдержать проверку экспериментом. Вместо метода здесь
перед нами — интерпретация, истолкование полученных результатов в свете
упоминавшихся выше гётевских исходных посылок. Это никак не исключает
возможности того, что в ходе своих наблюдений природы Гёте мог получить
результаты непреходящего значения. Насчет степени их важности мнения
специалистов, правда, расходятся. Открытия Гёте в сфере цветового зрения были
важны для психологии чувственного восприятия. А его доказательство
существования межчелюстной кости у человека до сих пор никем не оспаривалось,
многие признают роль Гёте как одного из основателей морфологии. Однако
разъяснения Гёте насчет "чувственно-нравственного действия цвета"
могут заинтересовать разве что художника — физику же его утверждение насчет
существования главного цвета — чистого красного — просто ни к чему.
"Прафеномен" цвета, его возникновение между светом и мраком через
посредство серого, тусклого, — отнюдь не "мельчайший элемент" в этой
сфере. Также и лист нельзя считать праорганом растений, да и его метаморфоза
протекает совсем не так, как представлял себе Гёте. В глубокой старости он
высказал мнение, что метаморфоза — это закон развития, в явлении же, как
правило, обнаруживаются лишь исключения из этого закона (из письма Й. Мюллеру
от 24 ноября
Словом,
естественнонаучные изыскания Гёте в большей мере свидетельствуют об
особенностях присущего поэту способа созерцания природы и о поставленной им
перед собою цели, нежели о получении им надежных результатов, насущно
необходимых науке. Во всем богатстве естественных форм он стремился обнаружить
"существенные формы", первопричинные явления, конечные простейшие
элементы, в которых четко проявлялась бы основная закономерность,
обусловливающая формирование природных единиц. Однако Гёте хотел, чтобы
основные природные феномены к тому же четко воспринимались обычными органами
чувств. Так, в области ботаники он предположил существование в прошлом некоего
"прарастения" и уже
496
ясно представлял
себе его идею. "Прарастение станет удивительнейшим созданием на свете,
сама природа позавидует мне. С этой моделью и ключом к ней станет возможно до бесконечности
придумывать растения, вполне последовательные, иными словами — которые если и
не существуют, то, безусловно, могли бы существовать и обладать внутренней
правдой и необходимостью. Этот же закон сделается применимым ко всему
живому", — писал поэт Шарлотте фон Штейн 8 июня 1787 года (IX, 159). Однако в Италии ему не удалось
обнаружить искомое олицетворение своей идеи. От скрытой сути, идентичной у всех
растений, его взор обратился к идентичному в одном и том же растении, и,
развивая свою идею метаморфозы, он объявил ее изначальным праорганом лист.
Логика требовала, чтобы он и в животном мире стал искать нечто вроде общего
типа строения. Сравнивая между собой различные скелеты, он вскоре осознал
необходимость "установить такой тип, с помощью которого все млекопитающие
могли бы быть испытаны по сходству и различию; и как прежде нашел я
перворастение, так и теперь старался найти первоживотное, что в конце концов
ведь не что иное, как понятие, идея животного" ("Предисловие к
содержанию" 1). Обстоятельно
занимался поэт также изучением анатомии, стараясь найти общую идею строения
тела животных. Он искал "общий тип", который, хоть и не воплощен ни в
одной форме реально существующего животного, однако, на правах обусловливающей
форму идеи, составляет основу строения сходных животных, например всех
млекопитающих. В стихотворении "Метаморфоза животных" говорится:
"Каждый член его тела по вечному создан закону, / Даже редчайшая форма
втайне повторит прообраз" (1, 461).
"Общий
тип" теоретически охватывает всех животных одного класса. Рассмотрением
этого общего типа и занята сравнительная остеология, и это сопоставление дает
основные сведения об идее формы, сохраненной в рамках "общего типа".
"Общий тип" включает в себя и само обретение формы, и ее изменение в
течение срока жизни индивидуального организма, ровно как и различия отдельных
организмов между собою. Это — морфологическое понятие, позволяющее
классифицировать многообразие форм живой природы; однако Гёте не пытается
объяснить с его помощью разви-
1 Гёте И. В. Избранные сочинения по естествознанию, с. 18.
497
тие организмов в
ходе эволюции. В однотипном строении скелета Гёте видел закономерность
"общего типа" млекопитающих, и в выпусках "Вопросов
морфологии" посвятил несколько статей разъяснению своего представления о
нем. Еще в 1795 году был написан "Первый набросок общего введения в
сравнительную анатомию, вытекающую из остеологии"; в 1796 году за ним
последовали "Лекции по трем первым главам наброска". "Итак, вот
чего мы добились: мы можем безбоязненно утверждать, что все более совершенные
органические существа, среди которых мы видим рыб, амфибий, птиц, млекопитающих
и во главе последних человека, — все они сформированы по одному прообразу,
который в своих весьма постоянных частях лишь более или менее уклоняется туда
или сюда и все еще посредством размножения ежедневно совершенствуется и
преобразуется" 1.
"Обособленное
животное" — это "маленький мир, существующий ради себя самого и сам
по себе", а во взаимодействии с окружающей средой животное становится тем,
чем оно является, оно "формируется обстоятельствами для обстоятельств;
отсюда его внутреннее совершенство и его целесообразность в отношении внешнего
мира" 2.
В целом можно
сказать: мысль Гёте в сфере изучения природы была устремлена на познание
"прафеномена", или "простейшего явления", олицетворяющего
собой общую закономерность. Правда, Гёте делал различие между "общим
типом" и "прафеноменом". "Общий тип" не поддается
чувственному восприятию — это представление, охватывающее большое число форм. А
"прафеномен" — Гёте впервые ввел в обращение это понятие в своем
"Учении о цвете" (§ 174—177) — и впрямь реально воспринимается при
созерцании и как явление остается неизменным. "Прафеномен" в том
смысле, какой придавал ему Гёте, не может быть выведен из других феноменов,
зато все другие явления того же круга могут быть сведены к
"прафеномену". В своих "Максимах и рефлексиях" Гете выразил
это формулой:
"Прафеномен:
Идеален как последнее познаваемое,
1 Гёте И. В. Избранные сочинения по естествознанию, с. 172.
2 Там же, с. 150—160.
498
Реален как познаваемое,
Символичен, потому что охватывает все случаи,
Идентичен со всеми случаями" 1.
Неоспоримо, что Гёте
заворожила мечта — созерцать "прафеномен". Отсюда понятно, что и в
своем литературном творчестве, особенно в лирике, он создал глубокие чеканные
символы. Они теснейшим образом связаны с его восприятием природы и плодами ее
изучения. Так высшим символом стал свет, а заходящее и вновь восходящее солнце
— символом жизни, беспрерывно изменяющейся и обновляющейся. И краски также,
согласно "учению о цвете", несли различную эмоциональную и смысловую
нагрузку. Для любителей поэзии поздняя лирика Гёте, до предела насыщенная
символикой, — высокое, впечатляющее искусство. Однако почитатели Гёте допустили
бы принципиальную ошибку, вздумай они искать в его поэзии отражение
совокупности его естественнонаучных взглядов. Ведь, созерцая
"прафеномен", Гёте никак не мог выявить конечные мельчайшие элементы
органической и неорганической природы — стало быть, не приходится и говорить о
каком-либо сравнении его поэзии с его же естественнонаучными выводами,
способными выдержать проверку экспериментом. В целом же речь может идти разве
только об интерпретации, о толкованиях, неразрывно связанных с исходными
гётевскими гипотезами и убеждениями. О Гёте часто говорят, что он был
последователен даже в своих заблуждениях. Мнение, бесспорно, справедливое,
однако последовательность на ложном пути способна попотчевать читателя не
научными выводами, а всего лишь личными мнениями, прекрасными поэтическими
толкованиями, над которыми и нам не возбраняется задуматься и которыми мы можем
лишь восхищаться.
За пределами
"прафеноменов", за пределами доступного чувственного восприятия, для
Гёте не существовало ничего достойного изучения и познания: "Развитие
науки очень задерживается тем обстоятельством, что в ней отдаются и тому, чего
не стоит познавать, и тому, что недоступно знанию" ("Максимы и
рефлексии") 2. Провозгласив
существование области, недоступной знанию, Гёте тем самым положил науке
пределы, которые она никак не могла признать и кото-
1 Гёте И. В. Избранные философские произведения, с. 356.
2 Там же, с 363.
499
рые она раздвигает
день за днем. Что же именно достойно изучения, а что — нет, это и сейчас
"больной" вопрос всех научных дисциплин. Однако и этот вопрос ныне
ставится шире: можно ли и нужно ли вообще претворять в жизнь все достижения
естественных наук? А уж с таким случаем, как дело американского физика-атомщика
Роберта Оппенгеймера, Гёте и вовсе не доводилось сталкиваться.
Хотя "полярность"
и "совершенствование" суть основные категории гётевского
мировоззрения, все же здесь мы вынуждены ограничиться немногими краткими
ссылками на этот предмет. Представление о полярности как о принципе,
определяющем человеческую жизнь, как и жизнь вселенной, было усвоено поэтом с
юных лет. Еще Аристотель говорил, что в природе все возникает из противоречий
или же таит в себе полярность. В учениях стоиков и мистиков, алхимиков и
натурфилософов сохранялись эти идеи, они обсуждались, в них верили. Шеллинг
считал "изначальное раздвоение природы" основным законом мироздания.
Гёте, однако, полагал, что теорию полярности прежде всего подкрепляет своими
доводами Кант, утверждавший в "Метафизических побудительных причинах
естествознания": в материи одновременно действуют две движущие силы. Гёте
вспоминал: "От внимания моего не ускользнул тот момент в Кантовом учении о
природе, где утверждается, что силы притяжения и отталкивания принадлежат к
самой сущности материи и не могут быть отделены от нее; благодаря этому
открылась извечная полярность всего сущего, проникающая и одушевляющая великое
многообразие явлений природы" ("Кампания во Франции
В "Учении о
цвете" он объяснял возникновение цветов из противоречия света и тьмы, и в
научный конфликт с Ньютоном он вступил именно в силу своей безоглядной
приверженности принципу полярности. Из-за наглядности полярных воздействий в
явлениях магнетизма Гёте усматривал в нем "прафеномен, находящийся в
непосредственной близости от идеи и не признающий над собою ничего
земного", а в электричестве — такое "явление", к которому мы
применяем
500
сообразно — и
уместно природе — принципы полярности, плюса и минуса, подобно северу и югу,
стеклу и смоле" ("Учение о цвете", §741, 742). Полярность же
обозначала не существование непреодолимых противоречий, а комплекс
взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга состояний. "Вечная диастола
и систола, вечное соединение и разделение, вдох и выдох мира, в котором мы
живем..." (§ 739) — жизненный принцип. Все бытие есть "вечное
разделение и соединение".
Но это еще не все;
при метаморфозе, как полагал Гёте, происходило "совершенствование",
качественное изменение. И природа показывает, в главных чертах, как
осуществляется это совершенствование от примитивных форм до высокоразвитых.
"Конечный результат беспрерывно совершенствующейся природы — прекрасный
человек". Кстати, и самому человеку дана возможность совершенствования — в
жизненной практике, в нравственной и духовной сферах. "Дух рвется ввысь —
извечно пребывать" ("Славной памяти Говарда" [I, 493]). Так Гёте в самой природе усматривал
присутствие духа. Материя и дух, полярные явления, в понимании Гёте
взаимосвязаны. Когда в 1828 году поэту показали афористическое сочинение о
природе, написанное в 1782—1783 годах (приписываемое священнику Георгу Кристофу
Тоблеру), то Гёте счел нужным внести некоторые уточнения: "Однако
завершение, ему недостающее, — это созерцание двух маховых колес природы:
понятие о полярности и повышении (т. е. совершенствовании. — С.
Т.); первое принадлежит
материи, поскольку мы мыслим ее материальной, второе ей же, поскольку мы мыслим
ее духовной; первое состоит в непрестанном притяжении и отталкивании, второе —
в вечно стремящемся подъеме. Но так как материя без духа, а дух без материи
никогда не существует и не может действовать, то и материя способна
возвышаться, так же как дух не в состоянии обойтись без притяжения и
отталкивания..." 1
Если принцип
полярности признается как жизненный принцип, тогда, по крайней мере в теории,
столкновение противоречий получает разрешение; тогда свет и тьма, тепло и
холод, негативное и позитивное взаимосвязаны.
Еще молодым
человеком Гёте в 1771 году утверждал в своей речи "Ко дню Шекспира":
"Все, что мы зо-
1 Там же.
501
вем злом, есть лишь
оборотная сторона добра" (10, 264). А в его рецензии 1772 года на труд
Зульцера "Всеобщая теория изящных искусств" мы читаем: "А разве
то, что производит на нас неприятное впечатление, не принадлежит к замыслам
природы в той же мере, как и самые прелестные ее творения?" 1 Неудивительно поэтому, что в творчестве Гёте
трагизм, покоящийся "на неизгладимом противоречии" ("Разговоры с
Гёте" канцлера Мюллера, запись от 6 июня
В 1784 году Гёте
написал статью "О граните" — гимн самой древней и, как он полагал,
самой твердой земной породе. Понадобилось тридцать лет, чтобы поэт также
увлекся систематическим изучением самой легкой из всех природных форм —
облаками и их модификацией. С метеорологическими проблемами Гёте многократно
сталкивался при наблюдении природы, регистрировал и подробно описывал атмосферные
явления, любил зарисовывать облака необычной формы
В 1815 году Карл
Август обратил его внимание на статью в "Анналах физики и химии":
физик Людвиг Вильгельм Гильберт излагал в ней свои соображения по поводу
вышедшей в 1803 году работы англичанина Льюка Говарда "Относительно
видоизменений облаков, а также принципов их возникновения, сгущения и
разрушения". Там же различным формам облаков
1 Гёте И. В. Об искусстве. М., 1975, с. 74.
502
были даны
терминологические названия. Герцог, указывая на эту статью, преследовал
исключительно практические цели: изучение процессов образования облаков могло
способствовать постижению законов изменения погоды, а стало быть, и повышению
достоверности погодных прогнозов. В связи с этим герцог приказал соорудить на горе
Эттерсберг наблюдательную метеорологическую станцию, причем общее руководство
ею возложил на Гёте, а примерно с 1821 года по всей территории герцогства было
сооружено несколько таких станций, которые вскоре после смерти Гёте пришлось
закрыть по причинам финансового свойства.
Гёте, в
стихотворениях которого с самой ранней поры возникал мотив облаков, с
удовлетворением воспринял теорию Говарда и его терминологию и вскоре написал
статью, датированную 16—17 декабря 1817 года, в которой кратко изложил его учение.
Причем, по обыкновению внеся в свои исследования природы поэтический элемент,
озаглавил ее "Камарупа": "Это имя индийского божества, по
собственной прихоти меняющего свои обличья; этим же именем названа игра
облаков, и оно же предпослано этой небольшой статье". Говард дал различным
формам облаков названия, употребительные и по сей день: циррусы (перистые
облака), кумулюсы (кучевые облака), стратусы (слоистые облака), нимбусы
(дождевые облака). Труд Гильберта вслед за английским оригиналом воспроизводил
и схему классификации облаков:
Простые модификации
1. Циррус
2. Кумулюс
3. Стратус
Промежуточные
модификации
4. Цирро-кумулюс
5. Цирро-стратус
Составные
модификации
6. Кумуло-стратус
7. Нимбус
Такой подход, отражавший
стремление постичь закономерности образования облаков, отвечал морфологическим
представлениям Гёте. "Я с радостью взял на вооружение Говардову
терминологию, — писал он в 1820 году, — поскольку она дала мне нить, какой
прежде мне не хватало". "Мне, при моей натуре, никак не удавалось ни
постичь метеорологию во всем том объеме, в каком она предстает в таблицах в
виде знаков и цифр, ни даже воспользоваться частью этих сведений; оттого я и
обрадовался, обнаружив в ней элемент, созвучный моим наклонностям и жизненным
принципам, а поскольку в этом бесконечном
503
мире все пребывает в
вечной, неразрывной связи и одно проистекает из другого или же попеременно одно
из другого выявляется, то я и заострил свой взор на том, что возможно зрительно
воспринять..."
Однако в статье под
заголовком "Камарупа" Гёте не придерживался в точности системы
Гильберта, а произвел в ней характерные изменения. Подобно упомянутому выше
индийскому божеству, "по собственной прихоти меняющему свои обличья",
Гёте разработал нечто вроде учения о метаморфозе облаков. Со своей стороны он
предложил также новый термин: "париес-стена" — так поэт пожелал
обозначить явление, когда "на самом краю горизонта слои столь же плотно
лежат один над другим, что между ними невозможно заметить промежуток".
Такие облака закрывают горизонт на определенной высоте, но выше их небо
остается свободным от облачности. В дальнейшем, однако, этот термин не был
принят метеорологией.
В своем сборнике
"Вопросы естествознания вообще" Гёте посвятил "Славной памяти Говарда"
небольшой стихотворный цикл. "Так плод низин струится до конца / К руке и
к лону тихому отца" [I,
493] — такова поэтическая интерпретация цирруса. А когда низко стоят тяжелые
дождевые облака, поэт смиряется с "действенным и страдным роком
земли", а под конец обращает свой взор в вышину.
НИМБУС
А ныне чрез земную тягу вниз
Высокие скопленья низвелись
И следуют, свирепствуя грозой,
Как полчища, развернутые в бой:
То действенный и страдный рок земли!
Но вы на образ взоры возвели —
И никнет речь в попытке описать,
Дух рвется ввысь — извечно пребывать.
(Перевод Д. Недовича [1,493])
Так облака у Гёте
превращаются в символ "повышения", совершенствования,
"неустанность устремленности ввысь".
Если в короткой
статье "Камарупа" Гёте уделял главное внимание превращению облаков
при их движении ввысь, то в очерке "Формы облаков по Говарду" (1820)
акцент делался уже на другом. Здесь наблюда-
504
теля интересовало не
движение облаков ввысь, словно бы происходящее само по себе, а "игра
облаков", как восходящих, так и нисходящих. Гёте предположил, что между
верхним и нижним слоями воздуха существует "конфликт". Процесс этот
можно было проследить по показаниям барометра. Однако чем больше Гёте занимался
метеорологическими проблемами, тем настойчивей складывалось у него убеждение
(кстати, вследствие ошибочных выводов, сделанных им на основании одинаковых
показаний двух барометров, находящихся в различных, далеко отстоящих друг от
друга пунктах), что для состояния воздушных областей важен не
"конфликт" между верхним и нижним слоями воздуха, а пульсирование
Земли: "Мы осмеливаемся утверждать — главную роль играют здесь не
космические, не атмосферные, а теллурные причины" (т. е. связанные с
движением Земли и Луны и их взаимодействием). В "Опыте учения о погоде"
(1825), так и не опубликованном при его жизни, Гёте высказал предположение, что
сила земного притяжения вызывает пульсацию, решающим образом влияющую на
погоду. Стало быть, здесь систола и диастола, вдох и выдох. Эта гипотеза была
навязана поэту присущей ему системой мышления; что же касается естествознания,
то "Учение о погоде", как, впрочем, и другие теоретические толкования
поэта, захваченного игрой облаков, не сыграли никакой роли в развитии науки.
Интересно, однако, отыскать следы, какие оставили эти наблюдения в заметках
Гёте, как и в его поэтическом творчестве. Начиная с 1815 года, Гёте
систематически записывает данные о состоянии погоды, некоторые заметки
перерастают в поэтические описания, насыщенные символикой, подобно строфам
стихотворений из цикла "Славной памяти Говарда". Точно так же и сцена
"Горных ущелий" во второй части "Фауста" наполнена
символикой, частично связанной с той же игрой облаков.
Три лета в Мариенбаде
Прелесть новизны — вот
что в 1821 году привлекло Гёте в Мариенбад. Годом раньше он ненадолго посетил
этот городок — который должен был вскоре превратиться в курорт — и сразу же был
им очарован. "Впрочем, мне показалось, будто я перенесся в безлюдные
просторы Северной Америки, где вырубают
505
леса, лишь бы за три
года построить город", — сообщал поэт Карлу Августу (в письме от 27 мая
Начиная с 1785 года
поэт проводил в Богемии много месяцев и недель, но никогда не оставлял он ни
своей литературной работы, ни естественнонаучных занятий, хоть и не отказывался
при этом от развлечений. По части минералогических, геологических и
ботанических изысканий ему представлялись здесь многообразные возможности.
Нашлись еще и знакомые, разделявшие его интересы или же недавно приобщенные к
ним поэтом. Гёте одиннадцать раз обследовал гору Каммерберг близ Эгера,
посвятил ей несколько статей.
Требовалось
выяснить, вулканического ли происхождения гора или же
"псевдовулканического", то есть представляет ли она собой
"флёцовое", вторичное образование. В решении этого вопроса Гёте
колебался, хотя однажды уже выступил в поддержку "вулканической"
гипотезы. Проблема эта должна была представляться ему сложной: как "нептунисту",
ему было нелегко признать роль вулканических сил в образовании земной
поверхности. В 1821 году Гёте занялся также обследованием окрестностей
Мариенбада; плодом этих занятий явилась статья "О Мариенбаде вообще и в
особенности с точки зрения геологии".
Впрочем, все три мариенбадских
летних сезона подряд деятельный курортный гость Гёте в еще большей мере был
захвачен другим увлечением. Поэт оказался в плену у своей последней великой
любви. Чувство его постепенно развивалось и зрело и в конечном сче-
506
те дело дошло до того,
что семидесятичетырехлетний Гёте дерзновенно отважился сделать своей избраннице
предложение. Однако весной 1823 года поэту пришлось окончательно отказаться от
своей мечты, что повергло его в глубокую тоску.
Приехав в Мариенбад
29 июля 1821 года, поэт снял квартиру в красивом новом доме графа фон
Клебельсберг-Тумбурга, где жила также семья фон Брёзигке— фон Леветцов:
тридцатичетырехлетняя Амалия фон Леветцов, ее родители — супруги Брёзигке, и
три ее дочери — семнадцатилетняя Ульрика, Амалия и Берта соответственно
пятнадцати и тринадцати лет. Гёте знал эту семью с давних пор. В своем дневнике
поэт прежде не раз упоминал Амалию фон Леветцов, молодую мать троих дочерей,
ныне вдову, связанную близкими отношениями с графом фон Клебельсбергом. Между
обитателями дома в беззаботной атмосфере курорта установилось веселое общение:
нередко вместе садились за стол, вместе пили чай, вместе совершали прогулки,
проводили время за играми; были в программе развлечений и бальные вечера, но
больше всего времени Гёте отдавал своей работе, своим занятиям: "Остался
дома, прочитал "Дочь воздуха" Кальдерона. Бал в ресторации"
(запись в дневнике за 12 августа
507
ки, Ульрику фон
Погвиш; к подобной многозначительной игре именами поэт не раз прибегал и в
дальнейшем.
В 1822 году Гёте
вновь в Мариенбаде: приехав сюда 19 июня, он снова поселился в доме
Клебельсберга — и семейство Леветцов тоже было уже на месте. Теперь он
постоянно виделся с Ульрикой, хотя в дневнике избегал упоминаний на этот счет.
Но, может быть, это мы теперь вычитываем лишнее из дневников поэта, полагая,
что всякий раз, когда он указывает "был в обществе", в
действительности он хочет сказать "был в обществе Ульрики"? 24 июля
поэт отправился в Эгер. Здесь он провел почти пять недель в постоянном общении
с советником магистрата по уголовным делам Йозефом Себастьяном Грюнером, с
которым познакомился два года назад и тогда же увлек его своими
минералогическими изысканиями. Дружба с Грюнером продолжалась до самой смерти
поэта; советник навещал Гёте в Веймаре, а в сентябре 1825 года участвовал в
праздновании двадцатипятилетия правления Карла Августа. Теперь же, в
июле—августе 1822 года, друзья не раз предпринимали совместные прогулки в
окрестности Эгера, которые Гёте хотел обследовать. Но каково было в ту пору
душевное состояние поэта? Угнетала ли его разлука с Ульрикой, или же всего лишь
любовная лирика из привычного поэтического обихода зазвучала в прощальном
стихотворении "Эоловы арфы"? В этом диалоге влюбленных "Он"
сетует: "Ночь не сулит мне ничего, / Дни тянутся в тоске невыносимой. / Я
жажду только одного: / Увидеться — хотя во сне — с любимой. / И если я мечтою
не перечу / Твоей мечте, шагни ко мне навстречу!" (перевод
В. Топорова — 1, 443). Если
бы мы не знали, что стихи эти родились у старого поэта в совершенно
определенной ситуации, мы вряд ли обратили бы на них внимание, ведь
процитированные выше строки еще самые выразительные из всех. Автор
непритязательно рифмует в этом стихотворении "Herz" (сердце) и "Schmerz" (боль), а любовная тоска выражается в
привычных формулах и банальных фразах: "Увы, его со мною нет! / Подруги,
черен белый свет! / Вам покажусь я странной, / По милому тоскуя. / Вотще ли
слезы лью я? / Когда же перестану?" (1, 441) — вот как горюет
"Она" в этом стихотворении. Подобным образом Ульрика в ту пору не
стала бы объясняться. Лишь мечты поэта выражены в этих стихах, навеянных
обременительной "второй" молодостью", страстью к восемнадцатилетней
девушке.
508
Как бы то ни было,
за те недели, что поэт жил вблизи Ульрики, он "с величайшим спокойствием
души" прочитал роман Иоганны Шопенгауэр "Габриэла". Впрочем,
может, это нарочитое спокойствие он пытался противопоставить снедавшему его
беспокойству? Кстати, в рецензии на роман "Габриэла" поэт как нельзя
лучше сформулировал, какое "настроение", в сущности, необходимо для
прочтения книги: "Все три тома этого романа, давно уже рекомендованного
мне как во всех отношениях достойного, я прочитал с величайшим спокойствием
души, в сосновых лесах Мариенбада, под небом, синее которого нет, вдыхая
чистейший, легчайший воздух, а оттого и с максимальной восприимчивостью,
необходимой, чтобы наслаждаться произведением творческого духа".
В феврале—марте 1823
года Гёте перенес тяжелое заболевание — перикардит. Близкие и друзья опасались
за его жизнь. "Вот первое свидетельство / обновленной жизни и любви / с
благодарностью и приязнью. / И. В. фон Гёте" — значилось на листке,
отправленном поэтом Цельтеру с вестью о своем выздоровлении (23 марта
На этот раз поэт
приехал в Мариенбад еще раньше семейства Леветцов и поселился в гостинице
"Золотой голубь" — напротив дома Клебельсберга, где герцог Карл
Август занял комнату, в прошлом году принадлежавшую Гёте. 11 июля, записал поэт
в своем дневнике, "прибыла госпожа фон Леветцов с дочерьми. Вечером был в
обществе". Отныне жизнью его завладела Ульрика. Он виделся с ней
ежедневно, радовал ее небольшими подарками и рассказами, совершал прогулки с
нею и с ее сестрами, встречался с ней на балах. Но наряду со всем этим поэт
продолжал работу над "Анналами", а также вел тщательные наблюдения за
направлением ветра, за облаками и погодой. "К сожалению, меня сильно захватила
также эта суматоха с круговращением воздуха" (из письма К. Л. Ф. Шультцу
от 8 июля
Не было недостатка у
поэта и во встречах с интересными людьми — обитателями курорта. Но в одном из
писем Цельтеру (от 24 июля
509
К ЛИЛИ
Тобой я ранен не сейчас,
Но жизнью новою живу я:
Рот сладостный глядит приветливо на нас,
Нам дав отраду поцелуя.
(Перевод С. Шервинского [1, 503])
Оттилии в Веймаре
также достались "кое-какие метеориты, промчавшиеся прекрасной ясной
ночью" (письмо от 14 августа
Поклонник Говарда и друг,
Пытаешь утром вверх и вкруг,
Туман поднялся ли, поник ли
И что за облака возникли.
За далью горной, сжатой льдом
Альпийских войск за комом ком.
Над ними пролетает тая
Воздушных, белых перьев стая,
А ниже никнет хмуро, хмурей
Из слоя тучи ливень с бурей.
Когда же тихим вечерком
Подругу с преданным лицом
На милом ты пороге встретишь —
Ненастье ль? вёдро ль? — не приметишь.
(Перевод С. Шервинского [1, 503])
И по сей день не
удалось найти письмо, в котором Гёте сделал предложение Ульрике, возмутившее
госпожу фон Леветцов. Веймарский герцог выступил в роли свата, обещал матери
избранницы поэта должность при дворе и назначил семейству фон Леветцов пенсию —
настолько горячо желал этого позднего брака его друг и министр. Ситуация была
не лишена комизма: семидесятичетырехлетний поэт сватался к восемнадцатилетней
девушке, и нет никаких свидетельств сколько-нибудь страстной ее любви к нему...
В последний раз поэт мечтал вернуть себе молодость, отодвинуть старость. Но
эпизод так и остался эпизодом — реальность не подчинилась стариковской причуде.
И еще: остались стихи, на которые, по мнению гётеведов, вдохновила поэта любовь
к Ульрике; остались потрясающие прощальные строки "Элегии" ("Что
при-
510
несет желанный день
свиданья" — 1, 444). И лишь в глубокой старости Ульрика фон Леветцов — так
и не выйдя замуж, она дожила до 1899 года — записала свои воспоминания о мариенбадской
поре, "чтобы опровергнуть все вымыслы, которые публиковались на этот
счет". Не все сохранила ее память, но едва ли дозволено усомниться в
правдивости ее завершающих слов: "Романа не было".
Все же госпожа фон
Леветцов сочла целесообразным вместе со всей семьей покинуть Мариенбад, и 17
августа Леветцовы переехали в Карлсбад. Признания Гёте в письмах к невестке
стали теперь более отчетливыми: "Вспомни, сколь часто мы осознаем
бесценное, когда его уже нет, и ты представишь себе сладкую горечь чаши,
которую я осушил до дна... Стало быть, я покидаю Мариенбад, оставляя его, по
существу, совсем пустым... Того уже нет, чем я жил здесь все это время, и
надежда на скорую встречу весьма зыбка" (письмо от 18—19 августа
Гёте уехал к Грюнеру
в Эгер, но долго вытерпеть разлуку с Ульрикой не мог. Его манил Карлсбад, и
поэт уступил своему нетерпению. И вот с 25 августа Гёте вновь проводит все дни
с семейством Леветцов, и надежда, что мечта исполнится, все еще тлеет! Вместе
провели они и день рождения Гёте, причем "общество" притворялось,
будто и не подозревает, что это за день. После завтрака Гёте вместе с
семейством Леветцов поехал в Эльбоген, показывал всем окрестные
достопримечательности, а потом зашли в ресторацию "У белого коня",
где Штадельман [слуга Гёте] "еще с вечера заказал угощение" (из
дневника Гёте). У госпожи фон Леветцов тоже был сюрприз: она привезла с собой
специально испеченный по этому случаю великолепный пирог и бутылку старого
рейнского вина. Стол на террасе украшал стеклянный бокал богемской работы, с
выгравированными на нем инициалами Ульрики, Амалии и Берты. Ульрика
впоследствии так вспоминала обо всем: "К концу обеда слуга принес нам
целую пачку писем и посланий, некоторые из них он прочитал, причем то и дело
приговаривал: "Как милы и любезны эти люди!" Должно быть, он ждал,
что мы спросим, о чем же ему пишут, но мы спрашивать не стали. В отличном
расположении духа мы все вместе возвратились в Карлсбад и уже издалека увидели
на лужайке перед домом множество людей, а еще — что нас ожидает оркестр. Едва
вышли мы из кареты, как
511
Гёте тут же
окружили. Мать поманила нас за собой, пожелала Гёте доброй ночи и поднялась с
нами наверх. Было уже поздно, и мы увиделись с Гёте лишь на другое утро, и
первым делом он спросил нас: "Не правда ли, вы ведь знали вчера, что это
был мой день рождения?" Мать отвечала: "Как же не знать! Ваш день
рождения напечатан повсюду!" Гёте, рассмеявшись, хлопнул себя по лбу и
сказал: "Давайте же отныне называть этот день днем публичной тайны!",
и впоследствии он так и называл этот день в своих письмах к нам".
Одно из таких писем
было послано уже 10 сентября 1823 года, всего лишь спустя пять дней после
"несколько суматошного отъезда" из Карлсбада (запись в дневнике); в
этом письме из Эгера Гёте послал Ульрике стихотворение "Из далека":
"У вод горячих жить ты захотела, / И я смущен в себе самом; / Тебя ношу я
в сердце так всецело, / Что не пойму, как в месте ты ином?" [I, 504].
В Веймаре тем
временем уже разнеслась молва, что в Мариенбаде разыгрался отнюдь не обычный
курортный роман. Сын и невестка Гёте встревожились. Что же будет, если юная
Ульрика и впрямь войдет хозяйкой в дом на Фрауэнплане? Сразу возникал вопрос:
кто будет распоряжаться имущественным наследством, как и творческим наследием
Гёте? Правда, прибыв в Йену 13 сентября, Гёте сразу же обратился к целительному
средству, которое уже столько раз помогало ему в жизни: к поэтическому
освоению, к объективизации угнетавших его переживаний. Сразу после отъезда из
Карлсбада, на обратном пути в Веймар, строка за строкой рождалось замечательное
стихотворение, в сравнение с которым многие строки любовной лирики, посвященной
Ульрике, кажутся случайными виршами, точнее, "написанными на случай".
Этот реквием по своему мариенбадскому увлечению, потрясенный случившимся, поэт
озаглавил "Элегия", обозначив тем самым не стихотворный размер (как в
случае с "Римскими элегиями"), а элегичность содержания. Только в
этих стихах и проявилась глубина его скорби, его раны. Чуть ли не на уровень
легенды возвел он событие, только его одного и потрясшее. Здесь смешаны воедино
блаженные воспоминания прошлого и ощущение безутешности в настоящем; перед нами
монолог одинокого человека, в отчаянии цитирующего вместо эпиграфа строчки из
"Тассо": "Там, где немеет в муках человек, / Мне дал господь
512
поведать, как я
стражду" 1. Это вопль боли,
исторгнутый у поэта изгнанием из "Эдема", из "блаженных
селений" — так просветленным взором воспринимал он теперь былое, а ныне
утраченное счастье общения с любимой, поэтически углубляя образ. "И я
узнал в желаньях обновленных, / Как жар любви животворит влюбленных".
Нигде прежде Гёте не славил столь полнозвучно любовь как возможность
возвышенного слияния с Абсолютным:
Мы жаждем, видя образ лучезарный,
С возвышенным, прекрасным, несказанным
Навек душой сравниться благодарной,
Покончив с темным, вечно безымянным.
И в этом — благочестье! Только с нею
Той светлою вершиной я владею.
Одинокому осталось
лишь отчаяние. "А мной — весь мир, я сам собой утрачен" — так
начинается завершающая строфа. И все же отточенным языком, поэтически-образно
рассказывать о своей муке, в силу чего она словно бы обретает зримое бытие, —
это облегчает боль и растерянность, и вплетенная в ткань элегии строфа-вопрос
все же не требует в ответ безнадежного "нет":
Иль мир погас? Иль гордые утесы
В лучах зари не золотятся боле?
Не зреют нивы, не сверкают росы,
Не вьется речка через лес и поле?
Не блещет — то бесформенным эфиром,
То в сотнях форм — лазурный свод над миром?
Свою
"Элегию" поэт оберегал, как драгоценность. Он тщательно переписал ее
начисто и хранил эту рукопись в папке из красной марокеновой бумаги, а позднее
заказал для нее переплет с надписью "Элегия. Мариенбад 1823". Он
показывал ее лишь самым ближайшим друзьям. В ноябре того же 1823 года в Веймар
приехал Цельтер. Много раз читал он это стихотворение вслух своему другу, чье
состояние было ему известно. Даже в январе 1824 года Гёте вспоминал, как
удивительно и прекрасно было, "что ты желал читать его вновь и вновь и
своим мягким, чувствительным голо-
1 Здесь и далее "Трилогия страсти" цитируется в переводе В. Левика.
513
сом много раз
позволял мне услышать все, что мне бесконечно мило — настолько, что я сам не
смею себе в этом признаться" (из письма Цельтеру от 9 января
Еще в Мариенбаде
поэту, тешившему себя напрасными надеждами, приносила успокоение музыка. Анна
Мильдер-Хауптман пела, а играла на рояле — судя по всему, восхитительно —
польская пианистка Мария Шимановская. В письмах и дневнике Гёте не раз упоминал
о том благотворном воздействии, какое оказывала на него музыка, а он особенно
обостренно воспринимал ее в те мариенбадские дни. Поразительно образно выразил
он это в своем письме к Цельтеру 24 августа 1823 года: "Голос Мильдер,
звуковое богатство Шимановской, даже публичные и музыкальные выступления здешних
егерей — все это расправило мне душу" [XIII, 469]. Стихотворение, написанное им для
Марии Шимановской, называлось "Умиротворение". Поэт прославлял в нем
"Двойное счастье — музыки и страсти", а слезы, утверждал он,
"божественны, как звуки"; так в этих строках Гёте связал воедино
тоску и утешение.
В 1824 году
лейпцигское издательство Вейганда, где за полвека до того впервые был
опубликован "Вертер", пожелало выпустить юбилейное издание этой
книги, завоевавшей мировую известность. По этому случаю оно обратилось к автору
с просьбой написать к этому изданию предисловие. Впервые после долгого перерыва
Гёте взял в руки свой роман — "то самое создание, что я, как пеликан,
вскормил кровью собственного сердца" (из беседы Гёте с Эккерманом от 2
января
Никогда прежде в
своей поэзии Гёте не окрашивал жизненный путь человека в столь мрачные тона,
как здесь, в строках воспоминания о своем "Вертере", не сулящих
читателю даже надежды на утешение. Безна-
514
дежность и отчаяние,
и прежде временами звучавшие в письмах и разговорах поэта, ничем не смягченные,
прорвались в строки этого стихотворения глубокой поры его старости. Но этим
последнее слово еще не было сказано. Когда уже были написаны все три
стихотворения ("Вертеру", "Элегия" и
"Умиротворение"), Гёте соединил их в единую "Трилогию
страсти", расположив их без учета временной последовательности их
возникновения. Благодаря этому возник цикл, где усталая разочарованность
лирического героя сменяется элегической жалобой, в конечном счете переходящей в
обнадеживающую умиротворенность.
Поэту трудно было
делиться с кем бы то ни было своими переживаниями, душевными сомнениями.
Вернувшись 13 сентября в Йену, он сразу окунулся в бурную деятельность,
призванную заглушить душевную боль, и не допускал, чтобы кто-либо заговорил с
ним о случившемся, ни для кого уже не составлявшем тайны. Он ринулся в музеи,
библиотеку, обсерваторию, где, по свидетельству канцлера Мюллера, пропадал
"до самой ночи, а потом уже с пяти утра снова был на ногах, осмотрел
ветеринарную школу, ботанический сад, разного рода галереи и выставки, весело
отобедал с Кнебелем у полковника Люнкера, затем навестил Фромманов и никому не
давал передышки, в то же время не позволяя из любопытства задать какой-нибудь вопрос,
хотя Кнебель наверняка не раз порывался это сделать" (из письма канцлера
фон Мюллера к Ж. фон Эглофштейн от 19 сентября
А
"история" должна была развеяться — неосуществимая мечта старика,
надеявшегося вновь вернуть себе молодость. Канцлер фон Мюллер видел, что настроение
у поэта не из лучших и он "с неохотой смиряется со здешней жизненной
колеей". Глубоко потрясла Мюллера "заметная во всем душевном облике
Гёте опустошенность" (из заметок канцлера фон Мюллера от 20—21 сентября
515
ся до весны"
(из заметок канцлера Мюллера от 23 сентября
А пока мысли его все
еще кружили вокруг Мариенбада, хоть он пытался вновь приноровиться к жизни в
Веймаре. Он понимал, что россказни и слухи о его богемском
"приключении" могли долететь и до Франкфурта, где жила Марианна фон
Виллемер — героиня романа Хатема и Зулейки. К памятному для них обоих дню 18
октября Гёте послал ей только что опубликованные "Статьи о поэзии"
Эккермана, к каковым приписал следующее четверостишие (к посылке были приложены
соединенные одной лентой росток мирта и лавровая ветка):
Мирт и лавр здесь вновь соединились, —
Их судьба надолго разлучила;
Но в мечтах часы блаженства длились,
И в сердцах надежда не остыла.
(Перевод А. Гугнина)
На листке со стихами
была к тому же пометка "к с. 279". А на этой странице в книге
Эккермана глазам Марианны представилось бы ее собственное стихотворение
("Ветер влажный, легкокрылый, / Я завидую невольно: / От тебя услышит
милый, / Как в разлуке жить мне больно" (перевод В. Левика — 1, 385), включенное в "Западно-восточный
диван". В своей работе Эккерман рассматривал его как образец гётевского
поэтического искусства.
Грозная, но и
вдохновенная мариенбадская пора, казалось, вновь приблизилась с приездом Марии
Шимановской. Польская пианистка вместе с сестрой прибыла в Веймар 24 октября и
пробыла там до 5 ноября; обе ежедневно обедали у Гёте, и он вновь ощущал
"умиротворение", которое способна дать только музыка. "Играла на
рояле столь же приятно, сколь и великолепно", — записал поэт в своем
дневнике в тот же день
516
24 октября. Уже
через несколько дней, зайдя к нему вечером, Эккерман застал поэта
"оживленным, в приподнятом расположении духа; глаза у него сверкали,
отражая огни свечей, он весь был преисполнен радости и молодой силы"
(запись 29 октября. — Эккерман, 83).
Наверно, прав был канцлер
фон Мюллер, предположив, что душевный кризис поэта был вызван не только
охватившей его страстью к Ульрике фон Леветцов: "Всегдашняя повышенная
потребность его души в общении и сочувствии — причина его нынешнего состояния
духа" (из письма Ю. фон Эглофштейн от 25 сентября
Трогательно прощался
Гёте с обеими молодыми польками, покидавшими Веймар. Поэт пытался шутить,
"но вопреки всем юмористическим потугам не мог сдержать слез, набегавших
на глаза, молча обнял он Марию и ее сестру и еще долго провожал их любящим
взором, пока сестры удалялись от него длинной, открытой анфиладой комнат"
(из книги канцлера фон Мюллера). Однако вскоре Гёте снова занемог; несколько
ночей пришлось ему провести, сидя в кресле: из-за приступов судорожного кашля он
не мог лежать. Насколько позволяло его состояние, Гёте пытался читать,
диктовать, продолжать работу и даже беседовать с немногими посетителями,
которых к нему допускали. 24 ноября приехал Цельтер, и потянулись счастливые
часы общения с ближайшим другом, доверительные беседы Поэт приободрился,
повеселел. В дневнике от 30 ноября 1823 года записано: "Читал и
перечитывал "Элегию"... Снова читал "Элегию" с
Цельтером". Гость из Берлина радовался, глядя, как поправляется больной, и
лишь в середине декабря он оставил Веймар, когда поэт был уже совершенно
здоров.
Еще брезжила надежда
на новую встречу с Ульрикой. Однако в 1824 году задуманная поездка в Богемию не
состоялась, а когда семейство фон Леветцов осенью того же года оказалось в
Веймаре проездом, встреча опять же не состоялась. Время от времени поэт еще
посылал письма матери Ульрики — Амалии, неизменно содержавшие упоминания о
некогда проведенном вместе времени. Богемский бокал с выгравированными
инициалами сестер он хранил как драгоценный сувенир. Когда же Гёте отмечал в
Ильменау последний свой день рождения, бокал этот стоял перед ним. Из Ильменау
поэт писал 28 августа 1831 года Амалии фон Леветцов: "Сегодня, уважаемый
друг, находясь
517
в сельской местности
и избегая дружески устроенных празднеств, я ставлю перед собою этот бокал,
напоминающий мне череду былых лет и воскрешающий в моем воображении
прекраснейшие часы жизни". Завершил он это письмо заверением в своем
неизменном расположении. "Всегда преданный вам И. В. фон Гёте".
518
ПЕРСПЕКТИВЫ СТАРОСТИ
В тесном кругу близких по духу
Времена, когда
возможны были фазы омоложения, взлета, юношеских восторгов, встреч, сулящих
возвышенное блаженство и любовные утехи, — эти времена для Гёте безвозвратно
канули в прошлое. И горестное сознание этой истины, тяжело ранив душу поэта,
побудило его тронуть струны своей лиры и возгласить жалобы, пронизывающие
строки стихотворения "Элегия". Отныне он вынужден был признать, что
наступившая старость требует своей дани, диктует отречение и в этой сфере
жизни. Уже сама по себе истина эта причиняла боль, нисколько не умерявшуюся
сознанием того факта, что в данном случае первопричина горя — всего-навсего
неумолимая поступь лет. Снова Гёте остался один на один с самим собой, спасение
могло быть только в работе — сосредоточиться на всех видах своей деятельности и
требованиях дня, на обязанностях, какие возлагало на него курирование всех
культурных учреждений герцогства, как и на тех, что он сам на себя возложил.
Возобновились привычные заботы, "усилия и тяжкий труд", как 27 января
1824 года сказал о своей жизни Гёте Эккерману: "Вечно я ворочал камень,
который так и не лег на место" (Эккерман, 101).
Не раз уже поэта
посещала мысль: пора, что называется, привести в порядок свое литературное
хозяйство, коль скоро он уже достиг столь внушительного возраста. Еще 19 апреля
1822 года он известил издателя Котту, что составляет свод "всех
поэтических, литературных и научных работ, как опубликованных, так и
неопубликованных". Все созданное им он наме-
519
рен отдать на
попечение сына и еще нескольких своих ученых друзей, с тем чтобы они привели в
порядок его обширное наследие. Возникла идея "последнего прижизненного
издания", и в эту зиму 1823 года, в письме к Сульпицу Буассере от 13
декабря 1823 года, Гёте указывал, что главная задача, стоящая перед ним в его
преклонные годы, — "отдать свое литературное наследие в верные руки и хотя
бы начать работу по изданию полного собрания своих сочинений".
Последовали
интенсивные, напряженные переговоры, в ходе которых Гёте упорно отстаивал свои
интересы, и они увенчались соглашением с издателем Коттой. В переговоры эти
включился и Сульпиц Буассере, оказавшийся удачливым посредником; также и Август
фон Гёте взял на себя часть переписки по этому делу. Наконец 3 марта 1826 года
Август вместе с отцом подписал договор, согласно которому сумма гонорара за
издание произведений Гёте определялась в 60 тысяч талеров. За период с 1827 по
1831 год вышли в свет сорок томов (впоследствии, с 1832 по 1842 год, было
выпущено еще двадцать томов литературного наследия Гёте). Теперь Гёте был
спокоен, что благодаря энергичной поддержке помощников ему удалось справиться
со своей "главной задачей". Однако в силу присущей ему могучей
творческой потенции, сохранившейся вплоть до самых преклонных лет, ему удалось
еще и нечто несравненно большее, а именно завершить "Годы странствий
Вильгельма Мейстера", а также вторую часть "Фауста";
впоследствии он уже считал основной задачей именно напряженную работу над этими
двумя произведениями. Сам он отныне больше не выезжал за пределы Веймара и Йены.
Однако по-прежнему поддерживал отношения со многими людьми, и в его дом часто
наведывались посетители. Если возникало желание высказаться публично и сообщить
общественности свое мнение по каким-либо проблемам культуры или литературного
творчества, то на этот случай в его распоряжении был журнал "Искусство и
древность". При всем том поэту больше не хотелось деятельно вмешиваться в
споры времени — в пользе этих споров он уже разуверился. Ему достаточно было
периодически оповещать общественность о своих взглядах и ожиданиях, прежде
всего когда дело касалось рецензирования произведений, которые в контексте
мировой литературы побуждали его к раздумьям. Гёте отнюдь не пытался навязать
публике какую-то строго определенную про-
520
грамму, не делал и
попыток создания своей "школы". Публиковал он по преимуществу
фрагменты своего нескончаемого внутреннего монолога, полагая, что они могут
представить интерес для любителей литературы. Не распоряжения литературного
мэтра и не трактаты теоретика литературы сочинял он, а раз за разом предавал
гласности заметки из своей литературной мастерской, где ни на час не
прекращалась работа. В сущности, это были всего лишь свидетельства — иногда
случайные, иногда, бесспорно, существенные — беспрерывной интеллектуальной
деятельности поэта, не позволявшей ему сломиться. В предновогодний день 1829
года восьмидесятилетний Гёте записал в дневнике: "Я продолжал мою работу и
так завершил год". А в первый день нового года он добавил к этому:
"Редактировал и приводил в порядок поэтические вещи". По-прежнему
активно отдавался он творчеству и однажды подробно описал свой образ жизни в
письме к Буассере, человеку намного его моложе: "Простите меня, дражайший,
если я покажусь Вам чрезмерно восторженным; но, коль скоро и бог, и природа
подарили мне столько лет, я не знаю ничего лучшего, как выразить мою
признательность за это юношеской деятельностью. Я хочу быть достойным
дарованного мне счастья, сколько бы ни продлилась оказанная мне милость, и
потому употребляю день и ночь на размышления и деяния...
"День и
ночь" здесь не просто фраза, ибо многие ночные часы, кои, согласно участи
моего возраста, я провожу без сна, я отдаю не смутным и неопределенным
раздумьям, а в точности решаю, что буду делать на другой день, чтобы наутро
сразу же честно взяться за работу и, насколько возможно, ее закончить. И тут я,
быть может, сделаю больше и завершу дело разумно в назначенное время — все, что
обычно упускаешь в пору, когда имеешь право думать, что "завтра"
будет еще и еще, да и вообще — всегда" (письмо от 22 октября
Размышляя и
действуя, поэт все же чувствовал себя одиноким. И потому охотно высказывал
мысли, его занимавшие и волновавшие, в письмах к людям, к которым был особенно
расположен. В отличие от служебной и деловой переписки, которую он вел в сухом,
деловом тоне, никогда не забывая принятых в ту пору формул вежливости, письма
более частного свойства поэт в годы старости писал в свободном, богатом
оттенками стиле, изобилующем намеками, на-
521
вевающими дальнейшие
раздумья. Письма Гёте, сплошь и рядом состоящие из обширных, сложно
переплетенных периодов, затрагивали, как правило, множество тем, непринужденно
нанизывая одно соображение на другое, подчеркивая контрасты, не страшась
скачков мысли в сторону, и в конечном счете почти всегда свидетельствовали о
том, что их автор спокойно созерцает происходящее с высоты своих преклонных
лет. Любил Гёте также превращать свои пояснения в афористические изречения, а
рассуждения — в сентенции. В частном и личном по возможности должно было
просматриваться общее — ведь Гёте отлично понимал, что его частные эпистолы
рано или поздно будут преданы гласности.
И хотя поэт при всех
своих раздумьях и напряженной деятельности все же ощущал себя одиноким, никак
нельзя сказать, что он жил отшельником, без общения с людьми. Все, что из
создаваемого им запечатлевалось на бумаге, высказывалось в его письмах или
диктовалось для публикации, совершалось в его рабочем отсеке, в скромно
обставленных задних комнатах дома, где секретарь или писарь, сидя за столом,
писал под диктовку, а Гёте, заложив руки за спину, ходил по кабинету взад и
вперед. Зато парадные комнаты то и дело наполнялись посетителями, и порой
герцогский министр принимал множество гостей. Как-то раз, вскоре после
мариенбадских перипетий 1823 года, Гёте сказал канцлеру Мюллеру: "Разве
нельзя устроить так, чтобы в моем доме ежедневно собирались раз и навсегда
приглашенные гости, когда в большем, когда в меньшем числе? Пусть каждый
приходит и уходит, когда ему заблагорассудится, пусть приводит с собой сколько
угодно гостей. С семи часов вечера комнаты будут неизменно открыты и освещены,
к столу будет в изобилии подаваться чай и все к нему полагающееся. А гости
могут музицировать, играть, разговаривать, по желанию и разумению каждого. А я
бы появлялся и исчезал, также по желанию и разумению... Словом, хотелось бы
устроить вечное чаепитие, подобно
тому как в некоторых часовнях горит вечный огонь" (из "Разговоров с
Гёте" канцлера фон Мюллера, запись от 2 октября
Способность поэта
сосредоточиться на работе даже в преклонные годы была поистине поразительна.
Ниже приводится обстоятельная цитата из рассказа Иоганна Кристиана Шухардта,
который с 1825 года служил у поэта личным секретарем. Для последнего прижиз-
522
ненного издания своих
произведений Гёте диктовал секретарю кое-какие новые вещи, как и переработанные
старые, в частности "Годы странствий": "Он делал это так
уверенно, с такой легкостью, с какой другой человек разве что мог бы прочитать
вслух отрывок из какой-нибудь напечатанной книги.
Если бы еще при этом
царил покой, если бы нам не мешали и не прерывали работу, я, может быть, даже
не удивился бы этому. Однако во время нашей работы приходили цирюльник,
парикмахер (поэту завивали волосы раз в два дня, но ежедневно делали прическу),
служитель библиотеки, затем библиотекарь — советник Кройтер, служитель
канцелярии — одним словом, все, кому разрешалось входить к поэту без доклада.
То и дело камердинер докладывал о приходе какого-нибудь посетителя, и, если
Гёте соглашался его принять, разговор с ним длился какое-то время, да и тут
между делом в кабинет входил то один, то другой из членов семьи. Цирюльник и
парикмахер рассказывали последние городские новости, служитель библиотеки — про
свою библиотеку и т. д. Как только в ответ на стук раздавалось звучное
гётевское "войдите", я дописывал последнюю фразу и ждал, когда же
удалится вошедший. Тогда я повторял ровно столько фраз, сколько мне казалось
необходимым для уяснения общей связи, и диктовка продолжалась вплоть до следующей
помехи — так, словно она и не прерывалась. Уж слишком странным казалось мне все
это, и я то и дело оглядывал комнату, нет ли где какой-либо книги, конспекта
или черновика, куда Гёте, быть может, заглядывает мимоходом (во время диктовки
поэт беспрерывно шагал по кабинету
взад и вперед, ходил вокруг стола и мимо пишущего эти строки). Но ни разу мне
не удалось обнаружить хоть что-нибудь в этом роде".
Должно быть,
подобный метод экспромта Гёте употреблял далеко не всегда, а лишь применительно
к некоторой части своих произведений. Как свидетельствуют его дневники и архив,
он любил работать на основании собственных конспектов и обстоятельных планов,
которые называл "схемами". Конспект, составленный накануне днем или
вечером, мог быть на другое утро положен в основу диктовки.
Из многочисленных
рассказов видно, что рабочий день Гёте отличался четким ритмом. Редко вставал
он после шести часов утра, а за завтраком обдумывал, что необходимо сделать за
день. К восьми часам приходил писец, которому поэт диктовал письма и служеб-
523
ные записки. Затем
до полудня Гёте занимался своими исследованиями. Обедал он в 14 часов и любил
приглашать к себе друзей и разных гостей. После обеда он уделял время своим
многочисленным коллекциям, в которых были рисунки и гравюры, монеты, минералы и
автографы. Во второй половине дня поэт вновь занимался творческой работой.
Вечер он проводил в обществе членов семьи и близких знакомых, шел общий
разговор, читали вслух. Но в дневнике Гёте можно обнаружить и такие записи:
"Вечер провел наедине с самим собой" — или еще: "Ночью читал
"Наполеона" Вальтера Скотта" (запись от 23 декабря 1827 года).
Еще в 1830 году поэт уверял, что в среднем ежедневно прочитывает по маленькому
книжному тому (из записей канцлера фон Мюллера от 11 января
Раз в неделю его
навещала герцогская чета, а в первой половине дня в четверг он обычно ожидал
Марию Павловну, которую иной раз сопровождал муж. Уединение было необходимо
поэту для продуктивного творчества. Ример писал по этому поводу следующее:
"Его сдержанность, замкнутость, невозмутимость, именуемая холодностью, —
все это поддерживало и стимулировало его поэтический дар. Наблюдение,
восприятие, воплощение в образы — в самом деле, как осуществить все это без
покоя, без отключения от всех помех, без замыкания в себе?" А Цельтеру
поэт писал: "Вот уже четыре недели, а может, и того более, как я не выхожу
из дому, даже из комнаты почти не выхожу: я должен привести в порядок моих
"странствующих" (из письма от 2 января
День за днем
дневники поэта регистрируют, чаще всего без комментариев, все происшествия и
поступки: тьму мелких подробностей заносил Гёте в свои листки. Временами
создается ощущение, будто поэт цеплялся за эти подробности, опасаясь, как бы
вокруг него не разверзлась пустота. Он не раз говорил, что совладать с жизнью
можно лишь в беспрерывной работе: таково было его кредо, которого он
придерживался неукоснительно.
524
Как свидетельствует
канцлер фон Мюллер ("Разговоры с Гёте", запись от 3 февраля
Со страстью поэт
занимался своими дорогостоящими увлечениями — многочисленными коллекциями.
Рукописные документы, свидетельства всех времен, настолько завораживали его,
что он даже собрал большую коллекцию автографов и просил знакомых раздобывать
древние рукописи. В 1961 году был составлен каталог этих документов, которых
насчитывается не менее 1900 экземпляров.
Но и для Гёте годы
тоже не проходили бесследно. Если в 1827 году Вильгельм Гумбольдт, навестив в
Веймаре поэта, унес с собой "образ красивого и могучего старца", то
уже в августе 1829 года у барона фон Штакельберга сложилось иное впечатление.
Правда, Гёте принял его самым приветливым образом, и барон был этим так
воодушевлен, что впоследствии не умолкая рассказывал об этой встрече, настолько
очаровал его Гёте. И все же он писал: "Лицо Гёте, если не считать
впечатляющего выражения твердости и серьезности в его чертах, уже нельзя
назвать красивым. Резко выступает нос, кожа лежит складками, глаза кажутся косо
поставленными, поскольку заметно опущены веки у края глаз, сузились зрачки,
окружены белым ободком катаракты. При ходьбе Гёте шаркает ногами, но все же
спускается по ступенькам лестницы, не опираясь ни на перила, ни на чью-либо
руку".
В последние годы
жизни Гёте посетители порой замечали у него некоторое ослабление памяти.
Фредерику Сорэ случалось видеть, как во время еды или после нее он
"временами на несколько минут засыпал" (18 января
525
он защищал от
солнечного света и света ламп зеленым козырьком. Но при всем при том вот какие
записи вносил поэт в свои дневник, к примеру, 12 и 13 марта 1832 года:
"12-го. Продолжал чтение "Воспоминаний о Мирабо" Дюваля.
Диктовал различные письма. Надворный советник Фогель. Имел с ним интересный
разговор касательно критики некоторых заключений физиков. Прочие дела. В 1 час
дня приходила Зейдлер, показывала несколько прелестных эскизов к картинам,
которые собирается написать. В полдень — архитектор Кудрэ, мы еще раз
просмотрели присланное из Неаполя. Фон Арним. Эккерман. После обеда читали
первый том "Мемуаров" Дюмона. Канцлер фон Мюллер. Продолжал читать
вышеназванную книгу. Позднее — Оттилия. Отъезд графа Бодрей. Высказывания
великой герцогини.
13-го. Продолжал
диктовать письма. Художник Штарке изготовил для графа Штернберга рисунок
оттиска растения из Ильменау. В полдень выезжал с Оттилией на прогулку. За
обедом — фон Арним. После продолжал чтение французской книги. В 6 вечера —
надворный советник Ример. Просмотрел с ним многие схемы".
С немногими близкими
людьми, знакомыми и сотрудниками поэт поддерживал постоянный контакт. Они и
составляли тот узкий круг, в котором он пребывал в последние годы жизни. Часто,
без особого приглашения приходил к поэту канцлер фон Мюллер; оба так давно и
так хорошо знали друг друга, что даже не всегда возникала необходимость
поддерживать беседу. Сплошь и рядом друзья молча сидели рядом — могли
обходиться без слов. А вообще-то канцлер фон Мюллер был темпераментным
спорщиком, и в его "Разговорах с Гёте", которые он записывал начиная
с 1812 года, перед нами предстает поэт, резко, без обиняков высказывающий свое
мнение, сплошь и рядом — с сарказмом, иногда "с поистине эпиграмматическим
остроумием и беспощадным критицизмом" (запись канцлера фон Мюллера от 6
июня
526
исправления и
сокращения, перестраивать абзацы, устранять повторы. Если учесть подобное
вмешательство, перед современными филологами, доискивающимися аутентичного
гётевского текста, возникает сложная задача. Гёте заведомо санкционировал любые
изменения, которые вздумал бы предпринять в его рукописях Ример, о чем как-то
раз в категорической форме объявил Кристиане (11 августа
Сердечные отношения
сложились у поэта с Фредериком Сорэ (1795—1865), прибывшим в Веймар в 1822 году
для замещения должности гувернера принца Карла Александра. Сорэ к тому же
обладал специальным естественнонаучным образованием. Он был швейцарец, родом из
Женевы, в доме Гёте его принимали радушно, он же перевел на французский язык
"Метаморфозу растений", а в своем дневнике обстоятельно записывал
свои впечатления о встречах с поэтом. Частично содержание этих записей вошло в
книгу Эккермана "Разговоры с Гёте". Однако его "Conversations avec
Goethe" (изданные в 1929
году X. X. Хоубеном под названием "Десять лет с
Гёте" и дополненные текстами писем и записей из архива) рисуют несравненно
более объективную картину, чем книга Эккермана, стремившегося словно бы
воздвигнуть ею памятник "олимпийцу".
Клеменс Венцеслав
Кудрэ, с 1816 года исполнявший в Веймарском герцогстве должность главного
архитектора, также принадлежал к числу любимых собеседников Гёте в последние
годы его жизни. Прежде он был придворным архитектором и профессором в Фульде;
здесь же, в Веймаре, он развил многостороннюю деятельность и ведал решительно
всем — от строительства дорог до городского планирования. И Веймар, и округа
были обязаны ему возведением многих зданий. Он предложил создать специальное
училище для подготовки строителей, и в обстоятельной докладной записке от 18
мая 1829 года Гёте поддержал это предложение. Училище должно было давать
строителям всестороннюю подготовку и обеспечивать их всем для этого
необходимым. Само собой, руководить училищем должен был Кудрэ. В октябре 1829
года и впрямь учредили училище под названием "Велико-герцогская свободная
ремесленная школа", где с учащихся не взыскивали платы за обучение;
училище
527
это стало своего
рода предшественником "Баухауза". После пожара театра, случившегося в
1825 году, Кудрэ в тесном контакте с Гёте разрабатывал проект нового театрального
здания (впоследствии по причинам финансового порядка проект этот не был
принят). Эккерман приводит на этот счет следующее замечание Гёте от 24 марта
1825 года: "Признаюсь вам, что в долгие зимние вечера мы с Кудрэ
занимались проектированием нового, более подходящего для Веймара и очень
хорошего театрального здания" (Эккерман, 482).
Оставались у поэта и
прежние верные его друзья: Цельтер в Берлине, Кнебель в Йене — этот подчас
сердитый скептик. Гёте много лет с большим интересом следил за его работой над
переводом Лукреция, а в 1822 году опубликовал на нее рецензию в своем журнале
"Искусство и древность".
Напряженность в
отношениях поэта с Шарлоттой фон Штайн давно разрядилась. Два старых человека
непринужденно и дружески общались, никогда не касаясь прошлого. 6 января 1827
года, в возрасте восьмидесяти четырех лет, Шарлотта фон Штайн скончалась. Перед
смертью она настойчиво потребовала, чтобы похоронное шествие не проходило мимо
дома Гёте. Она знала, что он не терпел "могильного" парада.
В июне 1823 года в
Веймар приехал Йоган Петер Эккерман. Визит к Гёте определил всю его дальнейшую
жизнь. Эккерман родился в 1792 году в Винзене-на-Луэ, в бедной семье, "в
убогой хижине — иначе, пожалуй, и не назовешь домишко, в котором была одна лишь
комната с печью, а лестницы и вовсе не было, если не считать приставной лесенки
возле входной двери, по которой мы лазили на сеновал" (Эккерман, 46). В
детстве он был пастухом и впоследствии шел к просвещению трудным путем, по
большей части занимаясь самообразованием. Служил писарем, добровольно
участвовал в освободительной войне, затем служил в ганноверском военном
ведомстве, а зимой 1816—1817 годов посещал гимназию. В 1822 году он оставил
службу и два года получал пособие в виде половины жалованья, чтобы изучить юриспруденцию
в Гёттингенском университете. Однако куда больше юриспруденции юношу привлекала
литература, он писал стихи (которые отважился посылать Гёте), написал драму,
изучал теорию стихосложения. В 1821 году он предпринял путешествие в Тюрингию и
Саксонию, заехал и в Веймар, где, однако, виделся только с Римером и Кройтером.
Проучившись три
528
семестра в
университете, он оставил свои занятия, а зимой 1822—1823 годов написал работу
"Статьи о поэзии, преимущественно о творчестве Гёте". И эти статьи он
тоже послал своему кумиру. Гёте рекомендовал это сочинение издателю Котте, и в
октябре 1823 года статьи были изданы. Пересылая рукопись Эккермана издателю для
опубликования, Гёте объяснил ему свой особый интерес к молодому почитателю его
таланта. Он ищет молодых людей, писал он Котте, "которым можно было бы
поручить редактирование материалов, которое самому уже вряд ли удастся
выполнить" (письмо от 11 июня
Наверно, Эккерману
было лестно это признание, лестно, что его так приветливо встречают. Он остался
в Веймаре, надолго отдав все силы в распоряжение своего кумира. По настоянию
поэта он к тому же много раз отказывался от собственной литературной карьеры.
Правда, никто не может сказать, удалась ли бы ему вообще таковая. Как знать,
может быть, именно эта деятельность многолетнего заботливого помощника гения,
помощника, восхищавшегося своим кумиром и участвовавшего в его размышлениях, —
может быть, именно она и была ему по плечу? Безусловно, Гёте поступал
эгоистично, прочно привязав к себе и удерживая в Веймаре этого человека,
оказавшегося старательным и способным сотрудником. Но был ли Эккерман жертвой
гётевского эгоизма? Он глубоко вжился в свою роль помощника Гёте и уже не мог
освободиться от пут, завороженный близостью титана, к которому имел доступ, как
никто другой. Ему отдавал он год за годом свою жизнь, только тем и мог
оправдаться перед самим собой, что, неустанно помня об исключительности своего
положения, старался всячески игнорировать свою бытовую нищету. Оглядываясь на
прошлое, он подчеркивал, что, в сущности, никогда не был секретарем Гёте —
секретарем у поэта в ту пору был Йон.
"С Гёте меня
связывали отношения чрезвычайно своеобразные и утонченные. Это было отношение
ученика к мастеру, сына к отцу; человека, нуждающегося в образовании, к
человеку, прекрасно образован-
529
ному. Случалось, я
виделся с ним всего раз в неделю и навещал его по вечерам, а иногда посещал его
ежедневно, в полдень имел счастье сидеть вместе с ним за столом то в большом
обществе, то с глазу на глаз. Был в наших отношениях также и практический
момент. Я взял на себя редактирование старых его рукописей", — писал
Эккерман 5 марта 1844 года Генриху Лаубе. С этим свидетельством мы должны
считаться, хотя, видимо, в какой-то мере тут примешивался самообман.
Для устройства
личной жизни у Эккермана уже почти не оставалось ни времени, ни сил. Заработки
у него были нерегулярные, кое-как перебивался он уроками, которые давал
приезжающим в Веймар англичанам, и материально зависел от того, что пожалует
ему мастер. У себя в квартире бывший подпасок временами держал до сорока птиц и
сам едва мог в ней повернуться. Отсюда обстоятельный разговор с Гёте о птицах,
который он включил в свою книгу (8 июля
Наверно, само имя
Эккермана давно изгладилось бы из памяти потомков, не напиши он книгу, которая
принесла ему славу: "Разговоры с Гёте в последние годы его жизни",
впервые изданную в 1836 году. Это был не просто правдивый отчет о беседах с
гением, а книга, способная поведать потомкам о предметах всех этих бесед. Это были
заметки человека, хорошо знакомого с духовным миром поэта, в высшей степени
способного воспринять гётевские идеи и своей книгой стремившегося словно бы
воздвигнуть ему памятник. "Что, собственно говоря, осталось в немецкой
прозе такого, что заслуживало бы быть прочитанным снова и снова?" —
спрашивал Фридрих Ницше и наряду с творениями Гёте, афоризмами Лихтенберга,
автобиографией Юнга-Штиллинга, "Бабьим летом" Штифтера и "Людьми
из Зельдвилы" Готфрида Келлера указал также и на "Разговоры с
Гёте" Эккермана, причем, бесспорно завысив оценку этого произведения,
назвал его "самой лучшей из всех немецких книг".
Гёте отлично
понимал, кого он обрел в лице Эккермана, — человека, умеющего слушать, вжиться
в мир его идей и побуждать его к творчеству: "Эккерман лучше всех умеет
извлекать из меня литератур-
530
ные произведения
своим эмоциональным отношением к уже сделанному, уже начатому"
("Разговоры с Гёте" канцлера фон Мюллера, запись от 8 июня
Многие из своих
замыслов Гёте не смог бы осуществить, если бы на протяжении всей своей жизни не
располагал верными помощниками. В доме его хозяйничали кухарки и разного рода
обслуживающий персонал; кучер содержал в полном порядке выезд, который Гёте, к
радости своих домашних, приобрел еще в 1799 году. Зайдель, Зутор и Гётце были
его слугами в раннюю веймарскую пору; с 1795 года по 1804-й обязанности личного
секретаря исполнял Гайст. После этого слуги в доме Гёте долгое время сменялись,
пока в 1814 году и в последующие десять лет ему не стал служить Карл
Штадельман, сопровождавший поэта по всех важных поездках. Его сменил Готлиб
Фридрих Краузе, состоявший при Гёте с 1824 года и до конца жизни. Штадельман,
которого не раз называли "классическим камердинером", по профессии
наборщик, интересовался также геологией, минералогией и ботаникой, во время
путешествий вел личный дневник. Гёте охотно приспособил бы его еще и к
исполнению секретарских обязанностей, если бы он подходил для работы писца. Но
в сложившихся условиях в 1814 году был нанят секретарем Иоганн Фридрих Йон,
рукой которого переписана большая часть рукописей Гёте. А в Йене в том же 1814
году обязанности писца был готов выполнять музейный писарь Михаэль Фербер.
Секретарями поэта служили еще Фридрих Теодор Кройтер и Иоганн Христиан Шухардт;
оба были посвящены в содержание объемистых папок и рукописей. Таким образом
поэт, можно сказать, содержал при себе целую канцелярию. Благодаря усердию слуг
Гёте был обеспечен каждодневным уходом, и во время путешествий слуги также
освобождали поэта от множества банальных бытовых забот. В благодарность за
верность Гёте определил многих из них на службу в разные государственные
учреждения. Приятно констатировать, что исследователи наконец проявили должный
интерес к слугам Гёте, по достоинству оценив их труд 1.
531
Сумма убеждений
Свой взгляд на мир,
на жизнь и на эпоху позднего творчества Гёте не счел нужным излагать в
каком-либо систематизированном виде. Однако в его статьях, беседах и письмах
отчетливо выделяются устойчивые суждения, основывающиеся на сложившихся ранее и
сформировавшихся за много лет воззрениях. И, естественно, не утратили своего
значения основополагающие убеждения, выраженные в мировоззренческих
стихотворениях и составляющие теоретическую основу его исследовательского подхода
к природе.
Полнота бытия во
всем многообразии проявлений представлялась поэту живым и единым делом, чьи
формы детерминированы тайными законами, которые человек стремится познать. Он
исходил при этом из принципа, что отдельные явления суть представители
потаенных структурных замыслов, которые наблюдатель может установить в
различных областях, так же как и в самом прафеномене и в типе. Дальше этого
созерцающий взгляд наблюдателя, убежденного в разумном устройстве всеобщего,
проникнуть не может. Однако интуиция и вера порождают убеждение, что прафеномен
и тип заложены в идее, властвующей над всем сущим. Вечно живая и деятельная
природа творит свои создания в согласии с идеей, лежащей в основе всего сущего,
и всякое единичное явление по-своему отражает всеобщее, извечно однозначное и
непреложное. "Идея — вечна и неповторима", то, что мы порой говорим о
ней в множественном числе, нехорошо. Все, что поддается нашему восприятию и о
чем мы можем говорить, — суть лишь проявления Идеи" ("Максимы и
рефлексии"). Здесь не поясняется, что в множественном числе речь ведется
порой об идеях, заключенных в одной-единственной главной Идее. Множественное и
единичное слито в ней воедино, в отличие от чувственного мира, являемого нам
исключительно в многообразии. Такого рода вопросы издавна занимали философов.
В статье
"Размышление и смирение", о роли которой для естественнонаучной
работы Гёте уже говорилось выше, Гёте следующим образом сформулировал свою
основную посылку: "Рассматривая мироздание в его величайшем протяжении, в
его последней делимости, мы не можем отделаться от представления, что в основе
целого лежит идея, по которой бог в природе, природа в боге творит и действует
из вечности в веч-
532
ность" 1. И далее Гёте заводит речь о
"тайнах" и "первоначалах", которых стремится доискаться
исследователь, решившийся сформулировать свою идею: "Созерцание,
исследование, размышление приводят нас ближе к этим тайнам. Мы дерзаем и
решаемся также высказывать идеи; становясь скромнее, мы создаем понятия,
которые могут быть аналогичны тем первоначалам" 2.
Совершенно очевидно:
поэт, убежденный в великой упорядоченности вселенной, предполагал, что между
идеями наблюдателя и идеей, лежавшей в основе всего сущего, налицо согласие,
некая априорная гармония. Подобно тому как глаз может узреть солнечный свет
лишь в силу того, что сам он тоже "солнечен", так же и идеи
созерцающего, размышляющего наблюдателя устремлены к идее целого, вследствие
чего складываются понятия, "которые могут быть аналогичны тем первоначалам".
Употребленная здесь условная форма показывает: Гёте надеялся, что
вышеупомянутая аналогия реальна. Идея, которую Гёте однажды назвал
"единственной первоопределяющей", есть "закон всех
явлений". "Идеей называют то, что проявляется неизменно и потому
предстает перед нами как закон всех явлений" ("Максимы и
рефлексии"). Однако проявление идеи не так-то легко воспринять, потому что
"животворящий и упорядочивающий принцип в явлении настолько угнетен, что
не знает, как и спастись". В одной из своих бесед с канцлером фон Мюллером
(в мае 1830 года) Гёте отчетливо сформулировал причину необходимого, на его
взгляд, смирения, которым должен проникнуться наблюдатель природы, предающийся
также размышлениям о ней. Уже давно выявил он для себя "тот простейший
первотип", и все же: "Ни одно органическое существо полностью не
соответствует лежащей в его основе идее; за каждым скрыта идея высшая; это и
есть мой бог, тот самый бог, которого мы вечно ищем и надеемся узреть, однако
можем лишь угадывать его, но никак не лицезреть".
Здесь предполагается
идея, будто бы лежащая в основе всего сущего, и нарекается именем бога, и
обозначение это присваивается всеобъемлющему первопринципу. Верующему и
мыслящему духу наблюда-
1 Цит. по: Канaeв И. И. Гёте как естествоиспытатель. Л., 1970, с. 177.
2 Там же.
533
теля, прикованному к
видимому миру, предлагается неслыханная, в сущности, невозможная задача: уже в
самих явлениях воспринять смутно обозначенную в них идею. Парадокс обусловлен
главной трудностью, присущей христианскому вероучению: необходимо уверовать,
что бесконечный бог воплотился в историческую личность человека и что
утверждение истинно именно в силу своего неправдоподобия. Мысль эта повторена в
"Фаусте": "Невероятно, а стало быть — правдоподобно". Вот
почему, как признается автор "Размышления и смирения", невозможность
связать воедино идею и опыт "ввергает нас в своего рода безумие".
Исследователь, стало
быть, должен смириться, при этом, однако, не теряя веры в присутствие идеи в
зримых явлениях чувственного мира. Оставалась указующая роль символа и
проницательный взгляд, в единичных явлениях усматривающий образы вечного
целого, непреложного — словом, идеи, божественного. В символе должна проявиться
частица угадываемого идейного контекста всеобщего. "Все происходящее есть
символ, во всей полноте воссоздавая себя, оно свидетельствует обо всем
миропорядке. В этой мысли, мне кажется, заключается наивысшая притязательность
и наивысшая скромность" (из письма Гёте к К. Э. Шубарту от 2 апреля
Подобное
символическое видение обусловливалось неразрывной связью идеи всеобщего с
идеями мыслящего наблюдателя, которые тот осмеливался высказать, и, как уже
подчеркивалось выше, выражало взгляд Гёте на данную проблему. "В объекте
наличествует нечто непостижимо закономерное, соответствующее непостижимо
закономерному в субъекте" ("Максимы и рефлексии"). В природе,
как и в субъекте, соответственно присутствует нечто "дополнительное"
"сверх того", относящееся к идее вселенной, как и к идее наблюдателя.
В совокупности все это может объять только бог, потому что в нем заключено все
сущее. Как свое "общее кредо" Гёте выразил эту точку зрения в письме
к Шлоссеру (от 5 мая
"а. В природе
есть все, что есть в субъекте.
у. И еще что-то
сверх того.
б. В субъекте есть
все, что есть в природе.
з. И еще что-то
сверх того.
"б" может
постичь "а", но "у" может быть воспринято только через
посредство "з". Отсюда возни-
534
кает равновесие в
мире, как и жизненный круг, в котором мы замкнуты. Существо, с величайшей
непреложностью соединяющее в себе все четыре элемента, народы во все времена
называли богом".
Если Гёте
многократно повторял, что с годами начинаешь искать "родовое" и
устремляешь свой взгляд на всеобщее, чтобы не задерживать внимания на случайном
облике явлений, то тем самым имеется в виду старание уже в мельчайшем феномене
распознать "закон всех явлений". "Чем старше становишься, тем
яснее видишь связь вещей" (из письма Шеллингу от 16 января
Взгляд, который
приписывается здесь старцу, — не что иное, как символическое мировосприятие,
основные моменты которого уже были очерчены выше. Так, со времени создания
"Западно-восточного дивана" развивалось характерное миропонимание
Гёте, описанное им в письме Цельтеру. Впрочем, и это письмо он заключил
характерной для переписки его поздних лет фразой, без всякого перехода сменив
возвышенный тон на будничный: "Безусловная покорность неисповедимой воле
божией, беспечальный взгляд на всегда подвижную, всегда круговоротом и спиралью
возвращающуюся обратно земную сутолоку, любовь, взаимное тяготение,
колеблющееся между двумя мирами, все реальное просветлено, растворено здесь в
символе. Чего тебе, дедушке, еще надо?" (письмо от 11 мая
535
молодости гимнах
"Ганимед", "Песнь о Магомете", "Морское
плавание". Однако в этих стихотворениях символическое было связано с
исключительными личностями и исключительными ситуациями, зато в
"классический" период гётевская поэзия воплощала типическое и в
определенных областях закономерное. Взгляд поэта на склоне лет, однако, мог
придавать символическое значение несравненно большему кругу явлений, чем
прежде, потому что все преходящее есть символ, но в то же время оно есть только
символ.
Между идеей и
опытом, приобретаемым в многообразии эмпирического чувственного мира,
говорилось в статье "Размышление и смирение", "пролегла
пропасть, перешагнуть которую мы напрасно стараемся". Существует, однако,
возможность приближения к истине. Становясь на позиции неоплатонизма, Гёте
говорил о "целом... из которого все исходит и к каковому вновь необходимо
все свести". Соприкасаясь с идеями Платона, он также подчеркивал, что
сотворенное в значении не уступает творящему, "мало того, преимущество
живого творения состоит в том, что сотворенное может оказаться совершеннее
творящего". Подобное "живое творение" может осуществляться в
жизни — в деянии, как и в искусстве. "Ведь это наш долг, — говорится в
другом месте у Гёте, — претворять в жизнь самое идею, насколько это
возможно". Идея частично зримо проступает в искусстве, в сфере же действия
ее следы переходят в область реальности. "Идея и опыт никогда не сойдутся
на полдороге, только искусство и деяние способны их соединить", — писал
Гёте Шопенгауэру 28 января 1816 года.
Для гётевского
понимания характерно представление о Вселенной как о иерархически упорядоченной
системе. Камни и созвездья, растительный, животный и человеческий мир — всему
отведено свое место в этом миропорядке, согласно "идее", принятой за
основу мироздания. Ту силу, что создает и пронизывает Всеобщее, что составляет
первопричину всяческого бытия, можно назвать богом или божественным. Стало
быть, во всем сущем присутствует божественное, и человек может его воспринять и
познать, насколько это ему удается. Потому что по-прежнему остается
непостижимое, а области, в которые может простираться божественное, мы даже не
способны прозреть. "Высшее счастье мыслящего человека в том, чтобы,
исследовав постижимое, спокойно почитать непостижимое". Как уже
указывалось, Гёте полагал, что диапазон по-
536
знаваемого
сравнительно невелик, ведь, по его суждению, и мельчайшая единица его должна
быть зрительно доступна человеку. По-разному связаны с существующим
миропорядком религия, искусство и наука. Когда в 1819 году Карл Эрнст Шубарт в
одном из своих писем назвал науку единственной силой, в отличие от теологии и
поэзии, обращенной к эмпирической реальности, Гёте ответил ему письмом,
содержащим спекулятивную схему, которую, однако, продумать до конца он
предоставил адресату. Во всяком случае, он ставил религию и искусство на один
уровень с наукой (письмо от 21 апреля
"На
любви, вере, надежде
покоится возлюбленного богом человека
религия, искусство, наука
они питают и удовлетворяют
потребность
поклоняться, производить, созерцать
все трое суть одно
от начала и до конца
хоть и разделенные посередине".
Труднопонятная
последняя строчка, очевидно, должна выразить нечто вроде содержавшегося в
приведенной фразе выше: "Идея и опыт никогда не сойдутся на
полдороге". Здесь очевидна лишь триада идей, путеводных для человека:
"вера-надежда-любовь", связанных с великой Идеей мироздания.
Поклоняясь этой идее, созерцая, человек стремится приблизиться к ней в той
реальности, в каковой ему предписано жить.
Спокойно почитающему
непостижимое мыслителю, творчески продуктивному поэту, пытливому исследователю
природы Гёте, при всем том бремени труда, какое он нес на своих плечах, при
всем том, что всю жизнь, по его словам, он только и делал, что "ворочал
камни", была свойственна такая уверенность, какую можно лишь назвать
чувством разумной устроенности бытия. Подтверждение своего мировосприятия бытия
он находил у многих более ранних мыслителей, сам же он не разработал в этом
смысле сколько-нибудь четкой системы. Многими специальными исследованиями
впоследствии было установлено, что же заимствовал Гёте-мыслитель у разных
философов. У неоплатонистов Гете нашел понравившееся ему воззрение, согласно
которому Единое целое выплеснулось
537
в бесконечную
множественность мира; в многообразии проявляется единое целое, и, наоборот,
сотворенное вновь устремляется назад в лоно творца. Но при этом поэт был
убежден, что воплощения Единого целого обладают не меньшей ценностью, чем это
Единое, от которого они произошли. Полюбилось Гёте также и учение Платона о
прекрасном, согласно которому природа и дух художника стремятся создать
красоту, возвышающуюся над всем чувственным; в ней проявляется частица
божественного, видимая лишь внутреннему оку. Поэт рано усвоил уроки Джордано
Бруно, учившего, что бог и мир, дух и материя нераздельны. Спиноза подтвердил
неразрывную связь бога и природы. Этот философ обусловил ценность и достоинство
единичных явлений тем, что установил обратную связь их бытия с божественной
субстанцией. Гёте, которого несравненно меньше интересовало дифференцированное
выведение единичных явлений из всеобщей субстанции, решительно признавал за
индивидуальными явлениями самобытность. Подобно Лейбницу, Гёте тоже считал, что
повсюду в живой природе существуют бесчисленные самостоятельные индивидуальные
существа, которые в силу своей энтелехии связаны между собой, как элементы
некоей универсальной гармонии, и устремлены к заложенной в них жизненной цели
бытия. В микрокосмосе действуют те же законы, что и в макрокосмосе.
Все сущее, уверенно
полагал Гёте, претерпевает беспрестанные превращения, обусловленные полярностью
и совершенствованием — этими "великими маховыми колесами всякой
природы"; любое становление, любое превращение совершается в сфере бытия.
...Вновь переплавить сплав творенья,
Ломая слаженные звенья, —
Заданье вечного труда.
Что было силой, станет делом,
Огнем, вращающимся телом,
Отдохновеньем — никогда.
Пусть длятся древние боренья!
Возникновенья, измененья —
Лишь нам порой не уследить.
Повсюду вечность шевелится,
И все к небытию стремится,
Чтоб бытию причастным быть.
(Перевод Н. Вильмонта — 1, 465)
538
Так завершается
стихотворение "Одно и все". Однако вечное превращение, включающее
возникновение и умирание, сберегает распавшееся в лоне непреходящего бытия.
Поэтому стихотворение "Завет" начинается следующими строками:
Кто жил, в ничто не обратится!
Повсюду вечность шевелится.
Причастный бытию блажен!
Оно извечно; и законы
Хранят, тверды и благосклонны,
Залоги дивных перемен.
(Перевод Н. Вильмонта — 1, 465)
Здесь перед нами не
опровержение, а подтверждение мнимого парадокса, состоящего в непреходимости и
всеприсутствии бытия.
Для того, кто живет
в подобной уверенности "вечного бытия" и его постоянного присутствия,
любые различия между прошлым, настоящим и будущим уже несущественны. Таково
свойство гётевского "мистицизма" в старости. Об этом ощущении
"единовременности" неоднократно упоминал сам поэт. Только подобное
ощущение вечности и непрестанности всеприсутствия бытия сделало возможным
создание "акта Елены" во второй части "Фауста", в котором
античность, средние века и современность словно бы
"синхронизированы". "Более всего поражает меня ткань этого
первозданного ковра, — писал Гёте Вильгельму фон Гумбольдту 1 сентября 1816
года, — прошлое, настоящее и будущее так удачно сплетены здесь воедино, что сам
становишься провидцем, то есть богоподобным. А ведь это в конце концов и есть
триумф поэзии как в большом, так и в малом" (XIII, 418— 419) 1.
В убеждении, что
вечно действующая жизненная сила — "божественна", а
"божественное" не может быть воспринято непосредственно, несомненно,
скрыты христианские идеи. Однако христианином в буквальном смысле слова Гёте
никогда не был. Ведь именно ту веру, которая, собственно, и делает человека
христианином, он никак не мог заставить себя принять: веру в однократное
историческое самоявление бога в лице Иисуса Христа, в его воскрешение и воз-
1 Речь идет о переводе "Агамемнона" Эсхила, выполненном В. фон Гумбольдтом.
539
несение. Церковную
доктрину, строящуюся на этом как на непреложной и непременно принимаемой на
веру истине, он отказывался признать, а ожесточенные, тянущиеся сквозь века
споры различных церквей о должном истолковании основ вероучения, как и
последствия этих споров, поэт презирал. Согласно свидетельству канцлера фон
Мюллера, он как-то раз дал "гениальную характеристику истории церкви как
продукта заблуждения и насилия" ("Разговоры с Гёте" канцлера фон
Мюллера, запись от 19 октября
Мысль, много лет
назад провозглашенная им в "Письме пастора", осталась его кредо и на
склоне лет: "Истина да будет нам мила, где бы мы ее ни обрели".
"В аптеке нашего Отца много рецептов", — возразил поэт неистовствующему
Лафатеру 4 октября 1782 года. Даже еще и в 1826 году Гёте опубликовал в своем
журнале "Искусство и древность" написанную им ранее статью,
содержавшую полемику с графом Штольбергом, который в свое время (1795)
интерпретировал учение Платона с христианских позиций. В ней Гёте говорил о
существовании "великого божьего мира", как и об "осознании его
общих, беспрерывных и непрерываемых воздействий" ("Платон как
поборник христианского откровения"). А веровать в чудеса вокруг Иисуса и
Марии поэт считал и вовсе невозможным. "Я считаю это, скорее, хулой на
великого творца и его откровения в природе", — писал он Лафатеру 9 августа
1782 года (XII, 258).
Распятие было ему
ненавистно. В свое время он иронизировал на этот счет в "Венецианских
эпиграммах", но и в конце жизни называл его "безобразной деревяшкой,
самой отвратительной, что только есть под солнцем". "Ни один разумный
человек не пожелал бы раскопать и воткнуть его в землю", — писал он
Цельтеру 9 июня 1831 года. Гёте отнюдь не презирал Христа, совсем напротив, он
рассматривал его как одного из великих пророков, каких знали и другие религии.
Причина его неприязни к культу распятого Христа отчетливо проступает в
"Годах странствий", где в "педагогической провинции"
воспитатели по наущению автора заявляют, что земной путь Христа "для
благородной части человечества поучительней и полезней, чем его смерть"
(8, 145). И далее: "При жизни он предстает перед нами как мудрец в высшем
смысле слова" (с. 144). Ниже мы читаем: "Он твердо стоит на своем, он
неуклонно идет своей
540
дорогой, он
возвышает для себя стоящее ниже, уделяет от своей мудрости, силы и богатства
простецам, недужным и бедным и через это как бы становится с ними вровень — и в
то же время он не отрекается от своего божественного происхождения, дерзает равнять
себя с богом и даже провозгласить себя богом" (с. 144—145). Однако на муки
Христа, говорят воспитатели из гётевского романа, лучше набросить некий покров
"именно потому, что мы так высоко чтим их... Но мы считаем
предосудительной дерзостью выставлять орудие мучения и страждущего на нем
святого на обозрение солнцу" (с. 146). Орудие мучения отвлекает человека
от жизни, которую нужно прожить в вере, любви, надежде — здесь и теперь.
Гёте неизменно отдавал
должное нравственному качеству жизни Христа и христианства. Вера же в
спасительное деяние Иисуса была для этого не обязательна, тем более что ею
заносились в разряд грешников также и его возлюбленные язычники античности.
Гёте признавался Эккерману 11 марта 1832 года: "Я преклоняюсь перед ним,
как перед божественным откровением высшего принципа нравственности"
(Эккерман, 640). Но тут же поэт заметил, что он и солнце тоже почитает,
"ибо и оно откровение наивысшего, самое могучее из всех явленных земнородным".
Христианская религия
для Гёте — одна из многих, заслуживающая, правда, особого отличия, потому что
она признает божественными "унижение и бедность, глумление и поругание,
презрение и несчастие, страдание и смерть", мало того — согласна признать,
что "даже грех и преступление не только не мешают, но и способствуют
святости, и за то почтить их и возлюбить их" готова (8, 139).
Так, среди трех
религий, представленных в "педагогической провинции", христианской
религии отводится высшее место. "Этническая религия" основана, как
утверждают наставники, на благоговейном страхе "перед тем, что превыше
нас": к роду этнических принадлежат все языческие религии.
"Философическая" религия "зиждется на благоговении перед тем,
что ниже нас".
Однако воспитатели
говорят, что исповедуют не только эту последнюю религию, но и все три,
"ибо только все три вместе и создают подлинную религию" (8, 1 39).
Три вида благочестия порождают высшее благочестие — "благоговение перед
самим собой". Тем самым достигнута вершина гуманистической уве-
541
ренности: человек
получает право считать себя "совершеннейшим произведением бога и
природы". На жизненном пути человека, которому надлежит исповедовать все
три благословения, должно осуществиться то, что представляет божественное.
Человеку, своими мыслями устремленному к великому целому, из которого все
происходит и которое все объемлет, присуща уверенность, что он поступает и
мыслит по справедливости. Если солнце — источник света, то совесть — регулятор
человеческого бытия:
Теперь — всмотрись в родные недра!
Откроешь в них источник щедрый,
Залог второго бытия.
В душевную вчитайся повесть,
Поймешь, взыскательная совесть —
Светило нравственного дня.
(Перевод Н. Вильмонта — 1, 466)
Гётевское неприятие
определенных аксиом христианского вероучения не исключает, что он, особенно
после того, как Буассере познакомил его со старонемецким религиозным
искусством, временами выказывал глубокий интерес к церковным ритуалам. Всюду,
где Гёте замечал благоговение перед непостижимым, можно было рассчитывать на
его сочувствие. При условии, однако, что ритуальное не обособляется в
самодовлеющий спектакль, какие он с негодованием наблюдал в Италии. Так в
"Поэзии и правде" он уже мог деликатно отзываться о святом причастии
как о наивысшем в религии чувственном символе чрезвычайной божьей милости и
благоволения. А Библия была для него, само собой разумеется, великой книгой
мудрости, столь насыщенной содержанием, что она больше любой другой книги дает
материал для размышлений и повод для раздумий о человеческих делах.
Со своим
представлением о великой упорядоченной природе-боге, где все пронизано
закономерностью, коренящейся в идее Всеобщего, где, стало быть, нет. места
бессмысленному случаю и произволу, Гёте оказывался в трудном положении, когда
хотел в сходном аспекте рассматривать также и реальную политическую историю.
Собственно говоря, ему следовало бы найти ей место в своей всеобщей
интерпретации
542
миропорядка, но
подобная попытка была заведомо обречена на неудачу. Угадываемые и установленные
закономерности бога-природы никак не отыскивались с той же легкостью в сфере
конкретной истории. Совершенно очевидно, что общественно-исторические процессы
развиваются отнюдь не в согласии с идеями, обнаруженными при созерцании и
изучении природы. Уже в свое первое веймарское десятилетие поэт заметил, что
выводы Гёте-министра никак не согласуются с выводами Гёте-естествоиспытателя.
Бегство в Италию было попыткой бегства от этого разрыва. Гёте оказался перед
дилеммой, распространившейся также на его положение в обществе. Как бюргер, он
достиг наивысшей возможной ступени и был этим горд. Как политический деятель,
он тем не менее не мог эффективно вмешиваться в положение дел. Поскольку путь
борьбы за революционный переворот был для него неприемлем, ему оставалось лишь
смириться с существующими структурами и приспособиться к имеющимся условиям в
надежде, что процесс спокойного развития впоследствии позволит создать лучшие
условия. Правда, поэту оставалась свобода исследований и творческой работы в
сфере искусства и науки. На этом, как и на административном попечении о
соответствующих учреждениях, и сосредоточил он с согласия герцога усилия по
возвращении из Италии, вновь подтвердив тем самым свое решение остаться в
Веймаре. Когда же Французская революция неожиданно и жестоко показала, что
истории весьма свойственны непредвиденные скачки и вулканические взрывы, что в
ее недрах бушуют силы, которые нельзя уложить в категории, выведенные им из
изучения природы и искусства, — тогда история в глазах поэта и вовсе
превратилась в страшную арену непредсказуемого. В сущности, никто не может
извлечь никаких уроков из истории, "потому что она вмещает лишь уйму
глупостей и пакостей" (запись канцлера фон Мюллера от 17 декабря
Реальный
исторический процесс вызывал у Гёте чувство растерянности, и порой в его
художественное творчество вплетались метафоры из сферы природы, призванные
наглядно пояснить то великое, что совершалось в мире. Когда же дело касалось
близких событий, Гёте оказывался достаточно проницателен: он умел точно
определить общественно-политическую си-
543
туацию, как и
связанные с ней осложнения, а также отразить все это в художественных образах и
соответствующей фабуле. Пьеса "Внебрачная дочь", как и романы о
Вильгельме Мейстере, служит тому примером. С другой стороны, трудно было
устранить недостаток, состоявший в отсутствии каких бы то ни было жизненных
критериев, кроме выработанных в итоге изучения природы. И сколько бы ни восхищался
поэт таким демоническим деятелем, как Наполеон, изумляясь его могучей
исторической роли, это еще не позволяло уяснить суть исторического процесса, в
рамках которого он действовал.
В отличие от ряда
мыслителей XVIII—XIX веков, которых воодушевляла надежда на ход исторического процесса, Гёте
не мог лелеять подобных иллюзий. В статье "Эпохи духа" (1817) поэт
очертил четыре фазы его развития: составные части круговорота — от всяческого
начала и зарождения, через стадии расцвета и зрелости, — ведущего к упадку:
"Под конец снова воцаряется хаос, но не тот изначальный, оплодотворенный и
плодоносный, а нечто умирающее, переходящее в загнивание, из какого сам господь
бог навряд ли смог бы вторично создать мир, его самого достойный". Если и
здесь опять же проступает схема естественного жизненного круговорота от момента
оплодотворения до смерти, то от веры, выраженной в словах: "Кто жил, в
ничто не обратится! Повсюду вечность шевелится", тут мало что сохранилось.
Здесь мы лишь
вкратце упомянем о попытках Гёте при случае также и в исторических циклах
усматривать действие сил, соответствующих замеченной им в природе полярности.
Например, применительно к истории науки поэт полагал, что "все и впрямь
развивается из прогрессирующих и регрессирующих свойств человеческого духа, из
устремленной вперед, но затем снова отбрасывающей себя назад человеческой
природы". На основе этого вывода можно было бы даже написать
"априорную историю", указывал Гёте (в письме Шиллеру от 24 января
Скептицизм поэта,
вызванный непредсказуемостью истории, разумеется, не мешал Гёте задумываться
над
544
общественно-политической
обстановкой своего времени и осваивать в своем художественном творчестве кардинальные
проблемы действительности, дабы по возможности рекомендовать публике
спасительные решения. Именно в сфере творчества этот бюргер, достигший высокого
положения, поэт, ставший министром и дворянином, испытывал модели жизни и
деятельности, в надежде, что, быть может, удастся сплотить дворян с бюргерством
и открыть перед всеми радужные перспективы на будущее.
Отрешенный наблюдатель веяний времени
В своих письмах Гёте
часто уверял, будто он живет сам по себе, "в абсолютном одиночестве",
усердно диктует, так что все его существование словно бы осталось на
бумаге" (из письма Цельтеру от 5 февраля
"И мне тоже на
моем долгом жизненном пути встречались события, которые из великолепных усло-
545
вий переносили меня
в другие, чреватые для меня чередой бед. Да, иной раз случаются такие жестокие
моменты, когда быстротечность жизни ты готов почесть наивысшим благом, чтобы не
слишком долго терпеть невыносимую муку.
Очень многие
страждущие прежде меня покинули сей мир, мне же тем был положен долг выстоять и
вынести череду радостей и горестей, из коих ударов даже один-единственный
вполне мог бы оказаться смертельным.
В таких случаях мне
не оставалось ничего другого, как самым настойчивым образом пробуждать к жизни
все, что только оставалось от моей деятельности, и, подобно тому, кто вел бы
заведомо проигранную войну, всеми силами продолжать борьбу, независимо от
проигрыша или выигрыша" (из письма К. Д. Рауху от 21 октября
"Рассматривая
самих себя в любой жизненной ситуации, мы увидим, что от первого вздоха до
последнего ограничены внешними условиями, но при том каждому из нас оставлена
высшая свобода внутренне вознестись так высоко, чтобы пребывать в гармонии с
нравственным миропорядком и, какие бы ни выявились препятствия, отныне жить в
ладу с самим собой.
Все это скоро
сказывается и пишется, но решению этой задачи мы должны посвятить все наши дни.
Каждое утро призывает нас: делать необходимое, а ожидать возможного!" (из
письма К. Ф. М. фон Брюлю от 23 октября
Поэт не случайно
ощущал себя одиноким маяком в волнах своей эпохи — тому было множество причин.
Ни "Оры" Шиллера, ни его собственные "Пропилеи" в свое
время не пользовались успехом. А ведь оба поэта когда-то связывали с изданием
этих журналов большие надежды: с их помощью они рассчитывали очистить вкусы
публики в сфере культуры, поднять ее уровень, осуществить воспитание публики
искусством, создаваемым на основе критериев, казавшихся вечными. Однако интерес
к обоим журналам проявился лишь в немногих узких кружках. Развитие искусства
пошло иными путями, в отрыве от античных образцов: публика считала, что они
мало отвечают духу времени. Глубокий след в душе поэта оставили также и
разочарования в связи со скудным резонансом, какой имели его естественнонаучные
занятия. Не утешало даже то, что сам Гёте ощущал себя победителем,
546
одержавшим верх над
Ньютоном и его сторонниками. Усвоив отрезвляющий опыт прошлых лет, он уже не
возлагал никаких особых ожиданий на публику, да и вела себя эта публика по
большей части как неразумная толпа: такую легко одурманить и удовлетворить
поверхностными интересами.
Произведения
литературы и искусства, с которыми знакомился Гёте в последние годы жизни,
навевали на него меланхолию. Со времени своего пребывания в Италии он считал,
что всякое произведение должно соответствовать определенным принципам. В
понятии "стиля", как он определил его в статье "Простое
подражание природе, манера, стиль" было сосредоточено самое главное: стиль
должен покоиться на "глубочайших столпах познания", на "сущности
явлений, насколько нам дано ее узнать в видимых и осязаемых образах". Тем
самым реалист Гёте упорно настаивал на непременной связи искусства с формами
реальности жизненного мира человека, которую нельзя ни фантастически
перестраивать, ни искажать. Какой бы конечный продукт ни создавался в
трансформирующем творческом процессе воображения, искусство не должно
отрываться от "сущности явлений", а, наоборот, проникать в нее как
можно глубже, дабы сделать ее наглядной. Для этого, по убеждению Гёте, требовалось
интенсивное воспитание на образцах, в которых воплощается "стиль".
Следовало неизменно учиться у античных мастеров тому, как творить в согласии с
основополагающим принципом, чтобы избежать появления "уродливых" и
размытых образов. Так, однажды Гёте неодобрительно отозвался о ряде явлений в
индийском национальном эпосе "Рамаяна". "Мы прочие, чей
наставник Гомер, мы, которые телом и душой преданы греческому пластическому
искусству как воплощению божественного, больше всего доступного человеку; мы со
своего рода опаской вступаем в безграничные просторы, где навязываются нам
уродства и где ускользают от нас размытые, смутные образы" (из письма К.
Й. X. Виндишману от 20
апреля
Аналогичные
возражения выдвигал Гёте и против романтических тенденций в искусстве.
Разумеется, он не отвергал всего скопом, умея оценить по достоинству отдельные
достижения, но при том неуклонно и резко осуждал определенные черты романтизма.
Поскольку, на взгляд Гёте, идея скрывалась в явленной реальности, он угадывал в
искусстве романтиков
547
трансцендентальные
элементы, теряющиеся в оторванных от реальности областях и порождениях
фантазии. Поэт сожалел о том, что "высшее, идеальное отношение к
предмету" все больше отдаляется от действительности вследствие склонности
"все переносить в область трансцендентального и мистического, где уже
нельзя отличить пустое от содержательного". Неудивительно поэтому, что
"всякий первичный образ, дарованный господом человеческой душе, стал
невольно расплываться в тумане и грезах" (из письма К. Г. Шлоссеру от 23
ноября
Общая болезнь нашего
времени — субъективизм, указывал Гёте в беседе с Эккерманом. Истинный поэт
должен прорваться к объективному, только тогда он будет спасен как поэт.
"Покуда он выражает лишь свои скудные субъективные ощущения, он еще не
поэт; поэтом он станет, когда подчинит себе весь мир и сумеет его
выразить". Именно этого умели добиться мастера античности. "Теперь
постоянно говорят о необходимости изучения древних, но что это, собственно,
значит, кроме одного: равняйся на подлинную жизнь и стремись выразить ее, ведь
именно так поступали в древности" (из беседы с Эккерманом от 29 января
Отвращение поэта к
веяниям времени в искусстве усугублялось к тому же его неприятием ханжества и
восторженного патриотизма, которые неизменно сужают кругозор человека: многие
адепты "немецкого духа" даже выдвигали странные требования очищения
немецкого языка от чужеземных элементов.
Германия жаждет отдельно цвести,
Для этого надо кордон завести,
Чтоб не вползали к нам снова и снова
Тело и хвост чужеземного слова.
("Очистители языка")
Гёте по-прежнему
оставался верен своему кредо, высказанному в очерке о Винкельмане, как и в
полемике вокруг "новогерманского религиозно-патриотического
искусства". Еще в 1831 году Гёте вновь подчеркивал, что неокатолические
сентиментальные блуждания исходили от отдельных лиц и распространились,
"как духовная зараза". "Началось это с нескольких человек, а
действует уже лет сорок", — говорил Гёте Эккерману 22 марта 1831 года. И
далее: "Тогдашнее учение гласило: художнику всего необходимее благо-
548
честие и гений,
чтобы создать наилучшее. Весьма заманчивое учение, вот за него и схватились
обеими руками. Для того, чтобы быть благочестивым, учиться не надо, а гений
получают от родимой матери" (Эккерман, 427). "Эпохальное
помешательство безумных сыновей", — отмечал Гёте в письме к Ф. Рохлицу от
1 июня 1817 года, посмеиваясь над притязаниями молодых талантов на
оригинальность. Вместе с тем он наблюдал распространение субъективизма,
утратившего и чувство меры, и направление. Уж очень неприятен был ему
"произвольный субъект", такой, который "противится и объекту, и
закону, воображая, что таким путем можно чем-то стать и чего-то добиться"
(из письма А. Ф. К. Штрекфусу от 14 августа
Не только в Германии
наблюдал Гёте эти тенденции. Даже "Собор Парижской богоматери"
Виктора Гюго он квалифицировал как "литературу отчаяния":
"Уродливое, отвратительное, жестокое, ничтожное, со всем присущим им
набором порочного, преувеличенного до невероятности, — вот ее сатанинское
дело" (из письма Цельтеру от 18 июня 1831 года). "Лазаретная
поэзия" — так называл Гёте произведения поэтов, пишущих так, "словно
они больны, а весь мир — лазарет" (из беседы с Эккерманом от 24 сентября
549
ня
Да и во всей
культурной жизни немцев поэту виделся порок, обрекающий индивидуума на
изоляцию. В то время как француза великолепно стимулирует "стремление к
общению", немцу на что-либо подобное рассчитывать не приходится (из письма
Э. Й. де Альтону от 6 сентября
Безрадостная картина
открывалась поэту, оглядывавшему мир с высоты своих преклонных лет. Повсюду
кипела оживленная деятельность, жажда нового, поражающего воображение; каждый
стремился перещеголять другого, угостив публику какой-либо сенсацией, быстро
сменялись моды, но мало что в ту пору зиждилось на прочном фундаменте.
Складывающееся массовое общество начала XIX века уже показывало свои теневые стороны. Правда, новые средства
сообщения и связи позволяли быстрый обмен товарами и мыслями. Разумеется, Гёте,
мечтавший о литературном обмене в мировом масштабе, приветствовал это явление.
Оно же, однако, способствовало распространению рыхлых, незрелых произведений,
написанных на злобу дня и на потребу публике, принадлежащих к разряду
скоропортящейся продукции. От прежней своей зависимости от двора и церкви
буржуазное искусство и литература в значительной степени освободились, но
отныне художники должны были уметь утвердиться на обширном рынке искусства. Им
надлежало удовлетворять самые различные ожидания, отнюдь не выверенные по
прочным, обязательным критериям. В этих условиях Гёте по-прежнему держался
известных основополагающих принципов и не снимал своих притязаний на
"высшее" искусство; теперь ему казалось, что сам он, как
550
и горстка близких
ему по духу людей — представители эпохи, "которая не так скоро
повторится" (из письма Цельтеру от 6 июня
В том же письме к
Цельтеру Гёте подвел итог: "Все... ударяется в крайности, все неудержимо
трансцендентирует как в мыслях, так и в действиях". И дальше: "Никто
больше не знает самого себя, никто не понимает стихии, в которой он вращается и
действует, материала, над которым работает. О чистой простоте не может быть и
речи, простецких же вещей существует достаточно.
Молодые люди
возбуждаются слишком рано, а затем их подхватывает вихрем времени. Богатство и
быстрота — вот что изумляет мир и к чему стремится каждый. Железные дороги,
ускоренные почты, пароходы и всевозможнейшие средства сообщения — вот чего ищут
образованные люди, стремясь к чрезмерной просвещенности и в силу этого
застревая в посредственности. А результатом всеобщности и является то, что
посредственная культура становится всеобщей...
Собственно, это век
живых умов, век легко схватывающих практических людей, которые, будучи оснащены
известной ловкостью, чувствуют свое превосходство над массой, хотя сами и не
способны к высшему. Давай же по мере возможности придерживаться убеждений, в
которых мы выросли. Мы и, быть может, еще немногие будем последними людьми
эпохи, которая не так скоро повторится" (XIII, 488—489).
Гёте неоднократно
заверял своих корреспондентов, что в это смутное время — таким, во всяком
случае, оно ему представлялось — он не намерен больше выступать публично, ему
не нравится спорить (из письма к Цельтеру от 24 июля
551
изумляют своей
необычностью, все же больше минутного внимания мы им уделить не способны".
Поэт к тому же с сожалением добавлял: особенно прискорбно, что подобный
"странный род композиции" увлекает очень многих одаренных
современников таких писателей. Зато в короткой благожелательной рецензии на
стихи Фридриха Рюккерта ("Восточные розы") Гёте упомянул с
одобрением, но, в общем, походя, также и газели графа Платена: это, мол,
"хорошо прочувствованные стихи". Но при всем при том Гёте лишь
однажды написал Платену несколько строчек в ответ на присылку рукописи драмы
(27 марта
Сегодня нас
удивляет, почему поэт временами хвалил произведения, в которых не видно было
подражания античным образцам, к тому же произведения эти никак нельзя
причислить к "высокой литературе". Сейчас нам даже неизвестны имена
многих из этих авторов: "немецкого певца природы" — поэта Антона
Фюрнштайна; нюрнбергского поэта Грюбеля, пишущего на диалекте; Арнольда, автора
комедии "Троицын понедельник". Гёте уважал произведения этих авторов:
подобно "Чудесному рогу мальчика", они радовали его "живым
поэтическим восприятием ограниченного состояния" (10, 302). Казалось бы,
Гёте вступает этим в противоречие с собственным требованием подражать творениям
мастеров античности и притязанием на "высшее" искусство — противоречие
это, однако, мнимое. Потому что, неутомимо указывая на искусство древних
(оставим в стороне эпизод с конкурсом художников изобразительных искусств),
Гёте призывал не ко внешнему подражанию, а хотел лишь напомнить о
художественной мощи античных мастеров, направленной на раскрытие действительно-
552
сти, на
устремленность к "объективному". Эту художественную мощь он находил,
хотя бы частично, у "природных поэтов ", а также в народной поэзии
многих времен и народов. Здесь поэт видел силы, противоборствующие чрезмерной
субъективности, "лихорадочным мечтаниям" и уходу от реальности за
пределы возможного опыта. Тех же эпитетов, которыми поэт уснащал свои отзывы об
искусстве древних, он удостаивал и эту полюбившуюся ему литературу:
"сильная, свежая, радостная и здоровая" (Эккерман, запись от 2 апреля
Уже на склоне лет
Гёте сформулировал ряд советов молодым писателям. Немецкий язык достиг такой
высокой ступени развития, писал он, отчасти при его помощи, что любой способный
человек может адекватно выражать свои мысли и должным образом воплотить свой
предмет. Однако поэт предостерегал против солипсистского утопания в
субъективистском, против скатывания к состоянию "мизантропического
отшельника". С настороженностью относился он к стремлению бездумно и
самодовольно целиком посвятить себя поэзии; поэзия обретает смысл лишь тогда,
полагал он, когда в основе ее — полноценная человеческая жизнь, когда поэт
художественно перерабатывает пережитое, все, что так или иначе творчески его стимулирует.
Когда же Гёте учил, что "муза сопутствовать тебе способна, но не способна
тебя вести", — это означало, что он рассматривал поэтическую способность
человека как одну из многих его способностей, однако решительно возражал против
абсолютизации эстетики. Таково суждение опытного поэта, который за всю свою
долгую жизнь никогда полностью не отдавался одной лишь поэзии.
Мечта о мировой литературе
31 января 1827 года
Гёте сказал Эккерману: "Национальная литература сейчас мало что значит, на
очереди эпоха всемирной литературы, и каждый должен содействовать скорейшему ее
наступлению".
Высказывание это
было сделано в контексте беседы, прояснившей принципиальную точку зрения поэта
в этом вопросе. "Поэзия — достояние человечества", — говорил Гёте, —
всюду и во все времена она проявляется в тысячах и тысячах людей. И не нужно
впадать в спесь и мнить себя чем-то особенным, а лучше — вгля-
553
деться в то, что
имеется у других наций. Правда, и там нет нужды застревать на чем-то одном и
почитать его за образец: "Негоже думать, что образец — китайская
литература, или сербская, или Кальдерон, или "Нибелунги". Испытывая
потребность в образцах, мы поневоле возвращаемся к древним грекам, ибо в их
творениях воссоздан прекрасный человек" (Эккерман, 219).
Даже в преклонные
годы Гёте не отказывался от своего критерия художественности. В 1827 году,
когда он выдвинул понятие "всемирной литературы", которое затем
употреблял и в разговорах, и в письмах, и в статьях, он имел в виду при этом
отнюдь не само собой разумеющееся чтение иноземной литературы и ознакомление с
ней, как и не создание какого-либо собрания образцовых произведений всемирной
литературы. По всей вероятности, он мечтал о такой глобальной системе
литературного обмена, в рамках которой и писатели, и литературы всех народов
постоянно дарили бы другим свои лучшие творения и то же получали от других.
Никто отныне не должен был довольствоваться собственным национальным
искусством, что, однако, не означало ни нивелировки, ни утраты национальной
специфики.
Многообразный опыт
поэта и разного рода импульсы породили эту ни разу во всем объеме не
сформулированную гётевскую концепцию. Пытливый, даровитый ученик Гердера, Гёте
с юных лет изучал литературы других народов. Словом, всемирная литература
отнюдь не была для него закрытой книгой. От его творческой встречи с Хафизом на
пороге старости произошел яркий, щедрый поэтический взлет — возник синтез
разных поэтических и исторических эпох. Понятно, что он никак не мог стать
адептом такого образования, которое ограничивалось бы рамками немецкой
культуры. Это сделалось очевидным еще в 1808 году, когда Фридрих Нитхаммер, в
прошлом профессор богословия и философии Йенского университета, а впоследствии
один из руководителей баварского школьного ведомства, по поручению своего
правительства обратился к поэту с предложением составить хрестоматию —
"поистине общенациональную книгу, которая заложит основу всеобщего
образования нации" (из письма к Гёте от 22 июня
554
план поэтической
народной книги, предложив при этом, однако, характерные поправки: наряду с
"чисто собственной" литературой в книге следовало представить и
литературу, "воспринятую у других". "Мало того, нужно особо
подчеркнуть заслуги иноземных наций — ведь книга предназначается для детей,
которым сейчас особенно необходимо указать на заслуги других народов", —
писал Гёте. В одном из планов хрестоматии в рубрике "Иноземное
по-немецки" он указал: "Все самое значительное переведено или
подлежит переводу... Произведения всех времен и всех стран, какие были самыми
важными для самых разных людей всех времен". Короче, готовилась (но так и
не была издана) народная книга по всемирной литературе для немцев.
Выше уже говорилось,
как Гёте ценил многообразие индивидуальностей у немцев, сожалея лишь, что им
недостает умения сотрудничать, да и просто общаться друг с другом. Примерно
таким же образом представлял он себе взаимоотношения национальных литератур
внутри всемирной литературы. В малоприметном месте, в заключительной фразе
рецензии на комедию "Троицын понедельник" (1820—1821), сформулирована
мысль, впоследствии легшая в основу гётевской концепции всемирной литературы:
"Давайте же оставим разъединенным то, что разъединила природа, но
объединим — и высоким духом и любовью — все то, что существует на земле в
большом отдалении одно от другого, но так, чтобы не ослабить при этом
индивидуального характера".
Признавать и по
достоинству ценить особенное и своеобразное, но при этом не замыкаться в его
рамках и им не ограничиваться, добиваясь плодотворного сотрудничества в широком
масштабе, — эти принципы Гёте отстаивал применительно к национальной литературе
и к обширному комплексу всемирной литературы. Немцам же он настоятельно желал
отрешиться от своей порой закоснелой узости и самолюбования. Как часто, о чем
свидетельствует книга Эккермана, старый поэт посмеивался над поведением своих
молодых соотечественников! Но он же решительно подчеркивал, что немцы с давних
пор способствовали взаимному обмену между народами всем "истинно
достойным" и ознакомлению с ним всего человечества ("Немецкие романтические
истории").
Размышления Гёте над
очерченным выше комплексом вопросов, должно быть, в большей мере стимули-
555
ровались тем
обстоятельством, что в ту пору он сам уже был признан представительной фигурой
во всемирно-литературном масштабе. Его книги переводились на другие языки, сам
же он, читая и рецензируя произведения мировой литературы, участвовал в
духовном обмене между народами, и его суждениям придавалось большое значение,
даже в тех случаях, когда он ограничивался лаконичными высказываниями. Но
все-таки, со своими идеями, планами и надеждами, он порой ощущал себя одиноким
маяком в волнах жизни. Стало быть, в раздумьях поэта о всемирной литературе
отразилось также одолевавшее его чувство одиночества: сам он и немногие его
друзья и единомышленники — последние люди уходящей эпохи, писал он Цельтеру.
Идею всемирного литературного обмена стимулировало также развитие техники,
вследствие которого уже возникли и постоянно намечались новые транспортные
коммуникации. Об этом свидетельствует уже тот факт, что, окончательно
утвердившись в своем представлении о всемирной литературе, поэт с нескрываемым
энтузиазмом отзывался о планах строительства каналов — Панамского, Суэцкого и
Рейнско-Дунайского: "Вот до каких трех событий мне хочется дожить, и,
право же, из-за этого стоило бы помаяться еще лет эдак пятьдесят!"
(Эккерман, 507, запись от 21 февраля
Старый Гёте рад был
способствовать международным связям, расцвету мировой культуры, преодолению
провинциального субъективизма: "Из того только и сможет наконец возникнуть
всеобщая мировая литература, что нации узнают особенности и условия всех других
народов, а стало быть, смогут их сопоставить, и каждый народ неминуемо найдет у
других и приемлемое, и отталкивающее, и достойное подражания, и неприемлемое
для себя" (из проекта рецензии на "Жизнь Шиллера" Томаса
Карлейля).
В те же годы,
трудясь над окончательной редакцией "Годов странствий Вильгельма
Мейстера", Гёте употреблял также понятие "всемирного
благочестия", но не в смысле какой-либо охватывающей весь мир религии, а
для обозначения деятельности, распространяющейся на весь мир, не замыкающейся в
рамках отечественного. "Мы должны выработать для себя понятие всемирного
благочестия, распространить на всю практическую сферу наши истинно человеческие
воззрения и не только содействовать нашим ближним, но и объять все
человечество" — такие слова вложил поэт
556
в уста своего
аббата, переписывавшегося с Вильгельмом Мейстером (8, 213).
Даже в самые
преклонные годы Гёте внимательно читал европейские журналы, ставшие посредниками
мировой литературы, например итальянский "Эко", французские "Ля
ревю Франсез", "Тан" и "Глоб". 9 ноября 1829 года поэт
писал Цельтеру: «"Глоб", "Ревю Франсез" и вот уже три
недели как еще и "Тан" вводят меня в духовный круг, который я тщетно
стал бы искать в Германии». Несравненно больше немецких писателей Гёте
интересовали европейские авторы: в обширном контексте мировой литературы
мельчали иные конфликты, в рамках национальной литературы представлявшиеся
столь важными. В письме к Буассере 12 октября 1827 года поэт подчеркивал, что
всемирная литература возникает при том главном условии, "если распри,
проявляющиеся внутри одной какой-либо нации, уравновешиваются благодаря оценке
и суждению других наций". Еще в 1820 году, следя за спорами "классиков"
с "романтиками" в Италии, Гёте выказывал тонкое понимание доводов
обеих сторон, возражая против легкомысленно-упрощающего подхода, сводящегося к
наклеиванию всевозможных ярлыков. Необходимо учесть, говорил он, что упрямое,
косное цепляние за старое провоцирует охоту к новизне, столь высоко ценимой
современниками. Раздоры между "классиками" и "романтиками"
покажутся несущественными, если обратиться непосредственно к самим
произведениям писателей и проверить их художественное качество ("Ожесточенная
борьба классиков и романтиков в Италии"). Похвалы поэта удостоился
Алессандро Мандзони, стяжавший славу "практического романтика": его
"Священные гимны" впечатляют своим "наивным содержанием" и
"известной дерзостью духа", писал поэт. А беседуя 17 октября 1828
года с Эккерманом, Гёте воскликнул: "К чему весь этот шум по поводу
классического и романтического! Важно, чтобы произведение все в целом было
интересно и хорошо, тогда оно и будет классическим" (Эккерман, 577).
Только нацеленность поэта на расцвет всемирной литературы могла породить
подобное высказывание, ведь Гёте не снимал своих возражений против
романтических тенденций в немецкой культуре, которые в свое время осудил как
искусство ханжествующее, предающееся бессодержательным фантазиям. Одно из
произведений того же Мандзони, которого в Италии считали безусловным
представителем
557
"антиклассицизма",
Гёте наградил почетным эпитетом "классического", а в 1827 году своими
рецензиями, задуманными как введение к собранию сочинений этого итальянского
писателя, способствовал утверждению его всемирной славы. (Об известном романе
этого автора — "Обрученные" — Гёте не высказывался публично, но
признался в письме от 11 ноября 1827 года Буассере, что роман этот поистине
представляется ему "эпохальным".) Никакому другому европейскому
романтику Гёте не жаловал звание "классика". Но тут, обстоятельно
представляя читателю трагедию "Граф Карманьола" в рецензии 1820—1821
гг., Гёте с одобрением отмечал, что "ни слова лишнего, ни слова упущенного
в этой пьесе не нашел". И заключал: "Мужская серьезность и четкость
всегда идут у него рука об руку, и потому мы вполне можем назвать эту его
работу классической". Оценить достоинства итальянского автора поэту
отчасти было легко потому, что в итальянской литературе никогда не существовало
угрозы полного отрыва от духа классической древности, ведь даже католицизм
представал в своем литературном воплощении живой развитой традицией, а не
сентиментальной экзальтацией, как у новообращенных немецких писателей. Так,
"Священные гимны" Гёте оценил как произведение истинного
"христианина без лишней экзальтации, нечто римско-католическое без
ханжества". Характерно, что поэт, сосредоточив свое внимание на самой
пьесе Мандзони и не считаясь с суждениями и классификационными потугами
предшествующих критиков, как раз в своей рецензии на трагедию "Граф
Карманьола" сформулировал основные принципы литературной критики. Дважды
коснулся он этого вопроса, на котором сделал упор и сам Мандзони в предисловии
к своей пьесе. Эти гётевские принципы не утратили своего значения и поныне:
"Есть критика
разрушительная и есть критика продуктивная. Нет ничего легче критики первого
рода — достаточно мысленно принять любой критерий, любой образец, какими бы
ограниченными они ни были, и уже можно смело утверждать: данное произведение искусства
под эту мерку не подходит, стало быть, оно никуда не годится, и делу конец,
теперь можно уже безо всякого заявить, что оно не удовлетворяет необходимым
требованиям, освобождая себя от всякого благодарного чувства по отношению к
художнику.
Продуктивная же
критика дается несравненно труд-
558
нее. Она спрашивает:
какую цель ставил перед собой автор? Разумна и достойна ли эта цель? И
насколько удалось ее достигнуть? Если мы ответим на эти вопросы вдумчиво и
доброжелательно, мы тем самым поможем автору, который в своих первых работах
наверняка уже успел продвинуться вперед и подняться навстречу нашей
критике".
Именно средний
вопрос из трех приведенных выше переносит рецензируемое произведение на
испытательный полигон критической мысли, не довольствующейся сочувственным
рассмотрением или, быть может, даже слепым приятием предложенного текста,
диктуемым безмерным почитанием. Стремясь ответить на этот вопрос, критик
пытается установить, в каком — правда, всякий раз нуждающемся в выявлении —
смысловом контексте человеческого бытия и его социального качества задумано
данное произведение и насколько оно "разумно и достойно" в этой
связи.
Гёте был самым
поразительным образом заворожен поэзией и личностью английского романтика лорда
Байрона. Уже давно относился он скептически ко всякой эксцентричности и
экзальтированности и никак не мог разделять страсть к мировой скорби и
пессимизму (хотя ему и случалось переживать периоды отчаяния), да и
самоупоенное метание по всему свету в сочетании не только с поэтической, но и
политической активностью не могло не быть ему чуждо, и все же в Байроне он
усматривал и признавал воплощение демонического начала. Британец, во всех
отношениях совершенно независимый, абсолютно игнорирующий и мнения, и
морализаторские суждения своих соотечественников, был одержим стремлением к
самопостижению, неуемной жаждой познания, постоянно заставлявшей его
наталкиваться на пределы возможного. Состояния вдохновенной экзальтации
сменялись у него приступами отчаяния. Фауст в его устремленности к высшему, как
и в его падении, был ему близок; в душе его беспрестанно бродило презрение к
человеку, да и ко всему миру. Все препоны, поставленные человеку, хотел он
одолеть, а когда решил примкнуть к освободительной борьбе греков против турок,
мечтал тем самым слить воедино поэзию с деянием, сопряженным с риском для
жизни. Но уже 19 апреля 1824 года он умер в Миссолунги от менингита.
Гёте следил за
беспокойной жизнью этого денди — жаждущего подвигов поэта — с восхищенным
изумлением; рецензируя его творения, он находил в его "Ман-
559
фреде" (1817)
преображенный фаустовский мотив. "Этот своеобразный талантливый поэт
воспринял моего "Фауста" и в состоянии ипохондрии извлек из него
особенную пищу. Он использовал мотивы моей трагедии, отвечающие его целям,
своеобычно преобразив каждый из них; и именно поэтому я не могу достаточно
надивиться его таланту". Правда, он не мог отрицать, "что мы в конце
концов начинаем тяготиться мрачным пылом бесконечно глубокого разочарования.
Однако наша досада всюду сочетается с восхищением и уважением" (10, 329).
"Убив себя, я сам и покараю / себя за грех" 1, — изрекает Манфред в заключительной сцене.
Публикуя рецензии и время от времени небольшие переводы, Гёте неустанно играл
роль посредника в русле всемирной литературы. Байрон, почти на четыре
десятилетия его моложе, был невероятно польщен вниманием Гёте и со своей
стороны не раз выражал свое восхищение великим веймарцем в письмах и
посвящениях. Британского барда, отправившегося в Грецию, еще в Ливорно в июле
1823 года настигло гётевское стихотворение "Лорду Байрону",
содержащее такие строки:
Удастся ль мне шепнуть такое слово
Заветное тому, чей гордый гений
С собою ратоборствует сурово,
Нести привыкший скорбный груз сомнений?
(Перевод А. Голембы — 1, 436)
Уже на другой год
после смерти поэта Гёте сопроводил книгу воспоминаний Томаса Медвина о Байроне
статьей "Памяти Байрона". В ней он утверждал, что, в сущности, Байрон
— явление непостижимое, "ибо что прикажете сказать о смертном, достоинства
которого невозможно исчерпать ни словами, ни рассуждениями?" (10, 361).
Но, если говорить всерьез, истинную панихиду по Байрону Гёте инсценировал во
2-й части "Фауста", создав образ Эвфориона и написав плач о его
кончине.
Гёте был заворожен
тем демоническим, сверхъестественным началом, которое виделось ему в Байроне.
Казалось бы, ничего общего нет у байроновской поэзии самоутверждения и вызова,
пресыщенности и отрицания с максимами и рефлексиями позднего Гёте. И все же
Гёте был захвачен творчеством английского бар-
1 Перевод И. Бунина.
560
да. В его поэзии он
узнавал — опять же "с мрачным пылом" — дух собственной своей
молодости. Должно быть, он тогда уже понимал, что в европейских литературах XIX века прежде всего отложатся следы его "Гёца", его
"Вертера" и первой части "Фауста". Да он и не думал
отрекаться от своих творений: восхищаясь Байроном, он вновь подтверждал все
некогда им созданное и другим оставленное в наследство. Его ободряющее участие
в мировом литературном процессе было к тому же со стороны Гёте еще и попыткой
деятельно включиться во всемирное литературное содружество. Разумеется, при
серьезном отношении к своей посреднической роли личные эстетические критерии
уже не могли возводиться в ранг непререкаемой нормы. Гёте отнюдь не закрывал
глаза на проблематичность — с его собственной точки зрения — некоторых сторон
личности и творчества Байрона и сожалел, что "его революционный дух и ум,
постоянно возбужденный, не позволили ему должным образом развить свой
талант" (Эккерман, запись от 24 февраля
Совсем по-иному
складывались взаимоотношения Гёте с Томасом Карлейлем — приведем здесь еще и
этот пример. В юности, захваченный волной "байронизма", Карлейль
пережил полосу отчаяния, приведшего его на грань самоубийства. Наконец,
гётевский "Вильгельм Мейстер" стал поворотным пунктом в его жизни: в
этой книге он нашел рекомендации, как справляться с жизненными проблемами. А
собственный путь автора книги, от "Вертера" до "Годов странствий
Вильгельма Мейстера", сделался для него образцом жизненного
самоосуществления, способного вывести человека из лабиринта сомнений и
внутренней душевной смуты. Так Карлейль стал ревностным адептом и
популяризатором нового творческого облика Гёте в Англии, где до сих пор
преимущественно были известны лишь творения его ранних лет. Таким образом, одно
одностороннее представление сменило другое: на Гёте отныне смотрели лишь как на
прочно стоящего в жизни человека, своими максимами дающего действенные от-
561
веты на проблемы
частной и общественной жизни. Английский перевод "Годов учения Вильгельма
Мейстера", который Карлейль прислал в Веймар в 1824 году, поначалу не
удостоился внимания Гёте, в ответ ограничившегося ничего не значащим
благодарственным письмом (от 30 октября
Полвека в Веймаре
Еще весной 1824 года
Гёте тешил себя мыслью, а не поехать ли снова — летом или осенью — на отдых в
Богемию; в душе его еще не совсем погасла надежда вновь увидеть Ульрику фон
Леветцов и все семейство: "Тем временем сообщите мне, дорогой друг, с
большей, если возможно, определенностью Ваши предположения, намерения, планы на
ближайшее время; это при всей неизвестности все же указало бы мне точку, по
которой я мог бы ориентироваться", — писал
562
поэт Амалии фон
Леветцов 13 апреля 1824 года (XIII, 478). Но все же Гёте остался в Веймаре, и мариенбадские дни
окончательно отошли в прошлое.
На другой год, 3
сентября 1825 года, исполнилось полвека правления великого герцога Карла
Августа. Герцог отказался от широких празднеств по этому случаю, но,
разумеется, без поздравлений не обошлось, тем более что пятидесятилетие
герцогского правления отмечалось в день рождения правителя. Карл Август ночевал
накануне своего юбилея в "римском доме", где любил проводить летние
месяцы. И совсем рано — еще не было семи утра — там появился Гёте в
сопровождении канцлера фон Мюллера и первым поздравил своего герцога: "с
чувством, в немом волнение" (из бесед канцлера фон Мюллера).
Вскоре Карл Август
сам воздал своему другу и министру особые почести. 7 ноября 1775 года Гёте
впервые приехал в Веймар, сначала, правда, в качестве гостя и только 11 июня
1776 года стал членом веймарского Тайного совета. Но теперь герцог объявил, что
отсчет полувековой деятельности Гёте в Веймаре он намерен вести со дня прибытия
поэта в его герцогство. Празднества готовились втайне от юбиляра, который узнал
обо всем лишь в последний момент. Но самый удивительный и неожиданный сюрприз
подготавливался в Берлине, сообщает тот же канцлер фон Мюллер, принимавший
деятельное участие в праздновании гётевского юбилея: там чеканят медаль с
портретом на одной стороне герцогской четы и портретом Гёте — на другой, а
также с надписью: "Карл Август и Луиза — Гёте". "Наверно, ни
один властитель не поздравлял таким вот образом своего слугу", — писал
канцлер фон Мюллер. А в своем официальном поздравительном адресе Карл Август
заявлял, что с полным на то основанием рассматривает день прибытия Гёте в
Веймар как дату его истинного вступления в должность на герцогской службе,
"поскольку с того дня Вы не переставая приносили мне самые приятные
доказательства Вашей вернейшей привязанности и дружбы и посвящали нам Ваши редкие
дарования. Пятидесятилетнюю годовщину этого дня я потому с величайшим
удовлетворением рассматриваю как счастливый полувековой служебный юбилей моего
первейшего государственного служителя, друга моей юности, того, кто с
неизменной верностью, расположением и постоянством до сей поры споспешествовал
мне во всех перипетиях жизни. Мудрым советам оного, его живому участию и неиз-
563
менному служебному
рвению обязан я счастливым успехом важнейших моих предприятий, и то, что
навсегда обрел я в его лице, видится мне одним из наилучших украшений моего
правления" (7 ноября 1825 года).
Но вот подробный
отчет о празднествах Карла Фридриха Пойсера, который начиная с 1815 года был
директором Веймарской верховной консистории: "Вчера Веймар праздновал
памятный день 7 ноября: в этот день в 1775 году Гёте впервые вступил в наши
городские ворота. Рано утром юбиляра разбудило негромкое хоровое пение. В 9
часов утра все поющие дамы и друзья гётевского дома, числом около сорока
человек, собрались в большой гостиной и встретили вошедшего поэта утренней
кантатой: слова Римера, музыка Карла Эбервайна. А в соседних комнатах его
появления уже дожидались все министры и высокопоставленные государственные
чиновники, а также и Йенские профессора, и гости из других городов. Министр фон
Фрич вручил поэту послание великого герцога и медаль, отчеканенную в честь
этого дня 7 ноября... Председатель городского совета вручил ему также диплом
почетного гражданства для внуков: Вальтера и Вольфганга фон Гёте. Еще
поздравляли юбиляра масонская ложа, разные земельные коллегии, библиотека,
академия... В одной из комнат была устроена выставка разного рода рукоделий и
поделок местных дам — в честь этого дня каждая из них собственноручно
изготовила для Гёте подарок. В 10 часов прибыл в полном составе двор семейства
великого князя и великого герцога. В 11 часов началась торжественная церемония
в библиотеке, куда было приглашено множество господ и дам. Здесь снова юбиляра
встретило пение на музыку Гуммеля. Речь держал канцлер фон Мюллер, а ответную
речь произнес Ример.
В два часа дня в
большом зале городской ратуши был устроен обед на двести персон: читали стихи,
пели, произносили тосты... Вечером в театре давали гётевскую
"Ифигению", которую публика встретила бурей оваций. После финала еще
долго аплодировали. Играли великолепно, весь спектакль был достоин лучших
времен нашего театра. Гёте вплоть до третьего акта не покидал ложи. С самого
начала представления ему аплодировали и кричали "браво". Вечером
после спектакля слушали музыку в доме Гёте, капелла исполняла произведения
Гуммеля. Насколько известно, всех господ Гёте после концерта оставил у себя
564
ужинать. Эккерман
преподнес юбиляру стихи. Так завершился этот день" (из письма К. А.
Бёттигеру от 8 ноября
Йенский университет
отметил юбилей своего покровителя тем, что избрал его почетным доктором
медицинского факультета. Три остальных факультета — богословский, юридический и
философский — вручили поэту почетные дипломы. К тому же в знак признания
помощи, оказанной поэту в его трудах, его верным помощникам Римеру и Эккерману
были вручены дипломы почетных докторов философских наук. "Я мало-помалу
прихожу в себя после седьмого ноября", — писал Гёте Цельтеру 26 ноября
1825 года.
Необыкновенное происшествие
В конце сентября
1826 года, созерцая череп своего дорогого друга Шиллера, Гёте написал терцины,
посвященные останкам поэта: в памяти его вновь ожило былое. Спустя несколько
дней Гёте записал в своем дневнике: "Просматривал бумаги" (2 октября
В январе 1827 года
этот охотничий рассказ был уже готов, но Гёте все никак не мог выбрать для него
заголовок. "Знаете, что, — сказал он 25 января 1827 года Эккерману, — мы
назовем его просто "Новелла"; ведь новелла — это и есть
необыкновенное происшествие". В марте 1828 года поэт уже окончательно
остановился на этом заголовке, решив ничего к нему не добавлять. Тем самым Гёте
подчеркивал, в какой большой мере его точно выверенная проза характерна для
жанра новеллы, как известно не поддающегося однозначному определению.
565
Сюжетная линия, чего
поначалу никак нельзя предположить, приводит к поистине "чудесной
охоте", отвергающей насилие как таковое: ребенок усмиряет вырвавшегося на
свободу льва игрой на флейте и пением, тем самым отведя от людей всяческую
опасность. Фабула новеллы такова: князь отправляется на охоту, тогда как
княгиня и ее дядя в сопровождении юнкера Гонорио предпринимают конную прогулку
к развалинам старого замка, лежащим меж диких скал. Вдруг они заметили, что в
городе, через который только что проезжали и где видели ярмарочные палатки и
балаганы с дикими зверями, разразился пожар. Сильная тревога охватила их:
сколько раз дядя рассказывал княгине про страшный пожар на ярмарке! Молодой
женщине уже рисовались жуткие картины. Дядя поспешно возвращается в город.
Княгиня же и Гонорио, преодолев незначительную часть пути, вдруг замечают в
кустах тигра, выпущенного из клетки во время пожара. Кажется, тигр угрожает
жизни княгини. Гонорио не колеблясь двумя выстрелами убивает зверя. Скоро
появляются хозяева балагана, где на ярмарке показывали диких зверей, — они
кажутся посланцами из далекого восточного мира. Женщина со стенаниями
оплакивает напрасную смерть тигра, который, оказывается, был ручным. Но еще
больше осложняется положение, когда становится известно, что и лев также
вырвался на свободу. Говорят, он разлегся посреди двора при старом замке.
Хозяин зверей просит, умоляет, чтобы не устраивали охоты за львом, а вместо
этого разрешили мальчику, играющему на флейте и поющему, приблизиться к царю
зверей. И свершается чудо: лев покорно следует за ребенком, они садятся рядом и
зверь кладет на колени мальчику правую лапу, чтобы тот мог удалить застрявшую в
ней колючку.
Действие
разыгрывается на фоне привычной природы. В скалистых горах, в разрушенном замке
былое ощущается столь же живо, как современность — в городской толчее, в
тщательно ухоженном пейзаже, в возделанных пашнях. Дядя подробно рассказывает
княгине про старый замок, к которому ныне вновь проложили тропу. Там, среди
камней, проросли растения и деревья, проявившие буйную жизненную силу. Природа
вплелась в творение рук человека, и ныне открылось "единственное, случайно
уцелевшее место, где еще виден след суровой борьбы между давно почившими людьми
и вечно живой, неустанно творящей природой" (6, 439).
566
Деловая жизнь в
городе, как и любовно возделанная земля, — суть плоды той "суровой
борьбы" с природой, которую приходится выдерживать человеку. Здесь, на
обширном пространстве действия "Новеллы", от равнинной местности до
гор, в деятельной работе горожан, как и в стараниях тех, кто возделывает землю,
видится успешное укрощение природных сил, благостное равновесие между двумя
противоборствующими началами. Такую широкую картину всеобщего умиротворения
рисует нам уже само начало новеллы. Достигнуто также и социальное равновесие:
"Отец князя еще дожил до счастливой уверенности, что все его ближайшие сотрудники
проводят свои дни в усердной деятельности, в неустанных трудах и заботах и что
никто из них не станет предаваться веселью, прежде чем не исполнит своего
долга" (6, 437). Цели, к которым стремились люди, осуществившие
Французскую революцию, князь умело претворил в жизнь и таким образом
предусмотрительно и мудро отнял у революции всякую почву. Когда княгиня верхом
на коне скачет через весь город к замку, ее повсюду приветливо и почтительно
встречает народ. Перед нами упорядоченный мир, его можно спокойно созерцать и
обозревать, что видно хотя бы из рассказа дяди княгини, столь подробно
описавшего ей старый замок, как и из рассказа ее мужа, князя, о бойкой
городской торговле.
Но нельзя не
заметить и того, что человек властно вторгается здесь в царство природы.
Княжеская охота собирается "проникнуть высоко в горы и всполошить мирных
обитателей тамошних лесов нежданным воинственным набегом" (6, 438). А
руины старого дворца, на которые буйно наступает природа, дядюшка намерен
"с умом и вкусом" превратить в нечто вроде волшебного замка, а
картинами видов старого дворца украсить садовый павильон. Гонорио же хочет по
своему усмотрению распорядиться тигровой шкурой. Поистине человек приручил
природу, он властвует над ней, наслаждается ею и осуществляет необходимую
цивилизаторски-культивирующую работу.
Примечательно,
насколько впечатляюще рассказывает дядюшка и о действии разрушительных сил: на
всю жизнь запомнился ему эпизод "ужасного бедствия" — пожара на
ярмарочной площади. Всегда можно ждать взрыва элементов — то ли страсти в душе
отдельного человека, то ли натиска каких-то внешних сил. В душе Гонорио, даже в
душе княгини тлеет страсть, но они преодолевают ее, и при том не мучитель-
567
ным усилием воли, а
вследствие спокойного, почти неприметного сознания существующих и признаваемых
ими жизненных обстоятельств. Здесь словно бы разыгрывается некая интимная
мини-новелла.
Но как встретить
буйство элементов, когда оно случается нежданно и грозит ворваться в царство
упорядоченного, культивированного, цивилизованного? Легендообразный эпилог
новеллы дает на это символический ответ. Будто пришельцы из древнейших времен,
из края восходящего солнца, появляются люди — хозяева балагана, где показывают
диких зверей. На глазах у аристократического общества они оплакивают убитого
тигра и тревожатся о судьбе вырвавшегося на свободу льва. И речь, которую
заклинающе произносит мужчина, глава семьи балаганщиков, звучит как проповедь
об упорядоченности целого, которому человек этот и его семья сознают себя
причастными. Даже в естественно-первозданной природе и то царит насилие : вот
конь ударил копытом и разнес жилище, кропотливо сооруженное муравьями, говорит
мужчина. Но и то и другое происходит по воле божьей, и ничто не противится
льву, царящему над всем зверьем. "Только человек знает, как укротить льва;
самая грозная из всех тварей благоговейно склоняется пред образом и подобием
божьим, по которому сотворены и ангелы, что служат господу и его слугам. Ибо и
в львиной яме не устрашился Даниил: в твердости, в уповании пребывал он и
львиный рык не мешал его благочестивым напевам" (6, 452). Укрощение льва
осуществляется таинственным образом: мальчик и его отец показывают, как это
делается с помощью причудливой игры на флейте и колдовски многозначительных
рифмованных строк. Мальчик без малейшего насилия подчиняет себе царя зверей.
Ребенок все еще пребывает в состоянии невинно-бессознательной гармонии со всеми
элементами мира — только этим можно объяснить необычайное, этот сказочный
образец возможного счастья. И только языком, в котором слышатся отзвуки
христианских посулов, можно высказать невероятное. Все члены семьи пришельцев с
Востока возглашают хором:
Над землей творца десница
И его над морем взор;
Агнцем стали лев и львица,
И отхлынул волн напор.
568
Меч застыл, сверкая в битве,
Верь; надейся вновь и вновь:
Чудодейственно в молитве
Открывается любовь.
(Перевод Н. Ман — 6, 453)
Ничего больше не
происходит в этой новелле: лишь "ребенок продолжал играть на флейте и
петь, на свой лад сплетая строки и добавляя к ним новые" (6, 456).
Эккерману эта развязка показалась "слишком оторванной от целого, слишком
идеальной и лиричной: хотя бы некоторые из остальных действующих лиц должны
были бы еще раз появиться в эпилоге и тем самым сообщить ему большую широту. Но Гёте наставительно объяснил
ему, что после патетической речи хозяина, которая уже сама по себе является
поэтической прозой, ему не оставалось ничего другого, как перейти к лирической
поэзии, мало того — к песне (из беседы с Эккерманом 18 января
В
"Новелле" перед нами — утопическое прославление мягкой, но
повелительной власти без насилия, к которой никогда не применится реальность, и
потому настоятельно необходимо по крайней мере напомнить всему сущему об этой
власти. "Цель моей новеллы — показать, что неистовое, неукротимое чаще
покоряется любви и кротости, чем силе; эта мысль, персонифицированная в ребенке
и льве, и побудила меня ее написать. Это — идеальное, иными словами — цветок. А
зеленая листва реальной экспозиции только для него и существует и только
благодаря идеальному чего-то стоит", — разъяснял Гёте Эккерману 18 января
1827 года (Эккерман, 206). Но того, кто бездумно поспешил бы объявить эту
утопическую легенду возможной реальностью, для чего будто бы необходимо лишь то
самое первозданное доверие к силам добра, каковое присуще пришельцам с Востока
вместе с чувством слитности со Вселенной, упорядоченной властью божества, —
того по справедливости заклеймила бы насмешка Готфрида Бенна. В "Пивной
Вольфа" (1937) Бенн следующим образом иронизировал над "знаменитым
творением старца" Гёте: "В зверинце — пожар, горят балаганные будки,
тигры вырываются на волю, львы на свободе — и все это, видите ли, совершается
гармонично. Нет, это время уже миновало, да и земля эта сгорела, молнии с нее,
израненной, что называется, содрали кожу — и сегодня тигры загрызли бы
людей". Впрочем, престарелый Гёте и сам хорошо знал, что
569
смешивать вымысел с
действительностью столь же непозволительно, как и путать идеал с реальностью.
Когда, отправившись сражаться за свободу Греции, погиб лорд Байрон, Гёте
сказал: какая беда, что люди столь щедрого ума тщатся во что бы то ни стало
претворить свои идеалы в жизнь. "А это ведь невозможно, идеал следует
строго отделять от обыденной действительности" (запись канцлера фон
Мюллера от 13 июня
570
ДВА ВЕЛИКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПОЗДНЕГО ГЁТЕ.
"Годы странствий Вильгельма Мейстера, или Отрекающиеся"
В конце романа
"Годы учения" Вильгельм Мейстер достиг этапа, когда он оказался в состоянии
реализовать идею существования, включающего в себя все знания и опыт,
накопленные до сих пор. Он и вместе с ним читатель познакомились с
разнообразными формами жизни и сделали один неоспоримый вывод: конечной целью
всякого пути должно быть деятельное существование, а стремление к всестороннему
развитию личности, эта максималистская претензия субъекта, есть иллюзия, потому
что человечество составляют все люди вместе и от каждого в отдельности
требуется самоограничение. Тогда еще нельзя было судить о том, какими путями
пойдет дальнейшее развитие Вильгельма Мейстера. Финал "Годов учения",
построенный автором с виртуозностью и без учета необходимой мотивации, оставил
все вопросы "открытыми": Мейстер готов отправиться в путь, как того
желает Общество башни, его сопровождает сын Феликс и маркиз, брат арфиста. Путь
лежит в Италию, на родину Миньон. Итак, роман прямо-таки требовал продолжения.
Уже в июле 1796 года
Гёте и Шиллер это обсуждали. Шиллер утверждал тогда, что "годы
учения" — это относительное понятие, которое требует завершения в понятии
"мастерство" (письмо к Гёте от 8 июля
571
софских рефлексий,
создававших панораму человеческих отношений и социальных структур. Линия
действия, связанного с самим Вильгельмом Мейстером, вилась, как тонкий шнур,
объединявший события. Но он связывал также и другие сюжеты обрамляющего
действия, которые имели для Гёте такое большое значение, что иногда, казалось,
могли взять верх и полностью вытеснить заглавного героя из поля зрения. Итак,
сохраняя некоторую преемственность с "Годами учения", Вильгельм
вместе с сыном совершает путешествие и в соответствии с обетом Общества
отрекающихся не может прожить на одном месте дольше трех дней. Он должен узнать
как можно больше. Так он знакомится с разными формами жизни, профессиями,
общественными структурами, принимает поручения, которые влекут его в новые
области жизни. Когда-то Ярно, теперь специалист горнорудного дела по имени
Монтан, объяснил ему, как важно иметь профессиональную подготовку в какой-то
области, и теперь он принимает решение стать врачом, когда будет освобожден от
обета краткосрочного пребывания на одном месте. Он хочет стать деятельным
членом содружества отрекающихся, присоединяется к союзу эмигрантов, и в конце
его профессия хирурга дает ему возможность спасти своего собственного сына
Феликса.
Однако, как мы уже
говорили, собственная история Вильгельма — это лишь элемент обрамляющего
действия, повествовательный костяк, не более того. Этапы, к которым подходит
Вильгельм, становятся поводом для подробных бесед, сообщений, речей и
размышлений на самые разные темы, а сферы, в которые он попадает, обособляются,
приобретая самостоятельное значение. Герои многочисленных вставных историй
часто получают свою роль и в "главном действии".
Истории для
продолжения своего романа о Мейстере Гёте начал записывать с 1807 года, с
течением времени основная концепция все больше расширялась. Роман
"Избирательное сродство" первоначально также в нее входил, однако
потом вырос в отдельное произведение. В 1821 году появилась первая редакция
"Годов странствий", но с 1825 года Гёте перерабатывал и расширял свой
замысел. Когда в 1829 году он опубликовал "Годы странствий Вильгельма
Мейстера, или Отрекающиеся", то предусмотрительно опустил указание жанра
"роман", которое еще присутствовало в первом издании. (Мы не будем
затрагивать здесь вопрос о различиях обеих редакций романа.)
572
Уже для
современников это было странное произведение, трудное для восприятия,
многосоставный конгломерат. Для редакции 1821 года была написана даже
"вставная речь", содержавшая объяснения по поводу отсутствия единства
целого, где говорилось: "Если мы не хотим, как это уже не раз бывало за
многие годы, вновь завязнуть в этой работе, то нам ничего не остается, как
передать читателю то, чем мы располагаем, сообщить все, что еще сохранилось.
Поэтому некоторые главы, подробный разворот которых, казалось бы, стоило дать,
мы излагаем бегло, так что читатель не просто почувствует, что здесь чего-то не
хватает, но будет знать это наверняка и сможет сам домыслить то, что не
доведено до полной ясности и не подкреплено необходимыми доказательствами
частью в силу природы предмета, частью вследствие неожиданных
обстоятельств". В окончательном варианте в этом смысле ничего не
изменилось. Поэтому потомкам часто представлялась загадкой сама форма этого
произведения. К тому же при переработках возникло несколько ошибок: автор либо
не заметил их, либо не придал им значения. Если даже рассматривать "Годы
странствий" как структуру повествования с нанизанными эпизодами, то
остается вопрос: в чем же все-таки единство этого произведения, которое состоит
из пестрых, с большим количеством вариантов, как будто бы изолированных
рассказов, писем, дневниковых записей, изречений, элементов рассказа в
рассказе, комментариев редактора? Действительно, было и остается трудно
избавиться от обычных представлений о художественном единстве. В конце концов
решили, несколько упрощая слова Гёте, что, несмотря на все формальные
несоответствия, это произведение имеет единый смысл и что весьма искусное
переплетение косвенных связей и преломлений, доступное лишь в результате
подробнейшей интерпретации, создает единство целого. Конечно, на этой основе
многое можно себе уяснить, оценить по достоинству, увидеть в надлежащем
контексте. Но всегда что-то остается. Может быть, отказ от обозначения
"роман" надо понимать как сигнал того, что старый Гёте решил дать
полную свободу своему большому позднему творению и позволить себе тот стиль
повествования, который был бы полностью избавлен от принуждения к законченности
и вместил в себе все, что Гёте хотел сообщить. В этом случае повествование
имело право на резкие скачки в развитии сюжета и развернутая мотивировка
отступала на вто-
573
рой план.
Интерпретаторам пришлось отказаться от погони за "единством", как бы
они его ни трактовали, даже не обвиняя автора в художественных слабостях. Ведь
поиски "единства" с их стороны всегда основаны на аксиоме, что всякое
художественное произведение должно его иметь, если хочет считаться таковым.
Однако безусловность этой аксиомы можно поставить под вопрос. Гёте, совершенно
очевидно, меньше всего беспокоился о том, чтобы соответствовать чьим-то
требованиям касательно единства и завершенности произведения. Он собрал воедино
все, что узнал, наблюдая эпоху и человеческое поведение, поставил поэтический
эксперимент на тему о том, какими могли бы быть ответы на требования
общественной ситуации, рассматривая этот объемный прозаический труд как
резервуар, вместивший в себя сюжеты и идеи, осуществленные проекты и едва
наметившиеся замыслы, и предложил их читателю как материал для размышлений (и
как развлекательное чтение) в постоянной надежде, что он сам
"додумает" (письмо Римеру от 29 декабря
Этому
соответствовала манера повествования, которая становится понятной не сразу,
именно она дает автору ту свободу, которая была ему нужна. Все, что
предлагается читателю, от первой до последней страницы, — это фрагменты текста
из некоторого фиктивного архива. Повествователь — фиктивный редактор, который
выбирает тексты из имеющегося материала и определенным образом располагает их в
расчете на фиктивного читателя. Этот редактор не есть сам Гёте, так как это
значило бы, что Гёте фактически предоставил архивный материал. Вместе с тем
среди источников действительно имеются "реальные" материалы, то есть
такие тексты, которые существовали помимо фиктивного архива в бумагах Гёте,
как, например, описание текстильной промышленности в Швейцарии Генриха Мейера;
подготовленные Эккерманом избранные места из собрания афоризмов; обработка
сказки о Мелузине; перевод "Глупой паломницы". Автор, разумеется,
располагая всеми этими текстами, играет в утонченную игру. Он вводит фиктивного
редактора, который располагает их определенным образом. Тот воспринимает себя
как "верного референта", который "собрал и упорядочил" эти
бумаги. Фиктивный архив полон разнообразного материала; редактор предлагает не
все, он выбирает, устанавливает последователь-
574
ность, комментирует,
иногда даже прерывает читателя, призывая к порядку себя самого: "Наши
друзья взялись за роман, и поскольку он оказался местами более назидательным,
чем следовало бы, то мы сочли разумным не испытывать более их благожелательное
терпение. Бумаги, лежащие сейчас перед нами, мы рассчитываем напечатать в
другом месте, а сейчас без дальнейших околичностей переходим к повествованию,
так как и нам не терпится видеть загадку разгаданной" (8, 104). Итак,
редактор, готовя книгу к изданию, все-таки принял в расчет ожидания любителя
романов, его способ изложения соответствует записи в дневнике Леонардо:
"Не стану утверждать, что это столь уж приятное чтение, но мне оно кажется
занимательным и даже в известной мере поучительным" (8, 296). Детальный
анализ "Годов странствий" показывает, что и сюжетная линия Мейстера в
форме рассказа от третьего лица вполне укладывается в фикцию архива. Путевые
заметки Вильгельма, адресованные Натали, являются важнейшей составной частью
архива, обработанного редактором.
Этот
повествовательный прием оправдывает неоднородность и незаконченность
"Годов странствий"; автор оставляет рассказ незавершенным, так что у
читателя возникает потребность поразмыслить и представить себе возможное
продолжение. Гёте заставляет своего редактора рассмотреть весь материал еще и с
точки зрения его увлекательности и поучительности. Так поддерживается ощущение
постоянной готовности к эксперименту, которое необходимо автору, когда он вновь
изучает возможности человека и общества, осуществляя поэтические опыты.
"Такая работа, как эта, — писал Гёте Рохлицу, — заявляет себя как
коллективная, она как будто бы только для того и существует, чтобы собрать
самые разнообразные элементы, и потому она позволяет и даже требует, чтобы
каждый выбрал себе то, что ему подходит, доставляет радость, создает ощущение
гармонии и благополучия" (письмо от 28 июля
575
Рохлиц тем не менее
стремился осознать "Годы странствий" как целое, Гёте писал с
неудовольствием канцлеру фон Мюллеру: он "вбил себе в голову дурацкую
идею, что все это как единое целое надо проанализировать систематически и конструктивно.
Но это совершенно невозможно. Книга есть соединение разнородных частей"
(18 февраля
Работу над
продолжением романа о Вильгельме Мейстере Гёте начал с рассказов. Отдельные
мысли на этот счет стали появляться у него уже после 1800 года. Новеллы
повествуют о смятении и страсти, верности и неверности, поспешности и ошибках
при выборе партнера, о конфликтах, разрешение которых по большей части требует
отречения. Таким образом они соотнесены с главной темой всего романа (который
мы в дальнейшем будем называть романом, не упуская из виду всех отмеченных выше
особенностей его структуры). Детальная интерпретация частей может наглядно
показать, в каком соотношении находятся рассказы, введенные в контекст
"Годов странствий", как заключенные в них мотивы взаимно дополняют,
продолжают и отражают друг друга. Если герой одной истории проявляет слишком
большое уважение к тому, что его окружает, то в ответной истории такого
уважения слишком мало. В одной ситуации люди попадают в неудачные и даже
опасные связи, в другой в самый последний момент опасности удается избежать. В
новеллах речь идет об индивидуальных судьбах, где люди, попадая в аналогичные
конфликты, по-разному себя ведут и потом имеют дело с разными последствиями.
Некоторым из пострадавших удается достигнуть идеала отречения, тогда они
находят свое место в общности, которая действует в "обрамляющем
сюжете", подчиняется принципу деятельной жизни, требующей отречения. Здесь
нет инстанции, оценивающей проис-
576
ходящее; читателю предоставляется
возможность самому вынести суждение, анализируя последствия, понять, что верно
и что ошибочно в действиях героев. Правда, от него ожидают, что тому, кто готов
к отречению, он подарит свои симпатии прежде всего. Непосредственно дидактических
целей Гёте не преследовал ни в изображении отдельных судеб в новеллах, ни в
изложении прочего, весьма богатого материала "Годов странствий";
поучительное, как он считал, всегда заложено в литературе и должно
воздействовать по-иному: поэтическое воплощение жизни, возникающее в
воображении художника в процессе освоения действительности, активизирует те же
свойства у воспринимающего искусство, побуждает читателя к размышлению и
создает ситуацию самообучения. "Всякая поэзия должна быть поучительной, но
так, чтобы это не было заметно", — констатировал Гёте в 1827 году в статье
"О дидактической поэзии", оспаривая право на существование
дидактической поэзии как определенного вида; "она должна лишь обратить
внимание на то, чему стоит учиться. Извлечь уроки из поэзии читатель должен
сам, точно так же как из жизни". К событиям новелл это относится в той же
мере, как и к формам бытия и социального существования обрамляющего сюжета.
Именно эта своеобразная форма "Годов странствий", стремящихся
"объединить разнообразные элементы" (письмо к Буассере от 2 сентября
В этом смысле все
то, что Гёте предлагает в своем позднем романе, есть поэтический учебный
материал. С полной отчетливостью можно видеть, что он подчиняется двум
тематическим направлениям, как может и должен отдельный индивидуум организовать
свою жизнь, чтобы не оказаться в изоляции, а стать членом общности? Как могут и
должны быть упорядочены общественные формы жизни и труда, чтобы они могли соответствовать
требованиям времени?
Иллюзии Вильгельма
по поводу всестороннего развития отдельной личности были развенчаны уже в
"Годах учения". Членам Общества башни, втайне руководившим его
развитием, эти абстрактные мечты всегда казались подозрительными, им удалось
убедить Вильгельма в приоритете идеи деятельной жизни. Но всей серьезности
призывов к реальной деятельности он еще не осознал, еще не овладел практической
про-
577
фессией. В начале
"Годов странствий" он все еще полон незрелых идей, бредет по жизни
как в тумане, ощущает недостаток в знаниях. Это ярко видно в той сцене, где он
ничего не может рассказать своему сыну Феликсу о камне и растении. "Я не
знаю" — это первая фраза, которую всегда произносит Вильгельм. Ярно,
теперь Монтан и горный инженер, дает ему необходимое разъяснение: "Сейчас
пришло время односторонности. Благо тому, кто это постиг и действует так на
благо себе и другим. Иногда это понятно с первого взгляда. Стань хорошим
скрипачом — и будь уверен, что любой капельмейстер с удовольствием даст тебе
место в оркестре. Стань многозвучным, как орган, — и ты увидишь, какое место
отведет тебе в общей жизни благонамеренное человечество... Лучше всего
ограничить себя одним ремеслом. Для неумного оно и останется ремеслом, для ума
более обширного станет искусством, а самый высокий ум, делая одно, делает все,
или, чтобы это не звучало парадоксом, в том одном, что он делает хорошо, ему
виден символ всего, хорошо сделанного" (8, 32—33).
Эта мысль
многократно и по-разному формулируется в книге. "Прежде чем вступить в
жизнь, прежде чем заняться любым делом, любым искусством, следует сначала
овладеть ремеслом, а это достигается только ценой ограничения. Кто хорошо знает
и владеет чем-нибудь одним, тот более образован, чем многосторонний
полузнайка" (8, 130). Позднее Ярно-Монтан вновь заявляет об этом со всей
решительностью. "Какая чушь, — говорил он, — и само ваше общее
образование, и устроенные ради него заведения!" (8, 246). Решение
Вильгельма приобрести профессию врача вполне последовательно, поскольку он
осознал необходимость этого, дальше на протяжении романа он ни разу не
усомнился в правильности своего решения, а спасение сына в конце еще раз
подтверждает это.
Образование сводится
к специальному профессиональному обучению. Но и в этой односторонности все еще
есть место для идеи участия в абсолютном, к которой человек стремится в меру
возможностей полученного им образования. В основе этого лежит уверенность в том
— она высказана уже в "Годах учения", — что только все люди вместе
составляют человечество. Эта перспектива сохраняется для каждого в его
специализации. Он ощущает себя частью общности и отдает себе отчет в том, что
без его особой деятельности эта общность не могла бы осуществиться как челове-
578
чество, то есть как
сумма всех человеческих возможностей. Проблематичность хваленой односторонности
и специализированной деятельности хорошо известна нам с тех пор, как в ходе
совершенствования производства возникло общество разделения труда и вместе с
ним членение на функции для каждого и отчуждение; у Гёте эта идея не появляется
— в основе его концепции лежит вера в гармоническое взаимодействие всех
деятельных личностей, где каждый готов быть частичкой, так как убежден в
осмысленности усилий сообщества. Каждый на своем месте испытывает удовлетворение,
так как свою работу он рассматривает как вклад в общее дело, где свободная
деятельность добросовестных и знающих людей естественно порождает общее благо.
Здесь нет еще речи о конкурентной борьбе и об отрицательных последствиях
разделения труда и капитала.
Тот, кто осознает
бесполезность "общего образования" с точки зрения требований времени,
кто готов ограничиться специальным делом, тот должен учиться отречению.
Отрекающиеся названы уже в заглавии романа. Мы не будем здесь заниматься
проблемой, о которой много спорят исследователи, кто из героев романа
принадлежит к числу отрекающихся и кто нет. Конечно, к ним относятся все, кто
действует в обрамляющей части. Отречение не означает только готовность
отказаться от претензий на образование и удовольствоваться развитием каких-то
определенных специальных умений. У Гёте сама идея отречения идет от знания
человеческой природы и принятия в расчет вытекающей из этого обусловленности.
Признать необходимость отречения — значит дать свободу возможностям, которые
имеет человек. По отношению к себе самому, к природе и обществу человек во
многом идет на отречение, если хочет как-то справиться с жизнью. Конечно, это
означает разочарование, но не то, которое парализует и подавляет, ибо здесь оно
основано на принципе "действуй разумно" — это практическая сторона призыва познай
самого себя, разъяснял Гёте
в письме к Рохлицу 23 ноября 1829 года. Люди были бы умнее и счастливее, если
бы умели отличать стремление к бесконечному от конкретной цели и постепенно
познавать меру своих собственных средств и сил. На основе описанных выше
убеждений Гёте в своей работе естествоиспытателя принял как обязательный
принцип некую пессимистическую умеренность. В "Размышлениях в духе
странников" есть одно высказывание, где
579
определено главное понятие
познавательных интересов Гёте: необходимость самоограничения вытекает из самой
природы человеческого существования, но это не значит, что каждый в отдельности
должен исходить из своего отдельного случая, довольствоваться им и видеть в нем
критерий для оценки: "Если я наконец успокаиваюсь, обнаружив прафеномен,
то это тоже резиньяция; однако есть большая разница, смирюсь ли я, достигнув
границ человечества или же не выходя за гипотетические пределы моей сжатой в
тесных рамках индивидуальности" (8, 265). "Действуй разумно" —
это означает принять и признать те условия, при которых деятельность остается
осмысленной. "В любом роде деятельности, если она ничем не ограничена, мы
в конце концов терпим крах" (8, 250).
То, что Гёте
формулирует здесь во многих вариантах, означает возвращение принципа Прометея в
признанные и принятые границы возможного. Это вынужденное самоограничение
сопровождается, конечно, и отрезвлением, и сожалением, и болью. Особенно тяжел
этот путь к отречению в любви, об этом рассказывает не одна новелла. Но
горестность отречения, добровольно принятого на себя, смягчает сознание того,
что оно подчиняется обету, который сама сущность общественного устройства и
всеобщий порядок возлагают на человека как обособленную личность и как общественное
существо. Таким образом философия отречения оправдывает идею односторонности,
которая только и может сделать каждого активным членом общности. Она становится
посредником между прекрасным, но иллюзорным стремлением к развитию всех
врожденных способностей, к совершенству отдельной личности и потребностью
каждого стать полезным членом социального целого. Вполне последовательно
деятельность в духе содружества отрекающихся не означает активности ради себя
самого, это осмысленные действия, осуществляемые в сознании необходимости
самоограничения и в стремлении постоянно отдавать себе отчет в том, какое
назначение они имеют. В соответствии с истиной, сформулированной в словах:
"Думать и делать, делать и думать — вот итог всей мудрости; это искони
признано, искони исполняется, но постигается не всяким. И то, и другое в
течение всей нашей жизни должно вершиться непременно как вдох и выдох, и, как
вопрос без ответа, одно не должно быть без другого" (8, 231). Прекрасное
также не исключа-
580
ется в этом
деятельном мире осознанного отречения, хотя и не является в нем центральной
проблемой. Правильный путь, который необходимо найти, ведет от полезного, через
истинное — к прекрасному.
Мысль об отречении
легко представить себе как сгусток опыта, накопленного Гёте в жизни, как
попытку рациональным ходом смягчить печаль о недостигнутом, о напрасных
попытках, о чем-то начатом и незавершенном. Другие восхищались его
способностями и свершениями, сам же он жил под бременем вечной
неудовлетворенности, о чем свидетельствуют письма, и отречение в любви он
познал еще до встречи в Мариенбаде летом 1823 года.
Во время путешествия
Вильгельм сталкивается с самыми разными формами жизни и деятельности,
знакомится с существующими общественными устройствами и проектами новых, частью
непосредственно, частью по рассказам. Читатель воспринимает все увиденное
глазами Вильгельма, в целом это многостороннее освещение архивного материала,
предлагаемого редактором. Уже в самом начале Вильгельм встречается в горах со
странной группой, которая, как святое семейство во время бегства в Египет,
медленно продвигается вперед. С удивлением он рассматривает место, где
обосновался "святой Иосиф Второй", капеллу с картинами жизнеописания
святого Иосифа. В глуши этих труднодоступных мест благочестивый человек стремится
подражать святому, вдохновленный житием, изображенным на картинах. Впечатление
такое, что здесь воссоздана идиллия по высокому образцу, реконструирован стиль
жизни далекой древности, мирный, скрытый от опасностей мир, которому достаточно
минимальной, примитивной деятельности. Однако при ближайшем рассмотрении
ощущение идентичности полностью исчезает. Странный и прекрасный мир Иосифа
Второго показан только с точки зрения Вильгельма, который еще не знаком с
высказываниями Ярно; жизнь Иосифа Второго ничего общего не имеет со
взаимодействием понятий делать и думать, думать и делать. Уже и библейский
Иосиф был подозрителен для Гёте своей пассивностью, тем более его
последователь, этот сомнительный имитатор, источником для которого служат
дилетантские картины, отмеченные к тому же печатью просветленности из времен
позднего
581
средневековья. Во
время создания этой истории о святом Иосифе — она упомянута в дневнике уже в
1807 году — Гёте, как известно, со всей резкостью обрушился на всячески
восхвалявшееся христианское искусство, которое противопоставлялось античности,
он называл его "неокатолическими сантиментами", "отшельническим
и штернбальдизирующим безобразием" 1.
Только иронически мог он изобразить жизнь человека, основанную на христианской
идее отшельничества. Это, конечно, не пример, наоборот, это контрастная картина
по отношению к тем сферам, где определяющей становится реальная деятельность,
проникающая в жизнь.
В течение трех дней
Вильгельм и Феликс знакомились с жизнью "дядюшки", вернувшегося из Америки
помещика, который пытается теперь организовать общину и управлять ею как
просвещенный патриарх. Здесь начинается ряд социальных моделей, которые Гёте
создает в "Годах странствий", иногда только в наметках, так, как
предлагает редактор, подготовивший архивные бумаги. В пределах художественного
произведения Гёте осуществил поразительный анализ эпохи, где учтено все, что он
узнал и понял относительно движущих сил экономического и общественного
развития. Принимая во внимание этот неотступный интерес к социальным
структурам, пора бы прекратить разговоры об "аполитичном Гёте". Это
правда, что практической политикой он перестал заниматься с тех пор, как
окончательно понял, что основные сферы, где должна осуществиться его личность,
искусство и наука. Но никогда он не останавливался перед тем, чтобы создавать в
своих художественных произведениях экспериментальные проекты социальных моделей
и смело анализировать современность. Он не пытался при этом постигнуть пути
развития в их исторической преемственности, научно обосновать значение
факторов, которые определяют возникновение и изменение социальных структур,
свои выводы, предположения и ожидания он переводил на язык литературных
образов, которые имеют право довольствоваться фрагментарным описанием, намеком,
беглым указанием.
В сфере действия
"дядюшки" все организовано
1 Гёте обыгрывает ставшие нарицательными понятия, связанные с известными произведениями романтиков В. Г. Вакенродера ("Сердечные излияния отшельника — любителя искусств", 1796) и Л. Гука ("Странствование Франца Штернбальда", 1798). — Прим. ред.
582
согласно четким
принципам, цель которых — это польза каждого и всех членов общности.
Благосостояние для каждого и рост его здесь желательны, но только тогда, когда это
идет на пользу общности и не наносит ущерба соседу. Фрукты и овощи,
выращиваемые "дядюшкой", помогают обеспечить горняков питанием, его
питомники дают саженцы сельским жителям. Это проект образцового
сельскохозяйственного производства, где интересы владельца гармонируют с
потребностями членов общины. В этом смысле вполне оправдана и частная
собственность, поскольку она служит общим интересам. В противоположность
феодальным установкам собственность на землю воспринимается здесь как отношения
товарные, с точки зрения прибыли, выгодной для всех. Дворянский
репрезентативный стиль полностью исчез, всюду царит полезная деятельность, это
хорошо видно на примере трапез, организованных деловито, по принципу
целесообразности. Все здесь живущие безо всякого принуждения подчиняются ходу
трудовых процессов. Организованы и хорошо функционируют вспомогательные службы
при несчастных случаях; полиция следит за порядком, но ничем серьезным ей
заниматься не приходится. Для "дядюшки", который вдохновлен идеей филантропии,
но отнюдь не реальных социальных реформ, способных что-то изменить в
имущественных отношениях, собственные интересы как будто целиком совпадают с
интересами общности, а европейская культура, с которой он духовно связан,
стимулирует его к гуманной деятельности (в отличие от пассивного подражания, в
котором застыл Иосиф Второй).
Без сомнения, это
утопия, именно так она обозначена в тексте; надписи, которые
"дядюшка" развесил повсюду для того, чтобы никто ни на минуту не
забыл о его принципах, вызывают желание задать иронические вопросы. "Я
нахожу, — говорит Герсилия, — что каждую можно вывернуть наизнанку, и от этого
она станет не менее, а быть может, и более справедливой" (8, 60). А
Вильгельм Мейстер, задав вопрос по поводу надписи "Собственность и общее
благо", попадает прямо в цель. "Разве одно из этих понятий не
отменяет другое?" — спрашивает он. Объяснения, которые должны уточнить
смысл этих формулировок, представляются сомнительными и не могут снять
принципиального противоречия, заключенного в отождествлении пользы каждого с
общей пользой. В ходе дальнейшего развития общества оно, естественно,
проявилось в полную силу.
583
"Пусть каждый
ценит по достоинству дарованную ему природой и судьбой собственность и
старается не растратить ее и даже умножить; пусть расширит, насколько возможно,
поле приложения своих способностей; но пусть при этом думает, как дать другим
участвовать во всех его начинаниях, ибо имущих оценивают по тому, сколько людей
получают благодаря им пользу" (8, 60).
Таким образом, сфера
действия "дядюшки" изображается как утопия, где капиталистический
хозяйственный уклад оправдывается тем, что состоятельные заботятся о неимущих,
а сосуществование личной выгоды со всеобщим благом постулируется как реальная
возможность. С нею связаны все надежды писателя, стремление бюргера к
благосостоянию он воспринимал как общественную необходимость, поскольку бюргер
ведет хозяйство с учетом общих интересов, и в этом Гёте видел возможность
равновесия интересов для всех; при таком взгляде на вещи мысль о революционном
перевороте звучит как насмешка над общественным устройством, не оставляющим
желать лучшего.
"Педагогической
провинции" Вильгельм поручает дальнейшее воспитание своего сына Феликса.
При вступлении в эту сферу и при возвращении туда несколько лет спустя он
получает подробную информацию о принципах ее существования. "Что-то вроде
утопии" — так определяет Леонардо характер этого учреждения (8, 124).
Действительно, "провинция" производит впечатление некой утопической
модели. Созданная на сельскохозяйственной основе, она сама себя содержит и
является закрытой сферой, строго изолированной от внешнего мира. Мальчиков
воспитывают здесь по точному плану вдали от родительского дома. Цели и методы
воспитания определяет убеждение, что главное — это специализированная
подготовка, которой должно сопутствовать благочестие, так как именно оно дает
человеку основанную на уважении к другим правильную позицию для деятельной
жизни в человеческой общности. Прежде всего неопытному Вильгельму даются
подробные разъяснения относительно той религиозности, которая осуществляется в
разных формах уважения, внушаемых воспитанникам, о чем в романе уже раньше
говорилось. Практическое обучение целиком поставлено на службу формирования из
каждого "полезного и необходимого члена общества", "необходимейшего
звена в нашей цепи". То, что провозглашал Ярно-Монтан по поводу
необходимости
584
ограничиться одним
ремеслом, что позднее стало требованием в Союзе эмигрантов, должно стать в
"Педагогической провинции" основой практического воспитания. В процессе
общественного развития разделение труда возникает неизбежно, к этому Гёте
подводит, однако связанные с этим дефициты — в этом вопросе проект оптимистичен
— покрываются за счет того, что каждый человек становится членом общества,
учитывающего его потребности и интересы, и в этом находит удовлетворение. В
противоположность "Годам учения" блуждания индивидуума в поисках
решений больше не являются продуктивным накоплением опыта, теперь это отход от
верного пути, которого надлежит избегать. Правда и в "провинции"
каждый должен сам определить, к чему он имеет способности, но потом уже — дело
учителей организовать для него соответствующее обучение и внимательно следить
за ним. Весьма характерно, что традиционное актерское искусство в
"Педагогической провинции" исключено. Для такого
"шарлатанства" там не может быть места; к тому же что-то изображать
перед бездеятельной толпой зрителей, которые сами не участвуют в этой
художественной деятельности, противоречит основам воспитания в духе активности.
Другим видам искусств обучают непременно, всегда в строгой последовательности,
необходимой для каждого вида искусства, от простых элементов к более высоким
ступеням овладения им (именно это Гёте не уставал повторять художникам), при
этом связь с жизнью общности, полезность для любого занятия никогда не исчезает
из поля зрения. Искусство и общество не должны существовать отдельно друг от
друга, искусство должно возникать в повседневной жизни. Субъективное
самоосуществление в творческом одиночестве не может быть целью, цель — это
осмысленное взаимодействие искусства и общества. В воспитательной программе
сочетаются работа и игра, у каждого должны быть развиты и практические и
духовные способности. В соответствии с этим воспитанники не носят формы.
"Что до мундира, то мы его полностью отвергаем: он лучше любой личины
прячет характер и скрывает от взгляда наставника особые черты каждого
ребенка" (8, 148). Эти слова прямо противоречат приведенному выше
высказыванию из романа "Избирательное сродство". И они пример того,
как связаны с конкретной ситуацией многие мысли из произведений Гёте,
сформулированные как аксиомы.
585
"Педагогическая
провинция" в "Годах странствий" выглядит как изобретенная
конструкция, которая может вмещать в себя фикцию всякого рода. Однако Гёте не
фантазировал. Он опирался на реальные события. Филип Эмануэль Фелленберг
организовал в Хофвиле, поблизости от Берна, воспитательное учреждение,
основанное на организационных и методических принципах, повлиявших на концепцию
"провинции" во многих отношениях. Там также развивали специальные
умения, вновь прибывших подвергали испытаниям, чтобы установить характер их
способностей; ситуация учебных отделений, расположенных в нескольких деревнях,
также напоминала "провинцию". Правда, у Фелленберга дети из разных
социальных слоев были отделены друг от друга и обучались по-разному, тогда как
в "Годах странствий" каждый имеет равные возможности получить
образование. И в тот момент, когда Гёте был занят "Педагогической
провинцией", написанной уже для первой редакции романа, он сочинял вместе
с Генрихом Мейером "Предложения для создания художественных академий"
— проект, предназначенный для заинтересованных инстанций берлинской
администрации. И наоборот, в своем журнале "Искусство и древность" в
1822 году Гёте поместил "образцы для фабрикантов и ремесленников",
которые получил из Берлина от министра торговли и ремесла. Итак, утопия
"Педагогической провинции" оказывается просто проектом, в котором
претворены проблемы реальной жизни.
Прошло много
времени, прежде чем Вильгельм примкнул к Союзу переселенцев. Мы не будем здесь
описывать его путешествий в горы к ткачам и прядильщикам, на родину Миньон и
возвращение назад в "Педагогическую провинцию". В конце концов он
попадает в Общество ремесленников, в союз, который на свой лад пытается
планировать реформы, чтобы решить проблемы материального производства и
взаимодействия общественных сил в существующих условиях. Постепенно он находит
там многих старых знакомых из "Годов учения". Почти все они изучили
между тем какое-то ремесло. В этом кругу людей, постоянно готовых к
странствиям, живет тот же дух, что и в окружении "дядюшки", и в
"Педагогической провинции". Как там музыка постоянно сопровождала
воспитанников — с нее все начиналось, она сопровождала их в ра-
586
боте, пока они осваивали
ремесленные, сельскохозяйственные или художественные навыки, — так и здесь
музыке отводится важная роль: на встречах членов общества она постоянно
присутствует как оживляющий элемент. Отречение в том смысле, как об этом
говорилось выше, является естественной предпосылкой для всего, что обсуждается
в союзе. Сохраняют свое значение принципы, действовавшие в сфере влияния
"дядюшки". Свою большую речь Леонардо начинает с того, что возносит
хвалу землевладению. "Это и заставляет нас верить в высочайшую ценность
земельной собственности, видеть в ней самое лучшее, что может достаться
человеку" (8, 334—335). Но затем, объявив землевладение "основой
основ человеческого существования", он подчеркивает другую важную мысль:
"И все же мы вправе сказать: как ни ценно то, чем владеет человек, но то,
что он делает и создает, должно ценить еще выше. И если мы охватим взором все и
вся, то владение землей окажется лишь малой частью дарованных нам благ,
наибольшую же часть этих благ, и притом высших, составляет то, что именуется
движимостью и приобретается как плод жизни подвижной" (8, 335).
Главной становится
идея достижения результата, и, так же как в сфере "дядюшки"
землевладение переводится в область товарных отношений, так основной делается
ценность "подвижных" благ. Так в поле зрения оказывается буржуазная
система хозяйства и получения доходов, в то время как землевладение было
твердой основой жизни дворянского сословия, не подлежавшей законам товарного
обмена. Представители дворянства, примкнувшие к движению отрекающихся,
стремятся приспособиться к экономическому развитию и содействовать ему,
поскольку понимают, что оно не противоречит их интересам.
Уже в Годах
учения" появилась идея эмиграции (книга 8, глава 7). В здешних местах
"собственность почти нигде не надежна". Члены Общества башни
собираются создать особую "компанию, которая распространится по всем
частям света, и вступить в нее могут представители любой части света" (7,
466). Таким образом, на случай революции можно будет создать базу для существования
в любой части земли. В "Годах странствий" предпринимается попытка
составить примерный план расселения для всего товарищества, каждому
добросовестному работнику будет дана возможность рентабельной работы по своей
профессии, всех
587
будет объединять
сознание общего блага и уважение к господствующим общественным порядкам. Так
возникает концепция идеальной общности, где каждый работает на себя и в то же
время на благо всех, а весь коллектив отвечает за недостатки своих членов. Эти
идеи отчасти совпадают с теорией Адама Смита, согласно которой стремление к
успеху каждого члена общества, если оно не осуществляется за счет других людей,
прямо-таки неотвратимо создает такое гармоническое взаимодействие всех
общественных сил, которое неизбежно приведет ко всеобщему счастью. "Пусть
каждый стремится повсюду приносить пользу себе и другим" (8, 336), —
призывает Леонардо в своей программной речи. Позднее руководству сообщается
свод основных правил игры: "Никто не должен причинять неудобств другому, а
кто выкажет себя неудобным сожителем, тот устраняется из общества, пока не
поймет, как надо себя вести, чтобы тебя терпели" (8, 353). Еще в 1830 году
Гёте категорически возражал против идей государственного социализма,
принадлежавших сен-симонистам, согласно которым собственность на средства
производства должна быть общественной. Он настойчиво подчеркивал: "Если
каждый будет выполнять свой долг, усердно и добросовестно трудясь в сфере своей
непосредственной деятельности, то и всеобщее благо будет достигнуто"
(Эккерман, запись от 20 октября
Совершенно очевидно,
что Союз переселенцев как организация стремится к равновесию индивидуальных
желаний и потребностей с потребностями общества, к социальной интеграции тех
деятельных личностей, которые принимают концепцию отречения и воспитательные
принципы "провинции". Однако без хорошо организованного
государственного порядка общество не может функционировать нормально. То, что
редактор сообщает об этом порядке на основании документов, — это всего лишь
намеки, окончательных решений еще нет, отдельные статьи "уложения... все
еще обсуждаются между членами товарищества" (8, 355). У читателя создается
впечатление, что предполагается создать некую нефеодальную систему, в которой,
однако, сохранится строгая сословная структура общества, а приказ и дисциплина
будут обязательны, как всегда. Смелое руководство очень желательно, кто его
назначает, остается неясным; полиция существует, как и теперь, в случае
необходимости она "имеет право созвать в большем или меньшем числе
присяжных" (8, 353),
588
по какому принципу —
опять-таки неясно. Религиозная культовая практика на христианской основе
является обязательной. Евреи исключаются из общества — возможно, по причине их
деловых качеств. Нравственное учение "совершенно отделено" от
религиозной доктрины и сформулировано в форме немногих заповедей:
"Умеренность в произвольном, рвение в необходимом" (8, 352). Это
осторожные попытки. "Но главное для нас — перенять все блага просвещения и
избавиться от его вредных последствий" (8, 354). Добровольная организация,
возникающая при участии всех, еще не приобретает четких очертаний, так как
остается сильное недоверие к большинству и его способности решать, что в полной
мере соответствует часто звучавшей мысли Гёте: "Ничего нет омерзительнее
большинства, потому что оно всегда состоит из никчемных людей, из жуликов,
которые приспосабливаются, бездарностей, которые подлаживаются, и массы,
которая бежит за ними, не имея никакого понятия о том, чего она, собственно,
хочет".
То, что делало
Америку столь привлекательной для Союза переселенцев — это надежда, что все
можно там начать сначала. "В Старом Свете нет конца волоките, за новое
здесь берутся по-старому, за растущее — с привычной косностью" (8, 292).
Если в первой редакции "Годов странствий" странствия еще не воспринимались
как эмиграция, а только как пешие путешествия вокруг какого-то центра в Европе,
то потом, по мере того как представления Гёте о новом мире обогащались в
последнее десятилетие его жизни, странствия превратились в эмиграцию. Новые
знания дал ему среди прочего путевой дневник, который вел принц Бернгард,
второй сын Карла Августа, во время путешествия по Северной Америке в 1825 году.
В 1828 году Гёте вместе с историком Луденом издали его. "Там, за морем,
где человечность взглядов будет все время возрастать" (8, 290), казалось,
создавались новые возможности осуществлять проекты, не отягощенные балластом
европейских традиций, способствовать развитию таких тенденций, которым
предстоит здесь приобрести определяющее значение в будущем. Но эмиграция в Америку
не единственная возможность, которую взвешивают члены союза, готовясь к
совместной деятельности, существует также мысль о поселении внутри Европы. Ее
сторонник — один из руководителей союза — Одоардо, пришедший к отречению после
тяжелых любовных переживаний. Один
589
из немецких князей
готов предоставить возможность осуществить современный проект, сходный с
американским, в глухой провинции Европы, несмотря на то что существующие
феодальные традиции создадут дополнительные трудности на пути к успеху.
В рамках своего
эксперимента в "Годах странствий" Гёте размышляет (обеспечив себе с
помощью вымышленного архива свободу намека и наброска) о возможных переменах в
экономическом и общественном развитии эпохи. Приближение промышленного века
особенно ощущается в тех местах, где он (в дневнике Леонардо) подробно
описывает ткацкий промысел (источником послужили подлинные записки Генриха
Мейера). Со всеми подробностями Гёте описывает, как в горных деревнях
организован этот промысел, местная индустрия. Так он создал литературный
памятник отмирающему ремеслу. Сусанна, "Добрая и Прекрасная", видит
тенденции того развития, которое нельзя остановить: "Машина побеждает
ручной станок! Опасность надвигается медленно, как туча, но уж, если дело
повернулось в эту сторону, она придет и настигнет нас" (8, 373). Она видит
лишь два выхода из положения: "Есть только два пути, и оба тяжки: самим
обратиться к новому и ускорить общее разрушение либо сняться с места и искать
счастья за морем, взяв с собой лучших и достойнейших" (8, 374). В союзе с
отрекающимися возникает решение: Сусанна будет жить у Макарии до тех пор, пока
она окажется в состоянии пуститься в путь за море. Она жертвует всем, чем
владеет. "Это дает возможность установить в новых, годных для совместного
труда помещениях более совершенное оборудование и производить ткани по-новому,
так что дела у трудолюбивых жителей долин пойдут отныне намного бойчее"
(8, 388). Леонардо также одобряет план индустриализации, ничто еще не
предвещает того, какие проблемы возникнут в конфликтах и взаимодействии труда и
капитала в ходе промышленного развития. Еще не исчезла вера в необходимость
всеобщей доброй воли, и ограниченность сознания, возникшая в эпоху
односторонней сосредоточенности на специальных работах, еще допускает
возможность интеграции отдельной личности в социальное целое.
Уже в начале своего
пути Вильгельм Мейстер попадает к самой своеобразной героине романа, к Макарии
— блаженной, согласно ее греческому имени. Ка-
590
лека, страдающая
физически, она участвует во всем, помогает, советует, проникает в закоулки
человеческой души, которые для других остаются недоступными. Ей ничего не нужно
для себя, она о себе не думает, особым образом, за пределами реальности она
связана со всей Вселенной. О ней говорят, что духом, душой, воображением она не
просто ощущает Солнечную систему, но сама составляет часть ее, участвует в
движении небесных тел, с детства вращается вокруг Солнца по спиральной орбите,
"которая несет ее все дальше от средоточия к внешним сферам" (8,
390). Сдержанно, с легкой иронией редактор говорит об этой "эфирной
поэме" (8, 392). Однажды Гёте заметил о Платоне: "Все, что он
высказывает в своих писаниях, связано с вечно целостным, с истиной, добром и
красотой, те же стремления он старается пробудить в душе каждого". Эти
слова могли бы относиться и к Макарии. Она идеал среди отрекающихся. Именно так
ее и видят члены союза. Во время первого посещения Вильгельма ведут в
обсерваторию, находящуюся в ее владениях. Там астроном показывает ему звездное
небо, и бесконечность его человеческой миссии является ему впервые как
предчувствие. "Какое право ты имеешь хотя бы помыслить себя в середине
этого вечно живого порядка, если в тебе самом не возникает тотчас же нечто
непрестанно-подвижное, вращающееся вокруг некоего чистого средоточия?" (8,
105). Подобно тому как рядом с Макарией возникает ощущение связи с абсолютным,
так в Союзе отрекающихся эта женщина, блаженная, со своей чисто духовной,
сверхчувственной сущностью, является наглядным доказательством того, что
специализация не обрывает связей с высокой духовностью. Микрокосмос человека не
исключен из макрокосмоса, он остается в согласии с ним. Гёте постоянно
стремится наглядно это показать. Очень характерно, что в разговоре о Макарии в
конце романа проникновение в земные глубины и взлет в небесные выси связаны
между собой. "Земля и ее недра — это мир, где имеется все необходимое для
самых высоких земных потребностей, тот сырой материал, обработка которого есть
дело высших человеческих способностей; избрав этот духовный путь, мы непременно
обретем любовь и участие, придем к свободному и целесообразному труду. Кто
заставил эти миры сблизиться и обнаружить присущие обоим свойства в преходящем
феномене жизни — тот воплотил в себе высший образ человека, к
591
которому должен
стремиться каждый" (8, 386). К этому следует прибавить афоризмы из
"Размышлений в духе странников" и "Архива Макарии",
содержащие мысли по разным аспектам искусства и литературы, истории общества,
философии, физики и так далее, а также ранее высказанные мысли в соответствии с
мудростью, которая гласит: "Все происходящее когда-то уже являлось в
мыслях. Надо только попытаться продумать это еще раз" (8, 283), и тогда
"Годы странствий" с их многослойным составом можно воспринимать как
собрание мыслей старого Гёте. Главная из них та, что отречение и собственная
деятельность, осуществляемая в добровольно взятом на себя ограничении,
составляет conditio humana 1 той эпохи. Гёте исследует возможности
индивидуального существования и социальной общности и предоставляет читателю возможность
поразмыслить над невиданными или только необычными событиями своих
увлекательных новелл в их прямых или косвенных связях с основной проблематикой.
В конце романа эмигранты решились наконец предпринять свое рискованное
путешествие в далекую Америку. Удастся ли им реализовать оптимистический проект
и план расселиться вблизи от Одоарда, или он будет разрушен, столкнувшись с
реальными условиями, — этого читатель уже не знает.
Всяк, умеющий трудиться,
Плыть ли, нет ли — выбирай!
Там, где труд наш пригодится,
Там и будет милый край.
(Перевод С. Ошерова — 8, 359)
"Фауст". Трагедия. Вторая часть
В 1806 году,
объединив наконец фрагменты в единое целое, Гёте закончил трагедию
"Фауст", в 1808 году первая часть "Фауста" вышла в свет. Но
тот план драмы, который содержал "Пролог на небе", где Господь
разрешил Мефистофелю искушать Фауста, был еще далек от завершения. Несчастья и
смерть Гретхен, отчаяние Фауста — это не могло быть завершением столь
значительного замысла. Нельзя было себе представить, что только ради этого
Фауст отправился в свои рискованные странствия, зашел так далеко в своем
1 Условие человеческого (лат.).
592
стремлении
постигнуть мир, пусть даже с помощью черной магии; если бы высшей инстанции не
было дано вынести окончательный приговор, "Пролог" оказался бы не
более как пустым украшением. Без всякого сомнения, вторая часть с самого начала
предполагалась в концепции драмы о Фаусте. Схема в набросках существовала,
видимо, уже со времен разговоров с Шиллером, план продолжения был зафиксирован в
отдельных обозначениях: "Наслаждение жизнью личности, рассматриваемое
извне. Первая часть — в смутной страсти. Наслаждение деятельностью вовне.
Вторая часть — радость сознательного созерцания красоты. Внутреннее наслаждение
творчеством". Здесь содержится уже намек на то, что во второй части
простое наслаждение жизнью сосредоточенного на себе Фауста должно уступить
место деятельному участию в делах мира; речь, видимо, идет также о
размышлениях, связанных с Еленой как воплощенной красотой, и о трудностях, которые
встают на пути к наслаждению такой красотой. Встречу с Еленой поэт,
по-видимому, всегда имел в виду; ведь и в легенде о Фаусте она упоминалась. В
эпоху интенсивных занятий античностью на рубеже веков он снова и снова
возвращался к греческим мифам, связанным с этим образом, так что около 1800
года сцена, посвященная Елене, была в основном уже написана. Но с первой частью
"Фауста", вышедшей в 1808 году, она еще никак не могла быть связана,
как и другие фрагменты второй части, которые к этому времени были, видимо,
запланированы или даже готовы. Мысль о продолжении трагедии никогда не угасала,
но до последовательной работы дело дошло еще не скоро. Могло даже показаться,
что Гёте капитулировал перед трудностью замысла. В 1816 году, начав
"Поэзию и правду", он описал создание первой части, а потом
продиктовал подробный план второй для того, чтобы сообщить хотя бы о
существовании плана. Но затем отказался от мысли его напечатать. После
длительной паузы, когда Эккерман постоянно напоминал ему об этом плане, Гёте
вернулся наконец к незавершенному творению. Прошли годы. Другие планы были для
него важнее. Но начиная с 1825 года дневник пестрит упоминаниями о том, что
Гёте занят "Фаустом".
Он начал с первого
акта, со сцен "Императорский дворец" и "Маскарад", потом перешел
сразу к последнему акту. В 1827 году в 4-й том последнего прижизненного
собрания сочинений был включен позднейший
593
третий акт: «Елена.
Классически-романтическая фантасмагория. Интермедия к "Фаусту"». Но
"предпосылки", согласно которым Фауст приведен к Елене, еще
отсутствуют: в 1828—1830 годах создавалась "Классическая Вальпургиева
ночь". С почти неправдоподобной изобретательностью и изобразительной
силой, которая сохранялась до самых последних лет, Гёте уже в 1831 году с
успехом закончил четвертый акт, рассказывающий о борьбе против враждебного
императора и передаче Фаусту части побережья, где он собирается начать
строительные работы. Наконец, в августе 1831 года была завершена работа над
произведением, сопровождавшим Гёте в течение 60 лет. "И наконец в середине
августа мне уже нечего было с ним делать, я запечатал рукопись, чтобы больше не
видеть ее и не заниматься ею" (письмо К. Ф. фон Рейнхарду). Пусть о нем
судят потомки. И все-таки "Фауст" не отпускает поэта. В январе 1832
года Гёте опять читал его вместе со своей невесткой Оттилией. 24 января он
продиктовал для дневника: "Новые мысли о "Фаусте" по поводу
более основательной разработки основных мотивов, которые я, стремясь поскорее
кончить, дал чересчур лаконично".
Это произведение,
содержащее 12111 стихов, оставляет впечатление неисчерпаемости поэтического
творения. Едва ли нашелся бы интерпретатор, который стал бы утверждать, что
справился с "Фаустом", осознал и освоил его во всех аспектах. Всякая
попытка интерпретации ограничивается усилиями приблизиться, а та краткость, к
которой принужден автор исследования о жизни и творчестве Гёте в целом, сводит
задачу трактовки "Фауста" до уровня отдельных указаний.
"Почти вся
первая часть субъективна", — сказал Гёте 17 февраля 1831 года Эккерману
(Эккерман, 400). Идет ли речь о подлинной цитате или об интерпретации, все
равно эти слова указывают на принципиальное различие между первой и второй
частями "Фауста". Если в первой части доминирует изображение
индивидуальных, характерных, особенных свойств героев драмы, то во второй
субъективность в значительной мере отступает перед игрой, наглядно изображающей
процессы, в которых образы и события превращаются в носителей содержательных и
существенных функций, в самой общей форме представляющих основные феномены
наиболее важных сфер жизни. Но рассказ о развитии природы, искусства, об
обществе, поэзии, красоте, мифологическом освоении истории и пророческих
594
экскурсах в будущее
— это не просто логически построенное повествование с комментариями, это игра в
масштабах мирового театра: сменяя друг друга, проходят ситуации и события,
символический смысл которых показан наглядно и в то же время труднопостижим.
Символы и аллегории, очевидные и скрытые ассоциативные связи пронизывают драму.
Гёте включает в действие фрагменты мифов, изображает новые мифические
обстоятельства. Как будто бы во второй части "Фауста" он стремится
уловить действительное и воображаемое знание о силах, правящих миром вообще и в
его эпоху особенно, и воплотить это знание в многозначных поэтических образах.
Здесь слилось воедино очень многое: уверенная ориентация в мировой литературе,
опыт размышлений о человеке, начиная от идеализированной античной эпохи вплоть
до впечатлений последнего времени, естественнонаучные познания, плод
многолетних трудов. Все это плодотворно претворилось в новую поэтическую
метафорическую вселенную.
Спокойно и уверенно
Гёте оперирует во второй части "Фауста" понятиями пространства и
времени. Вступают в борьбу император и враждебный император, свободно
сочетаются средиземноморская и северная сферы, Фауст отправляется в подземное
царство, вступает с Еленой в брак, от которого родится сын, на берегах
Эгейского моря происходит празднество стихий, а Мефистофель последовательно
принимает облик уродливых контрастных фигур, и финал превращается в
патетическую ораторию метафизических откровений. Богатство образов необозримо,
и хотя поэт создал четко организованную систему ассоциаций, которую можно
расшифровать, однако многозначность в полной мере сохраняется. "Так как
многое в нашем опыте нельзя просто сформулировать и сообщить, то я давно уже
нашел способ, как можно в образах, взаимно отражающих друг друга, уловить
тайный смысл и открыть его тому, кто заинтересован" (из письма к К. И. Л.
Икену от 27 сентября
595
туманом
доброжелательной иронии, либо полны пугающих намеков. Это "довольно
загадочное произведение" (письмо Римеру от 29 декабря
Как всякая
традиционная драма, вторая часть "Фауста" делится на пять актов,
очень неравных по объему. Однако здесь нет обычного драматургического
поступательного движения, где каждая последующая сцена логически вытекает из
предыдущей и причинно-следственная связь событий совершенно очевидна. Целые
комплексы получают самостоятельную ценность как отдельные драмы, сцены
"Императорский дворец", "Маскарад", "Классическая
Вальпургиева ночь", не говоря уже о третьем акте, встрече Фауста с Еленой,
и пятом акте, где Фауст руководит работами, положении во гроб и милосердном
спасении. Движение действия, вообще-то говоря, ощущается четко и связывает
воедино все части драмы, но большого значения оно не имеет, так как прежде
всего служит тому, чтобы локализовать наиболее крупные эпизоды и обеспечить
концентрацию сюжета вокруг фигуры Фауста; ведь его проблемы остаются
по-прежнему в центре внимания, его путешествие через разные сферы реального и
нереального, стремление увидеть и познать в полной мере возможности магии,
которой он себя препоручил. Пари еще не потеряло силу, хотя о нем и мало
говорится, и Мефистофель остается движущей силой, хотя сценарий
596
в игре
мифологических фигур предлагает ему только эпизодические роли. Но все же именно
он приводит Фауста ко двору императора, передает идею "матерям",
доставляет бесчувственного Фауста в его старую лабораторию, а потом в волшебном
покрывале — в Грецию.
"Действие"
разворачивается несколькими крупными фазами. Фауст прибывает ко двору
императора, с помощью бумажных денег ликвидирует его финансовые трудности,
затем на маскараде он должен увидеть явление теней Елены и Париса. Для этого
сначала он должен спуститься к "матерям". Когда желание его исполнено
— ему удалось вызвать тени знаменитой пары, он сам охвачен неутолимой страстью
к всемирному символу красоты, он стремится овладеть Еленой. Попав в Грецию,
пройдя "Классическую Вальпургиеву ночь", он отправляется в Аид, чтобы
выпросить у Персефоны свою возлюбленную (в драме это не показано). Он живет с
ней в Греции в старой средневековой крепости, Эвфорион их общий сын, позднее
Фауст теряет и его, и Елену. Теперь он стремится стать могучим деятельным
властителем. С помощью волшебных сил Мефистофеля он помогает императору
одержать победу над враждебным императором, получает в благодарность земли на
побережье, и теперь его задача — любой ценой отвоевать у моря часть земли. Он
почти достиг вершины власти, но в это время Забота его ослепляет, а затем и
смерть настигает теперь уже столетнего Фауста. Он думает, что слышит, как
рабочие роют канал, но это звук лопат могильщиков. Фаусту предстоит спасение,
Мефистофель терпит фиаско.
В финале первой
части Фауст, потрясенный отчаянием и сознанием своей вины, остается в тюремной
камере Гретхен. "Зачем я дожил до такой печали!" (2, 179) —
восклицает он. В начале второй части он перенесся в "красивую
местность"; он "лежит на цветущем лугу, утомлен, неспокоен и
старается уснуть" (2, 183). Для того чтобы продолжать свои поиски, Фауст
должен перевоплотиться в нечто новое, забыть все происшедшее, возродиться к
новой жизни. В бумагах из наследия Эккермана сохранилась запись высказывания
Гёте: "Если подумать о том, какой кошмар обрушился на Гретхен, а затем
стал и для Фауста душевным потрясением, то мне не оставалось ничего другого,
кроме того, что я действительно сделал: герой должен был оказаться полностью
парализованным, как бы уничтоженным, чтобы затем из этой мнимой смерти
возгорелась новая жизнь. Мне
597
пришлось искать
прибежища у могущественных добрых духов, которые существуют в традиции в образе
эльфов. Это было состраданием и глубочайшим милосердием". Суд над Фаустом
не совершается, не задается вопрос, заслужил ли он такое обновление. Помощь
эльфов состоит только в том, что, погрузив его в глубокий целительный сон, они
заставляют его забыть то, что с ним произошло. От заката до восхода солнца
длится эта сцена, где Фауст в объятиях добрых сил природы находит забвение,
между тем два хора эльфов ведут диалог, прославляя в замечательных стихах
возрождение Фауста в течение этой ночи. Наконец излечившийся Фауст проснулся.
"Опять встречаю свежих сил приливом / Наставший день, плывущий из
тумана" (2, 185). Следует большой монолог, в котором Фауст, полный новых
сил, говорит о том, что он находится "в стремленье к высшему существованью"
(2, 185). Фауст собран, он уже не тот, как когда-то, когда, придя в отчаяние от
ограниченности человеческого познания, он отдался в руки магии, вместо того
чтобы продолжать терпеливое созерцание природы и постепенно проникать в ее
тайны. Такое начало второй части тематически подчеркивает то многообразие
конкретных явлений мира и его метаморфоз, которое предстоит здесь встретить
Фаусту. Он готов вобрать в себя этот мир, открыться и отдаться ему. Правда,
неприятным впечатлением, почти ударом становится для него пламенный поток
солнечных лучей, Фауст вынужден отвернуться: человеку не дано встретиться с
высшим явлением лицом к лицу. Но вид радуги служит утешением: если подумать, то
поймешь, что жизнь есть цветное отражение. Здесь Фауст постигает гётевскую (платоновскую)
истину: "Истинное идентично божественному, постигнуть его непосредственно
мы не можем, мы узнаем его только в отблеске, примере, символе, в отдельных
родственных явлениях" ("Опыт учения о погоде"). Человек не может
прикоснуться к абсолютному, оно находится где-то между туманным и красочным, в
сфере, символом которой является радуга. Фауст постигает это здесь, а потом
забывает вновь. Ему не удается сохранить то стремление к разумности, которое
отразилось в монологе. На путях по миру, который принял его после излечения
сном как мир стабильности и радости ("Все превращается в сиянье рая".
— 2, 185), он вновь охвачен своим безмерным жадным стремлением прикоснуться к
абсолютному. Потом, когда уже слишком поздно, когда
598
Забота собирается
его ослепить, он восклицает: "О, если бы с природой наравне / Быть
человеком, человеком мне!" (2, 417). Предубеждение против
"фаустовского" начала, которое ощущается в первом монологе,
выдержанном в такой "гётевской" манере, полностью снимается этими
словами почти в конце второй части.
Да и вообще целебный
сон в начале второй части, судя по всему, имел для Фауста очень важные
последствия. Похоже на то, что это купанье в росе ("Росой забвенья
сбрызните чело". — 2, 183) лишило его не только истории, но и
индивидуальности. Похоже на то, что герой второй части "Фауста"
выступает всего лишь как исполнитель различных ролей с разными функциями,
которые не объединяются личностью исполнителя так, что это постоянное
противоречие между ролью и исполнителями превращает его в фигуру чисто
аллегорическую. Это недавние открытия исследователей "Фауста", о них
еще пойдет речь.
Существенные слова о
"цветном отражении" можно в связи с "Фаустом" понять и в
более широком контексте как подтверждение необходимости символических и
аллегорических ситуаций, символического характера изображения всех сфер и
происходящих в них событий. Предметное является в символических образах,
многокрасочность и многофигурность "отблеска" открывает новые
просторы для ассоциаций между осознанным и оставшимся в пределах ощущения,
познанным и воспринятым лишь как предмет воображения, "поскольку многое в
нашем опыте невозможно сформулировать и просто сообщить".
Без всякого перехода
следуют в первом акте сцены при дворе императора. Действие вступает в сферу
власти и политики. Империя разрушена, в кассах пустота, на законы никто не
обращает внимания, грозит возмущение подданных, а двор купается в роскоши.
"Страна не ведает ни права, ни справедливости, даже судьи держат сторону
преступников, неслыханные злодеяния совершаются", — разъяснял Гёте
Эккерману 1 октября 1827 года (Эккерман, 544). Мефистофель вместо заболевшего
придворного шута выступает с предложением напечатать банкноты на стоимость
хранящихся в земле сокровищ и раздавать их как бумажные деньги. "В мечтах
о золотой казне / Не попадайтесь к сатане!" (2, 192), — напрасно
предостерегает канцлер. Затронута важнейшая экономическая тема, тема денег. Но
пока заботы империи еще отступают на второй план, начинается маскарад. На сцене
многочис-
599
ленные группы
аллегорических фигур, в них воплощаются силы общественной и политической жизни,
выступая в пестром многообразии явлений разного рода деятельности. Здесь и
Мефистофель в маске Скаредности, и Фауст в роли Плутуса — бога богатства.
Плутус въезжает на четверке лошадей, на козлах мальчик-возница, воплощение
поэзии. "Я — творчество, я — мотовство, / Поэт, который достигает / Высот,
когда он расточает / Все собственное существо" (2, 212). Оба несут благо —
бог богатства и гений поэзии. Но толпа не знает, что делать с их дарами, так же
как и власть имущие, она потеряла чувство меры и порядка, лишь немногие
затронуты творческой силой поэзии. Мальчик-возница бросает в толпу пригоршни
золота из потайного ящичка, но от жадности народ сгорает, лишь для немногих
золото превращается в искры вдохновения. "Но редко-редко где на миг /
Взовьется ярко вверх язык. / А то, еще не разгорясь, / Мигнет и гаснет в тот же
час" (2, 214). В этом мире нет места ни богатству, ни чуду поэзии. И
Плутус-Фауст отправляет мальчика-возницу — который, по словам самого Гёте,
идентичен с образом Эвфориона в третьем акте — прочь из толпы гримасничающих
фигур в уединение, необходимое для творческой концентрации. "Но там, где в
ясности один / Ты друг себе и господин. / Там, в одиночестве, свой край / Добра
и красоты создай" (2, 216).
Переодетый великим
Паном император появляется на маскараде. Стремление к власти и жадность
заставляют его слишком глубоко заглянуть в сундук Плутуса, но тут его охватывает
пламя, маска сгорает, и, если бы Плутус не потушил огонь, начался бы всеобщий
пожар. В этой пляске пламени император увидел себя могучим властелином, и, если
верить Мефистофелю, он в самом деле мог бы достигнуть истинного величия. Для
этого необходимо лишь объединиться еще с одной стихией, стихией воды. Но все
это фантазии и шарлатанство. Мефистофель просто устроил спектакль из разных
сюжетов, как Шехерезада в "Тысяче и одной ночи". Император остается
частью своего общества, для которого правда в данный момент найден сомнительный
выход из положения: во время маскарада император, сам того не замечая, подписал
указ о бумажных деньгах. Таким образом, сцена маскарада — это фантастическая
игра реального и кажущегося, здесь и легкомысленные развлечения толпы и зря
растраченные на нее бесценные сокровища поэзии, мнимое величие и
псевдоспасение. В сумятице этого мира
600
стремление Фауста к
"высшему существованию" не может быть осуществлено. "Я думал
вызвать вас на подвиг новый" (2, 230), — провозгласил император в
эйфорических иллюзиях. Теперь Фауст мечтает вызвать духи Елены и Париса. Эта
мысль смутила даже Мефистофеля, в античном мире его власть кончается. Фаусту
придется самому спуститься к Матерям, только этим советом может помочь
Мефистофель. Таинственная сфера, в поэтических образах она также не получает
никакой определенности. "Могу вам открыть лишь одно, — говорил Гёте
Эккерману 10 января 1830 года, — я вычитал у Плутарха, что в Древней Греции на
Матерей взирали как на богинь. Это все, что мною заимствовано из предания,
остальное я выдумал сам" (Эккерман, 343). Эта сфера, как следует
предположить, находится за пределами пространства и времени, она содержит
субстанции всех потенциальных феноменов, праформы и праобразы всего, что было и
будет, это тайная область творящей природы и хранимых воспоминаний. Вот как это
интерпретировал Эккерман: "Вечная метаморфоза земного бытия, зарождение и
рост, гибель и новое возникновение — это непрерывный и неустанный труд
Матерей". И еще: "А посему и маг должен спуститься в обитель Матерей,
если дана ему его искусством власть над формой существа и если он хочет вернуть
к призрачной жизни былое создание" (Эккерман, 344). Фауст произносит
патетически:
Вы, Матери, царицы на престоле,
Живущие в своей глухой юдоли
Особняком, но не наедине,
Над вашей головою в вышине
Порхают жизни реющие тени,
Всегда без жизни и всегда в движенье.
Все, что прошло, стекается сюда.
Все бывшее желает быть всегда.
Вы эти семена задатков голых
Разбрасываете по сторонам
Во все концы пространства, всем временам,
Под своды дня, под ночи темный полог.
Одни вбирают жизнь в свою струю,
Другие маг выводит к бытию
И, верой заражая, заставляет
Увидеть каждого, что тот желает.
(2, 242)
601
"Тени
жизни" могут стать действительностью в вечно созидающем движении природы,
в струе жизни или в продуктивной фантазии мага, который в первой редакции был
еще "смелым поэтом".
Фауст вызывает к
жизни знаменитую пару, идеальный образец юной красоты перед лицом толпы,
которая не скупится на поверхностные пошлые замечания: мужчины судят Париса,
женщины — Елену. Фауст же захвачен этим явлением прекрасного, которое есть лишь
фикция, магическое воплощение видимости, сохранившийся в воспоминаниях прообраз
красоты. Он хочет дотронуться до идола совершенства, схватить то, что является
только идеей, и снова терпит фиаско. Силой нельзя добиться того, чтобы высшая
форма прекрасного воплотилась в современности. Взрыв бросил Фауста на землю.
Явления исчезли. Но теперь Фауст полон неутолимого желания овладеть прообразом
прекрасного, Еленой: "Узнав ее, нельзя с ней разлучиться!" (2, 248).
Объединение
произойдет еще только в третьем акте, а пока перед нами проходит поток образов
и явлений, наглядно воплощая в "Классической Вальпургиевой ночи"
процессы формирования и трансформации, дух проникает в жизнь (Гомункул),
торжествует становление вплоть до апофеоза в конце, ночного празднества на море
с участием четырех стихий и всепроникающего Эроса. Давний ученик Фауста Вагнер
стал между тем обладателем многих ученых званий и создал в своей лаборатории в
реторте химического человечка Гомункула. Из позднейшего комментария Римера (30
марта
602
киаду; Гомункул
погружается в море, как стихию жизни, разбивается о колесницу Галатеи и включается
в водоворот жизни: "Плывет огонь то сильней, то слабее, / Как будто
приливом любви пламенея" (2, 316). А Фауст отправляется в подземное
царство, чтобы освободить Елену. Подобно тому как Гомункул, духовная самоцель,
погружен в вечный процесс превращения — умри и возродись, — так и Фауст должен
опуститься в глубину веков, где сохраняются метаморфозы того, что было, и
образы вечных воспоминаний всех явлений, в том числе и духовных, к числу
которых относится Елена. Ведь как знаменитый символ красоты Елена существует
только в мыслях и в воображении. Но это воспоминание о прекрасном идеале
основано на тех же законах, что и праздник становления природы в Эгейском море.
Так волшебство
творческого действия Вальпургиевой ночи незаметно переходит в сюжет Елены. Как
будто ее привела Галатея, она появилась на берегу, "еще от корабельной
качки пьяная" (2, 317). Звучная речь Елены воспроизводит ритм античного
стиха. Елена действует как драматургически реальный образ. Но уже в первых ее
словах сочетание противоречий: "Хвалой одних, хулой других
прославлена", в котором возникает ощущение многовековой традиции и сам
образ воспринимается как чистый продукт воображения, образ, существующий только
в человеческом представлении, то как идеал, то как объект осуждения. Теперь она
вернулась в Спарту вместе с пленными троянками в страхе перед местью Менелая.
Мефистофель в уродливом обличье домоправительницы советует бежать, в
средневековой крепости Елена встречает Фауста, который во главе войска захватил
Спарту. Обычные соотношения пространства и времени отсутствуют; северное
средневековье перемешано с античностью. Все, чего можно было бы мысленно
пожелать, превращается здесь в событие. Язык обоих приобретает однородность,
как бы подчеркивая то, что они нашли друг друга. Елена говорит немецким
рифмованным стихом:
Елена. Я далеко и близко вместе с тем
И мне легко остаться тут совсем.
Фауст. Дышу едва, забывшись, как во сне,
И все слова претят и чужды мне.
Елена. На склоне дней я как бы родилась,
В любви твоей всецело растворясь.
603
Фауст. Не умствуй о любви. Какой в том толк!
Живи, хоть миг живи. Жить — это долг!
(2, 347—348)
Казалось бы, что миг
высшего существования достигнут и он станет длительным счастьем. В восторженных
стихах, полных сентиментальной тоски северянина, Фауст воспевает прекрасный
южный ландшафт. Античность является как аркадская идиллия, воспринятая в
современной перспективе. Елена также выступает как объект рефлексии и
созерцания, а не как реальная фигура. А Фауст как будто бы обрел покой. Но этот
покой не может быть длительным, так как античность не может существовать в
современной реальности. И Фауст не может надолго сохранить (иллюзорное)
сознание того, что обрел наконец совершенную красоту. Смерть Эвфориона, сына
Елены и Фауста, становится знаком того, что их союз будет разрушен. Эвфорион
стремился взлететь к непреложному, но разбился, продемонстрировав еще раз блеск
и дерзость поэтического гения, который забывает, что жизнь — это лишь радужный
отблеск и что не может существовать соединение северного со средиземноморским,
античного и современного. Густую сеть ассоциаций, переплетение значений здесь
можно видеть особенно отчетливо. Эвфорион мог бы воскликнуть, как
мальчик-возница: "Я — творчество, я — мотовство, / Поэт, который достигает
/ Высот..." (2, 212), но в то же время он является воплощением идеи
крушения Фауста. В этом образе прочитывается также посмертное прославление
Байрона, которому посвящены и слова хора. Елена также исчезает: "На мне
сбывается реченье старое, / Что счастье с красотой не уживается. / Увы, любви и
жизни связь разорвана" (2, 364). Фауст разочарован, но теперь ему
предстоит испробовать силу власти и активной деятельности.
Современная наука о
"Фаусте" открыла новые перспективы в исследовании этого многослойного
творения, допускающего к тому же большое количество разных трактовок. Мы
ограничимся здесь попыткой дать приблизительное представление об этом, не имея
в виду разбирать фундаментальные методологические исследования, весьма
многочисленные и сложные. Тем более, конечно, мы не претендуем на то, чтобы
дать им оценку. Так, например, Гейнц Шлаффер в своей работе ("Фауст".
Часть вторая. Штутгарт, 1981) предпринял попытку рассмотреть вторую часть
604
"Фауста"
на фоне конкретных экономических условий и уровня сознания в эпоху его завершения.
В основе такой точки зрения лежит мысль, что Гёте действительно считал своей
главной темой проблемы буржуазной экономики и жизненные формы эпохи. Он ведь и
сам не раз говорил, что его поэтические образы рождаются в живом созерцании и
сохраняют связь с миром опыта. Если исходить из того, что в 30-е годы XIX века этот опыт определялся развитием индустриализации и значение
товарного обмена все больше проявлялось в общественных отношениях, то
становится ясно, что воплощение всех этих тенденций в поэзии лучше всего может
быть осуществлено посредством поэтического языка, который тоже
ведь основан на замене. А именно на аллегории. С давних пор принципом ее
создания является соотнесение элементов какого-то образного ряда с их точными
соответствиями из иной чувственной сферы. Пользуясь этим критерием, можно,
например, сцену маскарада, танец масок, за внешним обликом которых скрываются
определенные образы, интерпретировать как рынок, институт обмена. Именно так
организованы эти сцены, и сам текст подсказывает такую трактовку аллегорий.
Недаром ведь мальчик-возница говорит, обращаясь к герольду: "Веря, что
герольд опишет / То, что видит он и слышит. / Дай, герольд, в своем разборе /
Объясненье аллегорий" (2, 211). Некоторые из аллегорий сами дают свое истолкование,
как, например, оливковая ветвь: "Я по всей своей природе / Воплощенье
плодородья, / Миролюбья и труда" (2, 198). Задачей интерпретации
аллегорического текста является, по-видимому, расшифровка значения
иносказательных образов. В поздние эпохи античности таким образом раскрывали
творчество Гомера, в средние века стремились понять многозначительный смысл
Библии. Подобный подход ко второй части "Фауста" не предлагает
аспектов морального характера или тезисов вероучения. Здесь за театральными
фигурами стоят реальные процессы и сценическая композиция отражает определенные
исторические обстоятельства. Правда, в сцене "Маскарад" расшифровка
образов сравнительно проста, но она значительно усложняется там, где образы
трагедии становятся более конкретными благодаря точному соотнесению с
мифологическими персонажами, а проблематика, наоборот, более абстрактной и
многозначной. Наибольшую трудность для интерпретации во второй части
"Фауста" представляет именно сочетание символики, аллегории
605
и того, что надо
понимать буквально, и часто требуется детальный анализ каждой строки, каждого
оборота речи, чтобы путем такой скрупулезной работы расшифровать заключенный в
них смысл.
Аллегорическая
искусственность вполне соответствует характеру сцены "Маскарад". Эта
сцена ведь не отражает естественной жизни, а воспроизводит художественную игру
вроде римского карнавала или флорентийских празднеств. Эта задача требует
специфической формы. Замаскированные фигуры оценивают свои роли как бы со
стороны, для этого необходима дистанция. Вот, например, слова дровосеков:
"Зато бесспорно / Без нас и дюжей / Работы черной / Замерзли б в стужу / И
вы позорно" (2, 201). На маскараде особое значение имеет нарядность, при
продаже товаров нечто подобное также имеет значение для успешной торговли. Здесь
соотношение перевернуто: товар как будто бы не является продуктом труда
садовниц, наоборот, они сами представляются атрибутом товара. Человек
опредмечивается, а предмет очеловечивается. Говорящие предметы искусства
действуют по тем же законам, что и садовницы. Лавровый венок служит пользе.
Фантастический венок признает свою неестественность. Искусственной,
неестественной ощущается также и видимость природного, которую имеют товары на
рынке. Их располагают так, чтобы листва и проходы напоминали сад. Насколько
заинтересованность в товарном обмене определяет характер фигур и деформирует
их, становится особенно ясно на примере матери, для которой этот рынок —
последняя надежда по дешевке сбыть с рук свою дочь: "Хоть сегодня не глупи
/ И на танцах подцепи / Мужа-ротозея" (2, 201). Нарядность и
приукрашенность создают видимость, которая должна повысить обменную стоимость
товаров. Их действительная ценность отступает, возникает вопрос, существует ли
она еще вообще и не относится ли ко всей сцене предостережение герольда по
поводу золота Плутуса-Фауста: "Вам видимость понять? / Вам все бы пальцами
хватать!" (2, 217).
Так же как предметы,
превращаясь в товары, теряют свои естественные свойства, так и сфера
производства вообще теряет всякую наглядность. Физический труд еще ощущается у
садовников и упоминается дровосеками. Абстрактным воплощением физического труда
выступает слон, которого ведет Разумность, аллегория духовной деятельности. Как
иерархическая пара умственный и физический труд работают рука об
606
руку, но цели своей
деятельности определяют не они, а аллегория победы:
Женщина же на вершине,
Простирающая крылья,
Представляет ту богиню,
Власть которой всюду в силе.
Светлая богиня дела,
Преодолевая беды,
Блещет славой без предела,
И зовут ее победой.
(2, 209)
Виктория (победа)
превратилась в символ экономических успехов. Так же как буржуазный строй в
первое время после победы пользовался старыми, добуржуазными формами власти,
помогавшими ему укрепить свое господство, так здесь насмешливая Зоило-Терсит
замечает у Аллегории победы признаки (новых) денег и (старой) власти. "Ей
кажется, что ей всегда / Должны сдаваться города" (2, 209). Эта связь
старого и нового осуществляется в соотнесении сцен "Императорский дворец.
Тронный зал" и "Маскарад". Старый феодальный мир находится в
состоянии кризиса, симптомом которого является отсутствие денег в империи, а
истинные, глубинные причины заключаются в абсолютном господстве частной
собственности и частных интересов.
Теперь в любом владеньи княжьем
Хозяйничает новый род.
Властителям мы рук не свяжем,
Другим раздавши столько льгот.
На всех дверях замок висячий,
Но пусто в нашем сундуке.
(2, 189—190)
Если сначала
производство превратилось в абстрагированную деятельность, потом деятельность
трансформировалась в прибыль, то на последнем этапе осуществляется
окончательное перерождение и разрушение понятия конкретного труда, который
растворяется в деньгах и золоте. Эта высшая точка, если принять наше прочтение,
воплощена в образе Фауста-Плутуса, бога богатства. Он, как и Виктория,
связывает свою экономическую власть с представлением о феодальной роскоши. С
этой точки зрения перетрактовка мифологи-
607
ческих персонажей
Виктории и Плутуса в аллегории буржуазной экономики связывает эти образы с
совершенно определенным смыслом: в абстрагированном виде они представляют
победоносный принцип денег. Эта победа абстракции продемонстрирована и тем, в
какой форме появляются деньги. При императорском дворе существуют еще скрытые
сокровища в виде "золотых мисок, кастрюль и тарелок", то есть
предметов, которые помимо своей обменной имеют еще и реальную ценность. В
противоположность этому деньги, брошенные Плутусом толпе, оказываются чистой
видимостью, которая обнаруживает себя в том, что это бумажные деньги,
"бумажный призрак гульдена". Власть денег, возникшая в товарных
отношениях, уничтожает власть феодального государства, которая основана на
землевладении и отношениях личной зависимости. В конце сцены маскарада
император в маске Пана сгорает над источником Плутуса: "Образчик роскоши былой
/ К заре рассыплется золой" (2, 224). Таким образом, главными темами сцены
"Маскарад" можно считать капитал, товар, труд и деньги. Но парки
напоминают о смерти, фурии — о человеческом страдании, которое несет с собой
товарообмен. "Ты пожнешь, что ты посеял, / Не помогут уговоры" (2,
207). Против Виктории, представляющей экономические успехи, выступает Клото с
ножницами в руках. Это указание на ограниченность возможностей и внутренние
противоречия нового общества, которые проявляются как результат необратимого
процесса исторического развития.
Насколько образ
Елены также является продуктом современного сознания, видно из того — об этом
отчасти уже говорилось, — что он существует только как предмет воображения. С
его мифологическим происхождением нет никаких связей — изображение античности
до такой степени проникнуто современным ощущением, что воспринимается только
как время воспоминаний. Фауст смог завоевать Елену потому, что в качестве
полководца лучше вооруженного войска он победил армию древней Европы. Землю
классической культуры в ее основе сотрясает Сейсмос — аллегория Французской
революции. После того как античный миф уничтожен, так сказать,
реально-политически и действенность его традиции поставлена под сомнение, им
можно наслаждаться, как аркадской идиллией, утопией, реконструированной в своем
историческом облике. Во всяком случае, она становится предметом освоения
608
субъектов, которые
ею занимаются: древность возрождается под знаком современности, будь то в
научном или в художественном смысле. Современная мысль, ощущая свое
несовершенство и в какой-то мере страдая от этого, вновь вызывает к жизни
античность и ее идеальное воплощение — Елену. Примечательно, что она не может
вернуться "В этот древний, украшенный заново / Отчий дом" (2, 321), а
находит прибежище во внутреннем дворе замка, поскольку она только предмет
рефлексии и созерцания. В коллекции Фауста она представляет собой всего лишь
абстрактную идею красоты, низведенную до аллегории, аллегорического мышления.
Она может рассматриваться также и как воплощение искусства, которое связано с
общественными отношениями, основанными на абстрактной обменной ценности, и
пытается выразить чувственно-видимое в форме понятийно-невидимого. В руках
Фауста в конце концов остаются только шлейф и одежды, те самые атрибуты,
которые обычно свойственны аллегории.
Из этих указаний
должно стать ясно, как широк круг проблематики инсценировки и осуществления
этой могучей драмы. Какие-то усечения при этом неизбежны. Здесь должно быть
отражено все богатство значений в своей художественной полноте и многообразии
точных деталей, вместе с тем должен ярко выступать весь комплекс идей,
соединяющий многозначность с таким поэтическим отражением, которое дает пищу
для рефлексии. К тому же необходимо зрелое поэтическое мастерство, способное
управлять прямо-таки необозримым разнообразием метрических форм и найти
адекватное языковое выражение для каждого образа, каждой сцены этого
гигантского создания: античные триметры, барочный александрийский стих, стансы,
терцины, вставки мадригала, рифмованный короткий стих.
"Одежды Елены
превращаются в облака, окутывают Фауста, подымают его ввысь, уплывают с
ним" (2, 365). На высоком горном хребте облако опускается. Еще раз
является Фаусту в облаках "Фигура женщины / Красы божественной" (2, 369).
"О благо высшее, / Любовь начальных дней, / Утрата давняя /" (2,
369). Возникает воспоминание о Гретхен, пробуждая "всю чистоту мою, / Всю
сущность лучшего" (2, 370). Мефистофель, давно уже сбросивший маску
Форкиады, появляется вновь с соблазнительными предложениями. Но Фауст стремится
теперь только к большим делам:
609
"О нет. Широкий
мир земной / Еще достаточен для дела. / Еще ты поразишься мной / И выдумкой
моею смелой" (2, 374). Он хочет отвоевать у моря полезную землю: "Вот
чем я занят. Помоги / Мне сделать первые шаги" (2, 375). В очень поздно
написанном четвертом акте вновь возникает государственная и политическая
проблематика, так же как это было в первом. Сюда вошло многое из того, что Гёте
знал и воспринял критически о власти и ее осуществлении, достойное подробного
разбора. С помощью Мефистофеля Фауст помогает императору, превратившемуся между
тем в зрелого правителя, победить враждебного императора. В новой империи он
получает в награду то, к чему стремился, — полоску прибрежной земли. Теперь он
может осуществить идею власти и деятельной жизни, как он мечтал на горном
хребте.
Между событиями в
четвертом и пятом актах прошли десятилетия. Фауст достиг солидного возраста, по
свидетельству Эккермана (запись от 6 июня
Пламя странное ночами
Воздвигало мол за них.
Бедной братии батрацкой
Сколько погубил канал!
610
Злой он, твой строитель адский,
И какую силу взял!
Стали нужны до зарезу
Дом ему и наша высь!
(2, 408)
Призрачно
устрашающей кажется концентрация сил, помогающих Фаусту, в этой картине легко
узнать аллегорию индустриального труда.
Вставайте на работу дружным скопом!
Рассыпьтесь цепью, где я укажу.
Кирки, лопаты, тачки землекопам!
Выравнивайте вал по чертежу!
Награда всем, несметною артелью
Работавшим над стройкою плотин!
Труд тысяч рук достигнет цели,
Которую наметил ум один!
(2, 420)
Эти призывы Фауста создают
картину труда, которая похожа на аллегорическое изображения Виктории в сцене
"Маскарад". Там умственная работа в образе Разумности возвысилась над
физическим трудом в образе слона, и обе оказались на службе Виктории,
"светлой богини дела", "власть которой всюду в силе" (2,
209).
Призванные как
работники появляются лемуры: "Из жил, и связок, и костей скроенные
лемуры" (2, 420). Они представляют собой чисто механическую силу, умения,
необходимые для труда: "Но для чего ты звал нас всех, / Забыли землемеры"
(2, 420). Безликость, отсутствие всякой индивидуальности, в то же время умелый
интенсивный труд лемуров, а также то, что они выступают в массе, воспринимаются
как свойства промышленного фабричного труда. Фауст, который создает планы и
обеспечивает их осуществление, выступает в роли инженера и предпринимателя:
Усилий не жалей!
Задатками и всевозможной льготой
Вербуй сюда работников без счету
И доноси мне каждый день с работы,
Как продвигается рытье траншей.
(2, 422)
611
Фауст осваивает
землю на свой манер. Он разрушает природу (липы на плотине) и культуру
(маленькая капелла), разрушает жилище Филимона и Бавкиды. Правда, их гибель ему
неприятна. Он ругает Мефистофеля: "Я мену предлагал со мной, / А не
насилье и разбой" (2, 415). Однако ход действия показывает, что нет
большой разницы между тем и другим. В конце концов Фауст как будто бы уничтожил
и историю, и природу: "И уходит вдаль с веками / То, что радовало
взгляд" (2, 414). Воцарение новой формы труда и его жертвы представляются,
таким образом, центральной темой второй части "Фауста". И только в
одном-единственном месте "Классической Вальпургиевой ночи" появляется
намек на возможность какого-то изменения хода истории. После спора между
аристократами-грифами и пигмеями — аллегорией буржуазии муравьи и дактили
должны добывать в горах руду и золото для богатых пигмеев. В нескольких
строчках такому, казалось, неизменному положению дел противопоставлено что-то
вроде исторической перспективы: "Как быть? Спасенья / Нет никакого. / Мы
роем руды. / Из этой груды / Куются звенья / Нам на оковы. / До той минуты, /
Как, взяв преграды, / Мы сбросим путы, / Мириться надо" (2, 287). Эта
надежда противоречит направлению деятельности Фауста. Свой утопический призыв в
финале: "Народ свободный на земле свободной / Увидеть я б хотел в такие
дни!" (2, 423) — Фауст произносит ослепшим, уже поэтому он воспринимается
как иллюзия.
Можно привести
отдельные примеры того, как Гёте пытается хоть что-то противопоставить
уничтожению естества природы и холодной расчетливости победоносных современных
тенденций. В "Маскараде" в хоровод продуктов попадают бутоны роз. Они
единственные не подчиняются законам пользы и искусственности. "В это время
с ними в лад / Дышат клятвы и обеты, / И огнем любви согреты / Сердце, чувство,
ум и взгляд" (2, 199). Бутоны роз бесполезны и естественны. Они выполняют
свое предназначение и взывают к человеческой сущности, волнуя "сердце,
чувство, ум и взгляд". В драме есть целый ряд подобных противопоставлений.
Если Плутуса считать символом товарооборота, то Протей символ жизни, Гомункул
возникает дважды, сначала искусственно, потом естественно; море, которое
подарило ему жизнь, не похоже на то море, которое Фауст позднее использует как
торговый путь и готов потеснить. Но природа не выдер-
612
живает натиска современного
развития, абстрактного мира ценностей, предназначенных для обмена: бутоны роз
тоже становятся в нем товаром садовниц; морские чудеса и нереиды, на празднике
Эгейского моря прославляющие возвращение природы, — всего лишь игры, которые
устраивает Мефистофель для императора, и в конечном счете все картины природы —
всего лишь аллегория. Итак, природа появляется только для того, чтобы
подчеркнуть свою слабость, свое постепенное исчезновение. Возможно, что в
образах женственности должны возникнуть прославления естественного — в Галатее,
в божественном облике женщины в облаках, в видениях Фауста, вплоть до последних
стихов Мистического хора: "Вечная женственность / Тянет нас к ней"
(2, 440).
В последнем акте
Фауст предстает в двойном освещении трагической иронии. Появляются четыре седые
женщины: Нехватка, Вина, Нужда и Забота, только последней удается к нему
приблизиться. Именно она, которую в первой части Фауст гнал как постылое
явление ограниченности, требует теперь отчета. Она показывает Фаусту его жизнь
в тусклом свете эгоистической спешки ("О если бы мне магию забыть!" —
2, 417) и все равно не может заставить его прервать этот бег: "В движеньи
находя и ад, и рай, / Не утомленный ни одним мгновеньем" (2, 419). Забота
ослепляет его, но тем более страстным становится его стремление продолжать
начатое дело. В последнюю минуту жизни Фауст говорит о своей утопической мечте
великие слова:
Народ свободный на земле свободной
Увидеть я б хотел в такие дни.
Тогда бы мог воскликнуть я: "Мгновенье!
О как прекрасно ты, повремени!
Воплощены следы моих борений,
И не сотрутся никогда они!"
И это торжество предвосхищая,
Я высший миг сейчас переживаю.
(2, 423)
Это уже не тот
Фауст, который в своем стремлении к власти, не задумываясь, пользуется магией и
грубой силой, но теперь он слеп и не воспринимает созданных им, уже необратимых
реальностей. Утопическая мечта.
613
Чтобы претворить ее
в реальное действие, надо было бы начать жизнь сначала, другую жизнь. Свой высший
миг Фауст переживает только в стремлении, в мечте о будущем. Здесь
произносятся, правда, слова давнего пари, и Мефистофель видит себя победителем,
но это весьма скромная победа. "Мефистофель победил не более чем
наполовину, и, хотя половина вины лежит на Фаусте, сразу вступает в силу право
"старика" оказать милосердие, и все заканчивается ко всеобщему
удовольствию" (письмо к Ф. Рохлицу от 3 ноября
Гёте долго размышлял
над тем, как изобразить это в финале, сделал много набросков. Наконец он
придумал сцену "Горные ущелья", в которой "бессмертная сущность
Фауста" — "энтелехия", органическая сила Фауста, как сказано в
одной из рукописей, — постепенно возносится вплоть до границы земного, где
открывается доступ в "высшие сферы". "Монада энтелехии
сохраняется только в безостановочной деятельности, если эта деятельность
становится ее второй натурой, то ее достанет на вечные времена" (письмо к
Цельтеру от 19 марта
614
Гёте вводит образы
христианской мифологии, ведь для этого спасения необходимы любовь и милосердие.
Здесь действуют не Господь и архангелы из "Пролога на небе", а
кающиеся грешницы, среди них Гретхен. Они молятся за "бессмертную
сущность" Фауста, появляется Богоматерь.
Финал
"Фауста" ставит огромное количество вопросов, и драма оставляет их
открытыми. Однозначный ответ может лишь все запутать. Сказано только то, что
Дух благородный зла избег,
Сподобился спасенья;
Кто жил, трудясь, стремясь весь век, —
Достоин искупленья.
(Перевод Н. Холодковского)
И еще:
Здесь — заповеданность
Истины всей.
Вечная женственность
Тянет нас к ней.
(2, 440)
Какие основания этот
эпилог дает для того, чтобы представить себе перспективы финальной утопии
Фауста и всего произведения вообще, — на этот счет можно только высказывать
предположения. Потому ли вечной женственности дается шанс спасения, что в ней
сокрыты неисчерпаемые, исцеляющие силы, что она неподвластна искажениям?
Стремится ли Гёте, возвышая вечную женственность, показать таким образом как бы
в чистом виде достойную преклонения материнскую сущность и чистоту
традиционного представления о женщине, которое он выводит из реальной сферы в
сферу метафизическую и сакральную? А может быть, спасение человека возможно
только тогда, когда женщина и мужчина осознают свое гуманное предназначение и
объединят свои способности в стремлении ввысь и друг к другу? К размышлениям
побуждают и развернутые в драме картины истории : следует ли считать, например,
что, предоставляя "милости божьей" решение ситуации в финале драмы,
Гёте тем самым выражает сомнение в судьбах исторического прогресса? Или это
признак сознательного возвращения надежд Фауста в область прекрасной видимости?
Или
615
образное выражение
надежды, что и в действительном мире также возможно примирение? Как и во многих
местах драмы, читатель здесь вновь имеет основания вспомнить слова, написанные
Гёте Цельтеру 1 июня 1831 года: в "Фаусте" все задумано так,
"что все вместе представляет откровенную загадку, которая снова и снова
будет занимать людей и давать им пищу для размышлений".
616
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
Жизнь в садовом домике и в Дорнбурге
Когда 12 мая 1827
года Гёте поехал в свой садовый домик у Штерна, он собирался провести в дорогом
его сердцу месте не больше одного часа. Но весенний ландшафт был так несказанно
прекрасен, что я остался, сам того не желая" (письмо Цельтеру от 24 мая
Этот цикл — одна из
вершин лирики старого Гёте, основу которой составляет символическое изображение
собственных представлений о жизни и о мире, включающее то, что он говорил о
"чувственно-нравственном воздействии" цветов, о подражании дальне-
617
восточной поэзии.
Многое кажется непосредственно навеянным созерцанием ландшафта сада и в то же
время насыщенным мотивами древнекитайской лирики, где цветы и их окраска имеют
символическое значение.
Словно белых лилий свечи,
Словно свет звезды прекрасной,
Жжет из глубины сердечной
Жар любви в каемке красной.
Это ранние нарциссы
Стройно стебли распрямляют.
И кого-то с мыслью чистой
Терпеливо ожидают.
(Перевод А. Гугнина)
Кого ожидают
нарциссы, остается недосказанным, легкий намек вообще составляет особую
прелесть этих китайско-немецких стихотворений. Скорее всего, цветы ждут своего
друга и исследователя, но также и благословения грядущих времен, лета, времени
жизни, это тоже ощущается в стихах старого поэта.
Одно из самых
прелестных стихотворений цикла кажется воспроизведенным в словах
древнекитайским рисунком. То, что звучит так "по-гётевски": мотивы
тумана, отражения в озере (это знакомо уже с 1775 года, со стихотворения
"На озере") и луны, — все это также хорошо известно и в
древнекитайской поэзии. 31 января 1827 года он рассказал Эккерману, что только
что прочел китайский роман, который вовсе не так "чужд нам, как можно было
предположить. Люди там мыслят, действуют и чувствуют почти так же, как мы, и
вскоре тебе начинает казаться, что и ты из их числа" (Эккерман, 217). В
стихах часто фигурирует луна, но свет ее не меняет ландшафта, при луне светло
как днем. Когда Гёте в своих стихах употребляет слово "луна", то это,
помимо прочего, ощущается и как реминисценция из лирики рококо, которая
пользовалась им столь же часто, как словом "месяц". В стихах позднего
Гёте собственные темы и приемы часто сочетаются с мотивами из мировой поэзии, в
виде особой игры он использует здесь также элементы своей ранней лирики.
Сверху сумерки нисходят,
Близость стала далека,
В небе первая восходит
618
Золотистая звезда.
Все в неверность ускользает,
Поднялась туманов прядь,
Сумрак темный отражает
Озерная сонно гладь.
Вот с восточного предела
Ожидается луна.
С ивой стройною несмело
Шутит близкая волна;
Сквозь теней круговращенье
Лунный свет то там, то сям —
И прохлада через зренье
Проникает в сердце к нам.
(Перевод М. Кузмина — 1, 454)
Летом 1829 года Гёте
снова прожил месяц в садовом домике. Может быть, он хотел какое-то время побыть
вдали от постоянных споров между сыном и невесткой в своем собственном доме.
Эти отношения очень его угнетали, но ничего нельзя было в них изменить. В саду
он жил спокойно, сохраняя связи с привычной жизненной средой. Здесь он, как
всегда, делал каждый день намеченную работу, его посещали знакомые, кое-кого из
гостей он принимал. Англичанин Робинзон записал в своем дневнике 18 августа
1829 года: "...это всего лишь домик. Гёте живет здесь в маленьких
комнатках почти без мебели, гостей принимает в определенное время дня. Чужие
должны сначала предстать перед его невесткой, это избавляет его от неприятных
сюрпризов". И все же из круга обычных рабочих дел он мог вырваться только
на несколько недель. Так было уже и в 1827 году, когда месяц спустя он
возвратился в свою "литературно-артистическую среду" в доме на
Фрауэнплан. Было прямо-таки забавно видеть, как много всего накопилось в саду
за четыре недели пребывания там, писал он Цельтеру 17 июля 1827 года. Маленький
домик в парке он опять полюбил. В 1830 году он приказал поставить белую
калитку, известную теперь каждому туристу. Она была сделана по проекту Кудрея.
Тогда же площадка перед входом была выложена каменной мозаикой по образцу
Помпеи. Последнее упоминание в дневнике датировано 20 февраля 1832 года:
"Ездил в нижний сад. Пробыл там несколько часов".
619
14 июня 1828 года,
возвращаясь из Берлина, во дворце Градиц близ Торгау внезапно умер Карл Август.
Сначала Гёте должен был принять участие в подготовке придворных траурных
торжеств, требовавших многих усилий. Он был глубоко потрясен потерей человека,
с которым всего три года назад, во время празднования юбилея в 1825 году, растроганный
и благодарный, вспоминал прожитые вместе десятилетия, не думая о размолвках,
бывавших между ними. 9 июля состоялось погребение эрцгерцога в фамильной
усыпальнице. Но старого друга уже не было в охваченной печалью резиденции. Он
хотел остаться один. Еще 7 июля он удалился в Дорнбург — дворец, возвышавшийся
на холме в долине реки Заале недалеко от Йены, "чтобы избежать выполнения
мрачных функций, которые, как это принято испокон века, должны в символическом
виде продемонстрировать толпе, что она в данный момент потеряла, а в этом
случае она и так безусловно потрясена" (письмо Цельтеру от 10 июля
620
шельника,
предающегося странным размышлениям", продиктованный тайным стремлением
оправдать свое отсутствие в Веймаре, стал своеобразным памятником умершему.
Долго задумчиво созерцая и затем описывая упорядоченный, тщательно
обработанный, культивируемый многими поколениями ландшафт, Гёте осмыслял его
как символическую аналогию к деятельности Карла Августа и как знак напоминания
для его последователей: "Это послужило мне своеобразным утешением, в
основе которого не было каких-то соображений или аргументов; здесь сам предмет
содержал все то, что так отрадно опечаленной душе: разумный мир из поколения в
поколение неизбежно занят необходимой деятельностью" (18 июля
В Дорнбурге он
оставался до 11 сентября. Производил метеорологические наблюдения и записывал
их, занимался декоративными и полезными растениями в садах, "более
подробно изучал виноградарство", пытался создать "схему
виноградарства" (дневник от 4 и 8 августа
В двух
стихотворениях с необычайной выразительностью воплотилось настроение этого
дорнбургского времени. В стихотворении "К восходящему месяцу" и в
этом:
В час, как с дола, с сада ранью
Пелены туманов свиты,
Страстнейшему ожиданью
Чашечки пестро раскрыты.
621
Как эфир, носящий тучи,
Ясный день за крылья ловит,
И с востока ветр могучий
Солнцу синий путь готовит.
Благодарность, упиваясь,
Коль воздашь Великой, Нежной,
Луч, багряно расставаясь,
Круг озолотит безбрежный.
(Перевод А. Кочеткова [1,526])
Вновь одно из тех
созерцательных и в то же время наполненных размышлениями стихотворений, где
есть точные наблюдения, те же, что трезво зарегистрированы в метеорологических
записях, и где конечная строфа, сделав едва заметный поворот, призывает к
правильному человеческому восприятию жизни, которое одно только и может
обеспечить хорошее окончание дня. Солнцу, источнику света и жизни следует быть
благодарным, оно приводит в порядок ощущение мира, в который автор этих стихов
несокрушимо верит, хотя и знает, что такое отчаяние. Стихотворение,
прославляющее порядок дня и жизни, где одна фраза охватывает и надежду, и
осуществление, которое, правда, возможно только тогда, когда человек целиком
открыт для жизни во всей ее полноте, готов ее принять и вобрать в себя. Здесь
Гёте опровергает свои давние безутешные стихи "К Вертеру": "Тебе
— уйти, мне — жить на долю пало. / Покинув мир, ты потерял так мало!" (Перевод
В. Левика — 1, 443).
Вклад старого Гёте в дискуссию естествоиспытателей
Не только обстановка
жизни в Дорнбурге, окруженном садами и виноградниками, активизировала интерес
Гёте к естественнонаучным занятиям летом 1828 года. Уже 10 июля он сообщал, что
"с некоторых пор вести, поступающие из-за границы, побуждают его обратиться
вновь к естественным наукам" (Цельтеру). Он познакомился с новой книгой
ботаника де Кандоля, поднимавшей принципиальные методические вопросы. Главным
был вопрос об определенности и возможностях применения аналитического и
синтетического метода. Во вступлении женевский ученый относил Гёте к числу тех
исследователей, которые воспринимают природу априори, в то время как сам он
считает более пра-
622
вильным начинать с
наблюдения частностей. Гёте, который вместе с Фредериком Соре давно уже
планировал французское издание "Метаморфозы растений", решил теперь
предпринять немецко-французское издание с добавлением глав, где он мог бы
осветить свою позицию, поскольку он не был приверженцем односторонних методов
исследования. "Это все то же постоянно обновляющееся в борьбе и
неосознанной взаимопомощи, необходимое в теории и практике аналитическое и
синтетическое взаимодействие, полное равновесие в котором всегда будет целью
стремлений и никогда не будет достигнуто" (письмо к Ф. Соре от 2 июля
Летом 1830 года Гёте
вновь оказался втянутым в принципиальные дискуссии. В Парижской академии наук
разгорелся спор между Этьеном Джофруа де Сент-Илером и Жоржем Кювье о
возникновении видов и получил широкий резонанс, тем более что Джофруа
посредством публикации сделал его достоянием общественности. В основе диспута
были принципиальные методические вопросы, а это больше всего интересовало Гёте.
Уже имея соответствующую информацию
623
из французских
газет, он вскоре прочитал книгу Джофруа "Принципы философии
зоологии". "Спор между двумя группами естествоиспытателей,
анализирующими и синтезирующими... Продолжал читать упомянутую выше французскую
книгу, и то, что много лет назад происходило в Германии, ожило в памяти"
(Дневник, 22 июля
624
То, что когда-то
обсуждалось с Шиллером по поводу идеи и опыта, то, что в его размышлениях об
истории науки отразилось в противопоставлении аналитического и синтетического
начал, универсализма и индивидуализма как принципов, вновь оказалось в центре
внимания, в последний раз он
сделал попытку показать два разных образа мышления в едином, нерасчленимом жизненном
акте, в котором полярность не есть непримиримое противоречие, а представляет
собой осмысленное взаимодействие. В подводящем итог, глубоком отрывке из
письма, написанного за месяц до смерти, вновь говорится о том, почему для него
так важна эта взаимосвязь. Он писал Сульпицу Буассере 25 февраля 1832 года:
"Я всегда старался постичь все познаваемое, узнаваемое, применимое и
достиг в этом смысле чего-то, что удовлетворяет меня и заслужило одобрение
других. Так я дошел до своего предела, я начинаю верить там, где другие
приходят в отчаяние, потому что слишком многого ждут от познания и, достигая
того уровня, который вообще назначен человеку, готовы пренебречь прекраснейшими
человеческими ценностями. Так человек вынужден двигаться от целого к единичному
и от единичного к целому, хочет он этого или нет". Тот, кто думает, что
"в основе целого лежит идея", которую имеют в виду сторонники
синтеза, для того конкретное исследование "аналитиков" не может
значить много, как бы важно оно ни было, оно всегда будет казаться им
"напрасными усилиями Данаид, наблюдения всегда для них помеха, чем больше
наблюдений, тем хуже" ("Анализ и синтез").
Жди испытаний до конца
Многие события 1830
года оставляли в душе темные тени. 14 февраля в возрасте семидесяти трех лет
умерла эрцгерцогиня-мать Луиза. Все годы жизни в Веймаре Гёте был связан с
супругой Карла Августа отношениями уважительной дружбы. Он восхищался тем, как
стойко она переносила эскапады мужа, как ответственно относилась к своим
обязанностям эрцгерцогини, как мужественно противостояла узурпатору Наполеону в
тревожные дни битвы при Йене в 1806 году. Только две недели спустя после смерти
Карла Августа он нашел в себе силы написать ей несколько строк, потому что
"где же найти слова, что-
625
бы описать всю эту
боль, которая меня терзает и пугает" (28 июня
Гёте был занят
"Основами философии зоологии" и спорами в Парижской академии, когда
пришла весть об Июльской революции во Франции. Казалось, что он не желает иметь
с этим дела. Когда Соре в получившем известность разговоре 2 августа произнес
слова "великое событие" и "извержение вулкана", Гёте, не
долго думая, решил, что речь идет о "великом споре между Кювье и
Джофруа". Но в действительности политические события очень угнетали его.
Вновь возник призрак переворота и с ним опасность, что "загоревшийся во
Франции огонь... может перекинуться..." (письмо Э. К. А. фон Герсдорфу от
9 сентября
626
но, он мог бы
предложить только вариации уже известных воззрений на революцию. Его
уверенность в том, что идеалом является спокойное развитие в рамках
существующего порядка, оставалась неизменной. Это не мешало тому, что в
пределах художественного эксперимента он мог позволить себе размышления о
силах, которые были или еще станут активными в социальном развитии, как,
например, в "Годах странствий" или во второй части
"Фауста". Он никогда не принимал участия в публичных дискуссиях вне
сферы науки или искусства. То, что многие его не одобряют, он хорошо знал и
демонстрировал полное спокойствие перед лицом упреков с разных сторон, хотя они
его обижали и задевали: "В моем преклонном возрасте должно действовать
неукоснительное правило: всегда и при всех условиях сохранять спокойствие... На
что могли бы стать похожи те немногие, прекрасные дни, которые еще даны мне
судьбой, если бы я стал обращать внимание на то, что милое отечество направляет
против меня и против моих близких" (письмо Ф. фон Мюллеру от 21 мая
Осенью пришло известие
о внезапной смерти сына Гёте Августа 27 октября 1830 года в Риме. Внешне
627
Гёте остался
спокойным, несмотря на глубокое потрясение. Единственный сын ушел раньше отца.
Дневник свидетельствует о непрерывающейся работе над четвертой частью
"Поэзии и правды" в стремлении подавить отчаяние. "Nemo ante
obitum beatus" 1 — эти
слова часто фигурируют в мировой истории, но ничего не означают. Если
постараться сформулировать по существу, надо было бы сказать — "жди
испытаний до конца" (письмо Цельтеру от 21 ноября
Посещениям Цельтера
Гёте всегда радовался больше всего. Берлинский друг, которому так и не удалось
заманить веймарского жителя в прусскую столицу, после многих ранних посещений
вновь побывал у Гёте в 1826 и 1827 годах, а затем приезжал каждые два года на
несколько дней, в последний раз в июле 1831 года. Им не раз приходилось
говорить друг другу слова
1 Никто не радуется перед уходом (лат.).
628
поддержки и
утешения. Из девяти собственных и троих приемных детей Цельтера в живых
остались только две дочери. Ни с кем больше Гёте не говорил так откровенно, как
с Цельтером, а так как он знал, что переписка их когда-нибудь будет
опубликована, то письма его были полны критических замечаний о современности,
которые при жизни он не собирался делать достоянием гласности. Разумеется,
темой бесед часто становились вопросы музыки. Гёте требовал подробных отчетов о
музыкальной жизни Берлина, в которой его друг играл такую значительную роль.
Надо сказать, что восприятие новой музыки той эпохи составляло для них немалую
проблему. Франц Шуберт, например, который в 1825 году послал Гёте издание своих
песен, а "Лесного царя" госпожа Шрёдер-Девриент исполнила для него 24
апреля 1830 года, вовсе не упоминается в переписке. Гёте сохранил свою
приверженность к песне с повторяющимся куплетом и не любил композиций со
сквозной мелодией. Это стало темой долгой беседы во время последнего визита в
Веймар Феликса Мендельсона-Бартольди (конец мая — начало июня
К Мендельсону-Бартольди
Гёте относился прямо-таки с отцовской нежностью с того дня, когда Цельтер в
ноябре 1821 года привез к нему своего любимого гениального ученика, которому
было тогда 12 лет. И в этот раз молодой композитор и пианист много ему играл.
Для Гёте это были уроки истории музыки, подобные тем, что когда-то ему давал
органист фон Берка. "К Бетховену он никак не хотел подойти", —
рассказывал Мендельсон 25 мая 1830 года. «Я сказал, что не знаю, как ему
помочь, и сыграл ему только первую часть c-moll'ной симфонии. Это его как-то странно затронуло. Сначала он сказал:
"Это вообще не трогает, это удивляет, это грандиозно!" Потом что-то
бормотал и продолжил после паузы: "Это нечто великое! С ума сойти!
Кажется, дом обрушится! А когда все вместе играют!"» А ведь прошло уже два
десятилетия с тех пор, как пятая симфония Бетховена была впервые исполнена в
Вене! Мендельсон играл ему произведения "всех самых разных крупнейших
композиторов по хронологии" и рассказывал о том, "как они двигали
дело вперед". Это соответствовало одному из направлений музыкальных
интересов Гёте: он хотел понять, как развивался этот вид искусства. Он много
этим занимался, вплоть до попытки создать собственную композицию, от которой,
правда, не сохранилось никаких следов (письмо Цельтеру 23 февраля
629
возможно, что дело
ограничилось ритмической схемой. Чисто практические вопросы взаимодействия
либретто с музыкальным текстом он обсуждал как-то с Ф. Кр. Кайзером и И. Ф. Рейхардтом.
Его высказывания в Мариенбадский период и после него свидетельствуют о том, как
сильно на него повлияла музыка и как он отдавался этому воздействию. Она может
стать "наслаждением", которое "выводит человека за собственные
пределы и поднимает над собой, точно так же как выводит его за пределы мира и
поднимает над миром" (письмо Цельтеру от 24 августа
Во время последнего
посещения Гёте Александром фон Гумбольдтом, известным путешественником и
естествоиспытателем, в конце января 1831 года, видимо, вновь разгорелась
дискуссия относительно вулканизма и нептунизма. С 90-х годов Гёте был лично
знаком с младшим братом Вильгельмом фон Гумбольдтом и находился в переписке с
Александром. Гумбольдт посылал ему свои ботанические исследования. Гёте изучал
их с большим интересом и одобрением. В этой сфере интересы совпадали,
исследования путешественника по географии растений были весьма поучительны для
Гёте, занимавшегося изысканиями в Веймаре. Но пути их разошлись, когда речь
зашла о силах, воздействующих на образование земной коры. Сначала Александр фон
Гумбольдт, ученик Вернера, геолога из Фрейберга, принимал концепцию
нептунистов, позднее, однако, стал сторонником теории вулканизма. Это изменение
взглядов огорчило Гёте, хотя и сам он (как показывают рассуждения о
Каммерберге, горе возле Эгера) был временами склонен принять идею вулканизма.
Но это спорная геологическая проблема была для него до такой степени связана,
как уже говорилось, с прин-
630
ципиальной
мировоззренческой позицией, что он никак не мог согласиться признать влияние
огня "на образование земной поверхности" больше, чем "в наше
время его признают во всем мире ученые-естествоиспытатели" (письмо Неесу
фон Эзенбеку от 13 июня
В июле 1831 года
Гёте наконец осилил "Фауста" и мог с облегчением записать в дневнике:
"Завершено главное дело жизни. В последний раз переписано начисто. Все
чистовики сброшюрованы" (22 июля
631
дал только горный
инспектор Map, оставивший
свидетельство этой поездки. Он наслаждался видом гор Тюрингии, поросших лесом,
который описал когда-то в дымке поднимавшегося из долин тумана, потом
отправился к хижине и "реконструировал" надпись. То, что было
когда-то, теперь уж не угнетало больше. "После стольких лет было нетрудно
понять, что вечно и что преходяще. Удачи выступили на первый план и могли
послужить утешением, неудачи были пережиты и забылись" (письмо Цельтеру от
4 сентября
Надворный советник
доктор Карл Фогель, лейбмедик эрцгерцога с 1826 года, стал тогда же и домашним
врачом Гёте, а также его помощником в "высшем надзоре" и таким
образом оказался в узком кругу личных друзей старого поэта. Его бюллетени
сохранили картину состояния здоровья Гёте последних месяцев, недель и дней.
Зимой 1831—1832 годов он был в хорошем состоянии, сохранял непрерывную
активность. Появились только обычные возрастные явления: скованность движений,
ухудшение памяти на события недавнего прошлого, ослабление концентрации,
нарастающая глухота. 15 марта 1832 года он, по-видимому, простудился во время
прогулки в экипаже. "Целый день пролежал в постели из-за плохого
самочувствия" — эта запись, сделанная 16 марта, стала последней в дневнике
Гёте. Состояние было тяжелое, сильные боли в груди, Гёте чувствовал себя слабым
и разбитым. Надеялись на улучшение. 19 марта действительно вернулся аппетит,
почти целый день Гёте был на ногах, стал думать о своих планах. В ночь на 20
марта наступило внезапное ухудшение. К охватившему его сильному ознобу,
согласно сообщениям Фогеля, присоеди-
632
нилась тянущая и
дергающая боль, "которая началась в конечностях, затем быстро перешла на
ребра и грудь, затрудняя дыхание, вызывая чувство страха и беспокойства".
На следующее утро врач застал "печальную картину": "Безумный
страх и беспокойство не оставляли его. Давно уже привыкший к размеренным
движениям, он с невероятной быстротой бросался из стороны в сторону, то ложился
в постель, напрасно пытаясь, ежесекундно меняя позу, найти какое-то облегчение,
то садился в кресло около кровати. Зубы стучали от озноба. Он то стонал, то
громко вскрикивал от мучительной боли в груди. Серое лицо, искаженное гримасой,
глубоко запавшие глаза, синеватые веки, тусклый, затуманенный взгляд, в лице
неодолимый страх смерти". Сегодня считают, что это был инфаркт миокарда в
сочетании с катаром верхних дыхательных путей, и все вместе привело к резкому
ослаблению сердечной мышцы. После этого приступа Гёте немного успокоился, но к
середине дня 21 марта состояние снова заметно ухудшилось. С вечера этого дня
он, видимо, уже редко был в полном сознании. Сидя в кресле, он дремал в
полусне. Утверждают, что он еще произносил иногда странные слова. Спросил о
дате и потом сказал: "Значит, начинается весна, и можно надеяться тем
скорее прийти в себя", попросил открыть ставни, чтобы в комнате стало
светло. Более вероятно, что в эти последние часы он почти не мог говорить. Но
страх смерти прошел. Указательным пальцем он что-то писал в воздухе, потом
слабеющей рукой на одеяле на коленях. "Он совершенно не чувствовал, что
умирает, — вспоминал канцлер фон Мюллер, — в 9 часов, когда врач давно уже
сказал, что положение безнадежно, он еще шутил с Оттилией, хотя был уже очень
слаб. Потом просто остановилось дыхание, ни судорог, ни дрожи. Это была
смерть". Она наступила в четверг 22 марта 1832 года в половине
двенадцатого дня.
633
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН |
|
|
Абегг Иоганн Фридрих 307 Август, император 47 Аверинцев С. С. 480 Аделунг Иоганн Кристоф
146 Айхштедт Генрих Карл 272,
386 Александр I, император 335, 372 Альтон Эдуард Иозеф 549 Анна Амалия, герцогиня
15, 21, 42, 53, 254, 264, 283, 317, 369, 472 Аристотель 235, 500, 502 Арндт Эрнст Мориц 423 Арним Ахим фон 234, 259,
343, 471, 525, 550 Арним Беттина фон 471 Арнольд Иоганн Георг
Даниэль 343, 551 Аст Фридрих 287 Аугсбургский, герцог 100 Ауэрбах Эрих 250 Байрон Джордж Ноэл Гордон
558—560, 568, 602 Бальзамо Джузеппе см. Калиостро Батч Август Иоганн 272,
276 Бах Иоганн Себастьян 412,
426, 627 |
Беккер Генрих 57, 60, 212 Белломо Джузеппе 54, 58,
60 Бёмер Каролина см. Шлегель Каролина Бенда Франц 134 Бенн Готфрид 568 Беньямин Вальтер 261 Бергман Тоберн 389 Берендис Иеронимус Дитрих
254 Бёрк Эдмунд 9, 19, 103 Берка фон 626 Бернгард, принц 587 Бертрам Иоганн Баптист
410 Бертрам Иоганна см. Эккерман Иоганна Бертух Фридрих Иоганн
Юстин 62, 285 Бёттигер Карл Август 63,
139, 176, 177, 179, 201, 205, 212, 224, 284, 307, 368, 563 Бетховен Людвиг ван 412,
413, 426, 626 Бланкенбург Фридрих фон
183, 314 Блюхер Герхард Леберехт
фон 423 Боде Иоганн Иоахим 62 Бойе Генрих Кристиан 345 Бойльвиц Каролина фон 99 |
|
Бойльвиц Фридрих Август
фон 617 Боккаччо Джованни 118,
308 Бонавентура 550 Бордоне Парис 64 Боутс Дирк 411 Бранд Зузанна Маргарет
347 Брауншвейгский, герцог 70 Брёзигке Ульрика фон 377,
507 Брезигке Фридрих Леберехт
фон 507 Брейткопф Бернгард Теодор
325 Брейткопф Готтлоб 413 Брентано Беттина 377,
380, 412, 417 Брентано Клеменс 234,
259, 343, 436, 550 Брентано Максимилиана 377 Брентано Франц 430 Брехт Бертольт 204, 209,
248, 486 Бродский Д. Г. 17 Брун Фридерика 94, 208,
339 Бруно Джордано 537 Брюль Карл Фридрих Мориц
фон 545 Брюсов В. Я. 440 Буассере Мельхиор 256,
410, 411, 415, 433, 437, 453, 455, 456 Буассере Сульпиц 247,
256, 409—415, 430, 433, 434, 437, 441, 448, 453, 455, 456, 458, 465, 472,
481, 519, 520, 541, 544, 549, 556, 557, 575, 594, 617, 622 Бугаевский В. А. 17, 199 Бунин H. Н. 32 Бурбон-Конти Стефания
Луиза 289, 290 Бури Фридрих 42, 245 Буфф Шарлотта 467 Буххольц Вильгельм Генрих
62 Бюргер Готфрид Август 98, |
99, 197, 250, 261 Бюттнер Кристиан
Вильгельм 266 Вакенродер Вильгельм
Генрих 246, 247, 251, 310, 312, 456 Ведекинд Георг Кристиан
Готтлоб 331 Вейганд Кристиан Фридрих
514 Вейгль Йозеф 212 Вейден Рогер ван дер 411 Вёльфлин Генрих 249 Вергилий Марон Публий 47,
73, 86, 238 Вернер Фридрих Людвиг
Цахариас 334, 378, 386, 627 Виланд Кристоф Мартин 8,
53, 62, 127, 139, 179, 264, 285, 313, 330, 332, 451, 462, 472 Виланд Людвиг Фридрих
Август 331, 462 Виллимер Иоганн Якоб фон
430, 434, 436, 437 Виллемер Марианна 430,
434, 436, 438, 466, 516 Вильмонт H. Н. 126, 265, 429, 431, 449, 476—478, 490, 537, 538, 541 Виндишман Карл Иозеф
Иеронимус 546 Винкельман Иоганн Иоахим
64, 170, 236, 238, 249, 254— 256, 258, 310, 311, 336, 364, 547, 548 Витковский Е. В. 78 Водрей Альфред 525 Вольпин Н. Д. 124, 252,
265, 491 Вольтер 283 Вольф Фридрих Август 254 Вольцоген Вильгельм Эрнст
фон 269, 281, 324, 369 Вольцоген Фридерика Софи
Каролина фон 281, 283, 324 Враницкий Павел 278, 283 |
|
Вульпиус Кристиан Август
251, 339 Вульпиус Кристиана 49,
65, 67, 70, 94, 95, 105, 111—114, 178, 209, 210, 214, 215, 221, 230, 263,
264, 278, 289, 290, 305, 323—324, 327, 336, 365, 367, 368, 388, 400, 408,
426, 430, 433, 463—466, 471, 472, 526 Гайдн Франц Иосиф 134,
426 Гайст Иоганн Якоб Людвиг
215, 218, 323 Гаман Иоганн Георг 79, 80 Гауптман Антон Георг 54 Гебель Иоганн Петер 259,
343 Гегель Георг Вильгельм
Фридрих 184, 217, 272, 548 Гейне Генрих 624 Геккинг Герхард Готтлиб
Гюнтер 177 Гёльдерлин Фридрих 216—218,
240, 251 Гемстергейс Франс 78—80 Генаст Антон 57 Генаст Эдуард 56, 57,
280, 287, 288 Гендель Филипп Эммануил
134, 412, 426 Генц Генрих 335 Генц Фридрих 9, 103 Гердер Иоганн Готфрид 14,
15, 42, 43, 48, 49, 50, 52, 62, 81, 86, 102—112, 146, 229, 257, 259, 274,
282, 313, 314, 316, 317, 332, 339, 384, 414, 451, 472, 553 Гердер Каролина 316 Герсдорф Эрнст Кристиан
Август фон 450, 451, 458, 623 Гесснер Саломон 261 Гёте Август Вальтер 42,
58, 65, 214, 264, 323, 332, 368, 423, 449, 453, 468—471, 507, 515, 519, 624 Гёте Альма 468 |
Гёте Вальтер Вольфганг
152, 468, 563 Гёте Иоганн Каспар 90 Гёте Катарина Элизабет
82, 90 Гёте Кристиана 42 Гёте Кристиана см. Вульпиус
Кристиана Гёте Оттилия 468—471,
507, 510, 525, 592, 623, 625, 630 Гётлинг Карл Вильгельм
151 Гётце Георг Пауль 42, 62,
287, 530 Гехгаузен Луиза фон 324,
345 Гешен Георг Иоахим 126,
145, 146, 148, 179, 344 Гильберт Людвиг Вильгельм
502—504 Гимбург Кристиан Фридрих
144, 145, 152 Гинзбург Л. В. 88, 326 Гиолетт 83 Глейм Иоганн Вильгельм
Людвиг 139, 182 Глоба А. П. 326 Глюк Кристоф Виллибальд 54 Говард Льюк 501—505 Гогенлоэ Фридрих Людвиг
73 Големба А. С. 559 Голицына Амалия 78—82 Гомер 86, 180, 185, 237,
243, 246, 258, 415, 546 Гораций 47 Госсарт Ян 411 Готский, герцог 270 Готтер Паулина 380 Готтер Фридрих Вильгельм
53 Готшед Иоганн Кристоф 86—
88, 235, 347 Гофман Эрнст Теодор
Амадей 550 Гофмансвальдау Кристиан
Гофман 380 Григорьева Н. А. 382, 383 Грильпарцер Франц 550 Гримм Фридрих Мельхиор 25 Грифиус Андреас 380 Гротхус Сара фон 377 |
|
Грюбель Иоганн Конрад
259, 344, 551 Грюнер Йозеф Себастьян
508 Губер Людвиг Фердинанд
67, 113 Гугнин А. А. 59, 182,
200, 211, 221, 279, 326, 437, 438, 443, 516, 615 Гульден Герман Вильгельм
134 Гумбольдт Александр фон
627, 628 Гумбольдт Вильгельм фон
87, 97, 112, 131, 193, 225, 227, 262, 263, 290, 311, 318—320, 324, 332, 333,
377, 524, 538, 564, 594, 627, 628 Гумбольдт Каролина 227 Гуммель Иоганн Непомук
563 Гуттен Ульрих фон 345 Гюндероде Каролина фон
430 Гюнтер Вильгельм Кристоф
367 Даннекер Иоганн Генрих
220, 337 Данте Алигьери 248, 308 Дёббелин Карл Теофилус 53 Дёберейнер Иоганн
Вольфганг 272, 371 Дени Иоганн Фридрих
Вильгельм 60 Джойс Джеймс 248 Джофруа де Сент-Илер
Этьен 620, 621, 623 Дидро Дени 226, 231, 233,
253 Дуден Конрад 146 Дюваль Александр 525 Дюмон Пьер-Этьен Луи 525 Дюмурье Шарль Франсуа 70 Дюссек Иоганн Людвиг 426 Еврипид 284 Екатерина II, императрица 329 Жан Поль 65, 251, 312—315 Жуковский В. А. 494 |
Зайдель Филипп 146, 530 Зайдлер Каролина Луиза
380, 525 Занд Карл Людвиг 329, 462 Заяицкий С. С. 211 Зега Георг 481 Зеебек Томас Иоганн 466 Зейлер Абел 53 Зёйме Готфрид 11 Зёммеринг Замуэл Томас
67, 110 Зимрок Карл 415 Зоргенфрей В. Н. 282 Зульцер Иоганн Георг 250,
502 Зутор Кристоф Эрхард 530 Зуфан Бернгард 131 Икен Карл Якоб Лудвиг 593 Иосиф II, император 128 Ифланд Август Вильгельм
61, 279, 307, 425, 516 Йениш Даниэль 127 Йон Иоганн Август Фридрих
58, 426, 451, 528, 530 Кайзер Филипп Кристоф 26,
277, 627 Калиостро 24—27, 247 Кальб Карл Александр фон
25 Кальб Шарлотта София фон
13 Кальдерон де ла Барка 61, 286, 507, 551, 553 Кампе Иоахим Генрих 9, 10 Кандоль Август Пирам де
619 Кант Иммануил 110—112,
193, 236, 316, 317, 321, 331, 500 Карл Август, герцог
13—15, 30, 43, 47—49, 51, 52, 54, 62, 66, 71, 114, 141, 145, 219, 224, 230,
263, 267, 269, 281, 283, 285, 347, 368, 369, 370, 373, 422, 423, 450, 452,
453, 460, 461, 462, 463, 502, 506, 508, 509, 562, 587, 617, 618, 622 |
|
Карл Александр, принц 526 Карл Фридрих, принц 269,
335 Карлейль Томас 555, 560,
561 Карузе 625 Каспар Иоганн 223 Келлер Готфрид 529 Келлерман Франц Кристоф
70 Кернер Кристиан Готфрид
93, 97—100, 108, 114, 132, 171, 172, 176, 197, 199, 289, 325, 423 Кестнер Август 30, 467 Кестнер Клара 467 Кестнер Шарлотта см. Буфф Шарлотта Кёте Фридрих Август 380 Кирмс Франц 54, 56, 57,
60, 264, 282, 295 Киттель Иоганн Кристиан
426 Клаудиус Матиас 79, 261 Клаурен Генрих см. Хойн Карл Готлоб Замуэль Клебельсберг-Тумбург
Франц фон 507—509 Клеве Йос ван 411 Клейст Генрих фон 61,
251, 330, 332, 383—385, 550 Клейст Ульрика фон 331 Клеттенберг Сузанна
Катарина фон 164 Клопшток Фридрих Готлиб
5, 86, 181 Кнебель Карл Людвиг фон
14, 43, 49, 52, 62, 70, 73, 93, 114, 115, 143, 205, 208, 223, 231, 262, 265,
284, 314, 317, 371, 386, 389, 415, 422, 515, 527 Коллин Генрих Иозеф 287 Констан Бенджамен 333 Коппенфельз Луиза фон 332 Корнелиус Петер фон 411,
457 Котта Иоганн Фридрих 57, 147—152, 220, 224—226, 244, 254, 259, 344, 345, 368, 373, 417, 454, 518, 519, 528 |
Коцебу Август фон 61,
281, 286, 311, 328—330, 462 Кочетков А. С. 619 Краузе Готлиб Фридрих 530 Краус Георг Мельхиор 366,
472 Кройтер Фридрих Теодор
150, 451, 522, 527, 530 Кудрэ Клеменс Венцеслав 525—527 Кузмин М. А. 616 Кук Джеймс 68 Кун Доротея 57, 58, 148 Кювье Жорж де 620, 621,
623 Ланн Жан 367 Лаубе Генрих 528 Лаукхард Фридрих Кристиан
103 Лафатер Дитхельм 223 Лафатер Иоганн Каспар 25,
140, 221—223, 539 Лёбен Отто Генрих фон 287 Леветцов Амалия фон 365,
377, 507, 561 Леветцов Берта 507—511,
516, 517 Леветцов Ульрика фон 213,
365, 444, 507—512, 516, 517, 561 Левик В. В. 17, 428, 433,
435, 473, 516, 619 Лейбниц Готфрид Вильгельм
537 Ленгефельд Луиза Юлиана
92 Ленц Иоганн Георг 266 Лессинг Готхольд Эфраим
238, 239, 334 Липс Иоганн Генрих 307 Литт Теодор 102 Лихтенберг Георг Кристоф
529 Лодер Юстус Кристиан 272,
276 Лозинский М. Л. 213, 465 Луден Генрих 272, 371, 424, 459, 462, 463, 587 |
|
Луиза, герцогиня 136,
283, 369, 562, 622 Людвиг I, король 419 Людовик XV, король 40 Людовик XVI, король 66, 102,
135, 333 Люнкер Карл фон 515 Лютвиц Ганс Вольф фон 49 Лютвиц Генриетта фон 49 Лютвиц Эрнст Фрайер фон 49 Лютер Мартин 345, 374,
415 Ман Н. С. 567 Мандзони Алессандро 252,
556, 557 Манзо Иоганн Каспар
Фридрих 132, 133, 139 Манн Томас 467 Map Иоганн Кристиан 629 Мария Антуанетта,
королева 24 Мария Людовика,
императрица 327, 408, 409, 413, 422 Мария Павловна, герцогиня
269, 335, 523 Марло Кристофер 347 Марциал 44, 129 Массенбах Кристиан Карл
фон 72 Маттисон Фридрих фон 201 Медвин Томас 559 Мёзер Юстус 19, 128, 229 Мейер Генрих 572, 588 Мейер Иоганн Генрих 42,
63— 66, 114, 171, 177, 191, 194, 228, 231, 239, 241, 243, 244, 246, 247, 254,
264, 273, 323, 324, 332, 339, 366, 426, 438, 456, 457, 584 Мейер Николаус 289, 290 Мемлинг Ганс 411 Мендельсон-Бартольди
Феликс 626 Мерк Иоганн Генрих 318 Меттерних Клеменс 407,
462, 463 |
Меценат 47 Микеланджело Буонарроти
482 Мильдер-Хауптман Анна
Паулина 514 Монтескье Шарль Луи де 19 Мориц Карл Филипп 8, 100,
111, 193, 236, 318 Морозкина З. 213 Мотт де ля, маркиза 24 Моцарт Вольфганг Амадей
54, 60, 188, 277, 278, 283, 288, 371, 412, 425 Мушг Адольф 36 Мюллер Адам Генрих 383,
384 Мюллер Иоганнес 496, 620 Мюллер Фридрих 281 Мюллер Фридрих Теодор фон
152, 240, 317, 370, 373, 374, 388, 400, 421, 467, 480, 484, 502, 515—517,
521, 523—525, 530, 532, 539, 542, 562, 563, 568, 574, 614, 623—625, 630 Мюнтер Фридрих Кристиан
94 Наполеон Бонапарт 85,
137, 142, 207, 230, 269, 329, 333, 340, 365, 369—377, 407, 421—423, 425, 449,
543, 622 Недович Д. С. 504 Неес Эзенбек Кристиан
Готфрид фон 167, 242, 628 Нейфер Кристиан Людвиг
216 Неккер Жан 333 Николаи Фридрих 133 Николовиус Альфред 307 Нитхаммер Фридрих
Имануэль 274, 275, 553 Ницше Фридрих 529 Новалис 174, 175, 251,
310, 311, 550 Нойман Кристиана 59, 60,
211—213 Ньютон Исаак 44, 374, 472, 490, 500, 546 |
|
Овербек Фридрих 457 О'Доннел Жозефина фон 408 Ожеро Пьер Франсуа Шарль
367 Окен Лоренц 371, 459,
460, 463 Олива Барон фон 412 Оппенгеймер Роберт 500 Орлей Бернар ван 411 Остгейм 313 Отто Георг Кристиан 65,
313 Ошеров С. А. 313, 590 Павел I, император 329, 335 Парацельс 345 Пастернак Б. Л. 163, 205 Паулюс Генрих Эберхард
272, 276 Пеньковский Л. М. 88—90 Петр III, император 329 Петрарка Франческо 199,
308 Пикассо Пабло 253 Питт Виллиам 103 Платен Аугуст фон 550,
551, 624 Платон 137, 535, 537,
539, 589 Плессинг Виктор Леберехт
78 Плутарх 599 Погвиш Оттилия фон см. Гёте Оттилия Погвиш Ульрика фон 508 Пойсер Генрих Карл
Фридрих 563 Пруст Марсель 248 Путятин, князь 365 Пфитцер Иоганн Николаус
347 Раух Кристиан Даниэль 545 Рафаэль Санти 64, 371 Реберг Август Вильгельм
103 Рейнхард Карл Фридрих фон
375, 386, 401, 409, 410, 412, 414, 421, 509, 592, 629 Рейнхольд Карл 273 Рейхардт Иоганн Фридрих |
103, 129, 132—137, 167,
277, 627 Рекке Элиза фон дер 465 Ридель Корнелиус Иоганн
93, 467 Ризе Иоганн Якоб 430 Ример Фридрих Вильгельм
152, 182, 185, 332, 333, 336, 345, 362, 368, 369, 387, 397, 430, 466, 523,
525-527, 563, 564, 572, 600, 618, 625 Рипенхаузен Кристиан 246,
256 Рипенхаузен Фридрих 246,
256 Рихтер Фридрих 314, 315 Робинсон Генри Крабб 616 Роган Луи Рене фон 24 Розанов М. Н. 381 Рохлиц Иоганн Фридрих
208, 351, 472, 548, 573, 574, 577, 612 Рудольф Луиза фон 284 Рунге Филипп Отто 245,
246, 364, 365, 412—414, 457 Руссо Жан Жак 33, 79
Рюккерт Йозеф 335 Рюккерт Фридрих 551 Рюмкорф Петер 248 Сакс Ганс 200 Сарториус фон
Вальтерхаузен Георг 61 Сент-Эньяр Николаус 421 Сервантес Сааведра Мигель
де 248, 308 Скотт Вальтер 523 Смит Адам 586 Сократ 137 Соловьев С. М. 212, 321,
337, 338, 425 Соре Фредерик Жан 524, 526, 618, 620, 623 София Вильгельмина,
герцогиня 153 Софокл 217, 218, 331, 363 Спиноза Бенедикт 76, 537 |
|
Сталь Анна Луиза Жермена
де 333, 334 Сулла 11 Табор Иоганн Генрих
(Хайн) 389 Талейран Шарль Морис 373 Тарханова С. А. 6 Текстор Иоганн Иост 82 Тик Людвиг 246, 251, 310—
312, 385, 551 Тициан 64 Тишбейн Иоганн Генрих
Вильгельм 64 Тоблер Георг Кристоф 501 Тон Кристиан Август 269 Топоров В. Н. 128, 138,
508 Туре Николаус Фридрих 220 Тютчев Ф. И. 198 Ульрих Каролина 426, 466 Унгер Иоганн Фридрих
Готлиб 117, 142, 144, 146, 148, 339 Унгер Фридерика Хелена
339 Усов Д. 210, 465 Фальк Иоганнес Даниэль
318 Фальконе Этьен Морис 239 Фарнхаген фон Энзе Карл
Август 307 Фауст Иоганнес (Георг)
345 Фаш Карл Фридрих 340 Фелленберг Филип Эмануэль
584 Фербер Иоганн Михаэль 530 Фернов Карл Людвиг 226,
254, 367, 368 Фет А. А. 202 Фивег Иоганн Фридрих 148,
177 Фихте Иоганн Готлиб 174,
271, 273—276, 321, 322 Флобер Гюстав 398 Фогель Карл 74, 525, 629 Фогт Каспар 365 Фойгт Кристиан Готлоб фон |
51, 56, 62, 69, 71, 141,
142, 266—271, 274, 275, 322, 366, 369, 425, 449—452, 460, 461 Фонтане Теодор 248 Форстер Иоганн Георг 10, 14,
15, 67—69, 84, 309 Форстер Тереза 67 Фосс Иоганн Генрих 86,
87, 180—182, 271, 336 Фосс Иоганн Генрих, сын
336 Франкенбург Сильвиус
Фридрих фон 269 Франц I, император 327 Франц II, император 66, 365 Фридрих II, прусский король 50,
134, 135, 245, 340, 374 Фридрих Август III, курфюрст 141 Фридрих Каспар Давид 245,
247, 457 Фрич Карл Вильгельм фон
450 Фрич Якоб Фридрих фон
267, 269, 563 Фромман Карл Фридрих 333,
378, 515 Фуке Фридрих 287, 550 Фюрнштайн Антон 260, 344,
551 Фюрстенберг Франц фон 78,
79 Фюссли Иоганн Генрих 64 Хаген Фридрих Генрих фон
415 Хаген Эрнст Август 344 Хайгендорф фон см. Ягеманн Каролина Хайнке Фердинанд 468 Хаккерт Филипп 416, 417 Хаммер-Пургшталль Иозеф
фон 426 Харденберг Фридрих фон см. Новалис |
|
Хафиз Шамседдин 381, 426—
431, 434, 439, 441, 448, 466, 553 Хейсенбюттель Гельмут 248 Херцлиб Вильгельмина 213,
378, 379, 381, 388, 404 Хесс Иоганн Якоб 223 Хиллер Готлиб 259, 344 Хирт Алоис 238 Ховен Фридрих Вильгельм
Давид 97 Ходовецкий Даниэль
Николаус 145 Хойн Карл Готлоб Замуэль
277 Холодковский Н. А. 360,
613 Хольтай Карл фон 469 Хоттингер Иоганн Адам 223 Хоубен Генрих Хьюбен 526 Хуфеланд Готлиб 199, 276 Хуфеланд Кристоф
Вильгельм 272, 276 Хушке Вильгельм Эрнст
Кристиан 58 Хэртель Готфрид Кристоф
413 Цаупер Иозеф Станислаус
398, 574 Цельтер Карл Фридрих 136,
234, 275, 306, 311, 321, 338—341, 374, 375, 378, 386, 387, 412, 413, 416,
426, 428, 430, 447, 456, 461, 463, 472, 473, 484, 509, 513, 514, 517, 523,
527, 534, 539, 544, 548, 550, 555, 556, 564, 612, 613, 614, 616—619, 623,
625—627, 629 Цельтис Конрад 368 Цигезар Сильвия фон 213,
379, 380, 388, 404 Циммер Иоганн Георг 409 Челлини Бенвенуто 140,
254, 364 Чимароза Доменико 208 |
Чуди Эгидус 222 Шадов Готфрид 245 Шванталер Людвиг фон 83 Шекспир Уильям 59, 60,
138, 154, 157, 164, 211, 248, 280, 308, 331, 371, 501 Шеллинг Фридрих Вильгельм
272, 276, 320—322, 389, 492, 500, 534 Шёне Альбрехт 361, 362 Шёнеман Лили (Анна
Элизабет) 18, 208, 418, 467 Шервинский С. В. 208,
377, 510 Шиканедер Эмануэль 278 Шиллер
Иоганн Фридрих 17, 24, 28, 44, 53, 55, 57, 61, 87—109, 112, 113, 117, 119,
123, 125, 126, 128—132, 136—140, 142, 147, 160, 161, 171, 172, 176, 178— 181,
183, 192—195, 197— 200, 202, 206, 209, 211, 214—217, 220, 222—227, 230, 231,
236, 237, 239— 244, 251—253, 257—260, 264, 265, 272, 280—282, 289, 290, 305,
306, 309, 311, 312, 316—318,
323—326, 328, 330—339, 344, 351, 364, 365, 377, 378, 388, 428, 445, 448, 451,
454, 472, 485, 488, 543, 545, 555, 561, 564, 569, 591, 622 Шиллер Шарлотта фон 281,
290, 324 Шимановская Мария 514,
516, 517 Ширах Готлоб Бенедикт 103 Шлаффер Гейнц 602 Шлегель Август Вильгельм
61, 248, 251, 252, 272, 284, 289, 300, 308—311, 334, 372, 378, 380, 381, 415 Шлегель Доротея 410 Шлегель Каролина 309 |
|
Шлегель Фридрих фон 61,
173, 174, 248, 251, 252, 256, 272, 284, 286, 287, 289, 290, 308—312, 315,
342, 372, 380, 386, 409, 410, 455 Шлихтегролль Адольф
Генрих Фридрих 477 Шлоссер Иоганн Георг 90 Шлоссер Корнелия
Фридерика 213 Шлоссер Кристиан Генрих
533, 547 Шметтау Фридрих Вильгельм
фон 366 Шмидт Иоганн Кристоф 267,
269 Шмидт Эрих 131, 345 Шнайдер Рольф 85 Шнаус Кристиан Фридрих
267, 269 Шопенгауэр Иоганна 369,
416, 465, 509, 535 Шопенгауэр Луиза Аделаида
470 Шпис Иоганн 346 Шрёдер Фридрих Людвиг 53 Шрёдер-Девриент
Вильгельмина 626 Шрётер Корона 211 Штадельман Карл Вильгельм
58, 511, 530 Штакельберг Отто Магнус
фон 524 Штарке Карл 525 Штейн Генрих Фридрих фон
453 Штейн Готлоб Карл фон 307 Штейн Фридрих Константин
фон 50, 290, 307, 322, 342 Штейн Шарлотта фон 79,
143, 145, 208, 322, 366, 386, 431, 492, 497, 527 Штернберг Каспар Мария
фон 525 Штифтер Адальберт 529 |
Штольберг Фридрих
Леопольд цу 137, 256, 539 Штрекфус Адольф Фридрих
Карл 548 Штэдель Анна Розина 437 Шубарт Карл Эрнст 455,
533, 536 Шуберт Франц 626 Шукман Фридрих фон 49—51 Шультхес Барбара 144,
221— 223 Шультц Кристоф Людвиг
Фридрих 106, 468, 509 Шухардт Иоганн Кристиан
521, 530 Шютц Иоганн Генрих
Фридрих 426 Шютц Кристиан Готфрид
272, 276, 277, 283 Эбервайн Карл 563 Эглофштейн Генриетта фон
286, 324 Эглофштейн Юлия фон 515,
517, 623 Эдлинг Альберт Каетан 450 Эйхендорф Йозеф 550 Эйхштедт Генрих Карл
Абрахам 167, 277 Экгоф Конрад 53, 281 Эккерман
Иоганн Петер 30, 38—41, 72, 123, 149, 151, 152, 172, 173, 184, 215, 222, 242,
281, 301, 302, 333, 345, 371, 372, 374, 377, 388, 392, 401, 402, 407, 437,
444, 445, 484, 514, 516—518, 525— 529, 540, 547, 548, 551— 556, 560, 563,
564, 568, 572, 586, 591, 592, 594, 595, 597, 599, 608, 615, 618, 624, 628 Эккерман Иоганна 529 Эккерман Карл 529 Энгельзинг Рольф 57, 148 Эрнст Август Константин
53 Эсхил 331 |
|
Юнг Марианна см. Виллемер Мари Анна Катарина Юнг-Штиллинг Иоганн
Генрих 529 Ягеман Каролина 283, 284,
452 |
Якоби Фридрих Генрих 12,
15, 16, 26, 27, 48, 55, 61, 69, 76, 77, 79, 81, 82, 84, 86, 102, 274, 324,
335, 400, 414, 477 Яндль Эрнст 248 |
СОДЕРЖАНИЕ
В тени великой революции (перевод
С. Тархановой)................................................. 5
Реакция немцев на революционные события во Франции.
Тайный советник — отнюдь не сторонник революции. Поэтические ответы. Эпиграммы
и революционные драмы. Вера в третий путь.
Художник, ученый, военный наблюдатель. Начало
девяностых годов (перевод С. Тархановой) 42
Снова — Италия. В силезском военном лагере. В
шутку и всерьез. Директор придворного театра. В походе 1792 года. Через
Пемпельфорт и Мюнстер — назад в Веймар. У ворот Майнца.
Союз с Шиллером (перевод С. Тархановой)............................................................... 92
Счастливое событие. Письма из литературной
мастерской. Высвобождение из изоляции. "Разговоры немецких беженцев".
Когда и где появляется классичекий национальный автор? Ни дня без эпиграммы.
"Ксении" в борьбе. Начало мирного десятилетия.
Ученик, не ставший мастером. "Годы
учения Вильгельма Мейстера" (перевод С. Тархановой) 143
Об изданиях и издателях. Неудавшийся
театральный роман. Поиски самоосуществления. Метаморфозы судьбы. Роман своего
времени.
Эпос, баллады, эротическая лирика (перевод
Т. Холодовой).................................. 176
"Герман и Доротея". Немецкая
идиллия? Баллады. Эксперименты с повествовательным стихотворением. Эротические
фантазии. Третье путешествие в Швейцарию в 1797 году.
Расцвет веймарской классики (перевод
Т. Холодовой)........................................... 224
Программа изобразительных искусств.
"Пропилеи". О прекрасном и о выборе предмета. Художественное
воспитание посредством конкурсов и премий. Классика и классическое.
Сомнительные понятия. Классицистическое кредо. "Деревенская фантазия"
в Оберросле. При исполнении служебных обязанностей. Хлопоты о Йене. Веймарский
воспитательный театр. Гастроли в Лаухштедте. Драматические опыты периода
"классики". "Внебрачная дочь".
Литературное окружение и контакты (перевод
Т. Холодовой).............................. 305
Между античным образцом и современными
набросками. Собрания по средам и песни для дружеского круга. Чужой вблизи.
Новое в Веймаре.
После смерти Шиллера (перевод
С. Тархановой).................................................... 336
Смерть и просветление. Цельтер — друг в
старости. Творческое возрождение. "Фауст". Первая часть трагедии.
Наполеоновские годы (перевод
С. Тархановой)...................................................... 364
Бедствия войны. 1806 год. Женитьба на
Кристиане. Чары Наполеона. Поток со скал бросается и мчится: сонеты. Чуждый мир
драматургии Клейста. Ставка на собственную работу. Экспериментальная игра.
"Избирательное сродство".
На новых и старых путях (перевод
С. Тархановой)................................................. 407
Знакомство с Буассере. Внимание к средневековью.
Работа над автобиографией. Отрешенность вместо воодушевления. Время
освободительных войн. Наедине с Хафизом. Путешествие на Рейн. Хатем и Зулейка.
"Западно-восточный диван". О символическом языке.
Остается любовь и мысль. Г`те в 1815—1823 годах
(перевод С. Тархановой)..... 448
Министр Великого герцогства
Саксен-Веймар-Эйзенахского. "Об искусстве и древности на землях по Рейну и
Майну". Свобода печати или бесстыдство печати? Смерть Кристианы. Новая
жизнь в доме на Фрауэнплане. Поэт ограждает себя от внешних помех. Бог и
природа. Миросозерцательные стихотворения. Гёте — естествоиспытатель. Три лета
в Мариенбаде.
Перспективы старости (перевод
С. Тархановой)..................................................... 519
В тесном кругу близких по духу. Сумма
убеждений. Отрешенный наблюдатель веяний времени. Мечта о мировой литературе.
Полвека в Веймаре. Необыкновенное происшествие.
Два великих произведения позднего Гёте (перевод
H.
Берновской)..................... 571
"Годы странствий Вильгельма Мейстера,
или Отрекающиеся". "Фауст". Трагедия. Вторая часть.
Последние годы (перевод Н. Берновской)................................................................ 617
Жизнь в садовом домике и в Дорнбурге. Вклад
старого Гёте в дискуссию естествоиспытателей. Жди испытаний до конца.
А. Гуткина. Указатель имен....................................................................................... 634