И. Эренбург
"В ПРОТОЧНОМ ПЕРЕУЛКЕ"
1. В НЕЖНО-АБРИКОСОВОМ
— Отдай Бубика!
Мальчик лет пяти ревел вовсю. Заикаясь, повторял он имя какого-то «Бубика» — котенка или, может быть, куклы. Девочка, чуть постарше, дразнила его:
— Бубубубика! Говорить не умеешь!..
— Это я нарочно. Отдай Бубика!
Из окна выглянула женщина. Лишения и пудра мешали определить ее возраст. Руки, чересчур узкие, изъеденные кухонной золой, казались прекрасными и жалкими, как побеги трактирной пальмы. Чувствовались проглоченные слезы, памятные всем даты, титул пышный и вздорный, как бенгальский огонь, льняное масло, шляпная мастерская, муж-бабник, вот этот Петька-заика,— словом, жизнь хоть и вдоволь уплотненная, но призрачная, приснившаяся. Услыхав лопотанье сына, женщина раздраженно крикнула:
— Не ври! Никакого Бубика у него не было. Это он все придумал. Не ребенок, а наказанье божье! Может быть, Поленька правду говорит — мяса тебе давать не следует. Что из тебя только вырастет? Ну, откуда ты взял этого Бубика?
Мальчик перестал на минуту плакать. Он задумался. Глаза его ныряли в безличную синеву неба. Наконец он показал на сточную канаву, где ничего, кроме грязной водицы, отливавшей, как полагается, радугой, не было:
— Отсюда.
Нелепое создание! Что из тебя, вправду, вырастет? Поэт или же поганый краснобай? Наивна ложь — в Проточном переулке не может быть никакого «Бубика». Это подтвердят все ответственные съемщики. Здесь только мелкие номера домов и душонок. Я жил в том угольном доме. Я знаю, как здесь пахнет весна и как здесь бьют людей, лениво, бескорыстно,— так вот в других переулках выбивают ковры.
Глядел я как-то из окошка на такое избиение. Бил мастеровой женщину, бил кирпичом по голове, со степенностью, не жалея ни времени, ни сердечной печали. А кругом стояли незадачливые обыватели Проточного, или, как извозчики говорят, «Протёчного». Они, видимо, ждали, кому скорее надоест это: мастеровому, им или бабе, у которой если нет души, то все же имеется «пар», облачко на жестоком морозе. Забредший ко мне приятель, тот только позавидовал:
— Вид у вас из окна хороший...
В знаменитой «Ивановке» живет жулье, самое что ни на есть откровенное: форточники, перепродавцы краденого, из грабителей те, что потише. Рядом же, в анонимных домах, проживают анонимные людишки: торговцы со Смоленского рынка, персюки, занятые то галантереей, то поножовщиной, кое-кто из «аристократии», например, делопроизводитель «Фанертреста», гармонист и драчун, секретарь «Союза ассирийцев» — он же чистильщик сапог на Свердловской площади. Все это копошится, сопит, чешется, пахнет, особенно пахнет. Переулок полнится древнейшим запахом кошачьей мочи и ангельского терпения.
Иногда заходят цыганки. Тогда из окон вывешиваются мечтательные души, и не отличить, где головы затравленных переулком сумасбродок, а где растянутые для просушки подштанники. Поют цыганки все больше о любви, и хоть нет ее здесь, в Проточном, хоть это подозрительный «Бубик», за которого Петька получит изрядный подшлепник, все же женщины зарывают под подушки головы, выбеленные годами, а медяки падают, как пудовые слезы.
Чаще поют сами — штопая носки и беременея, поют «Кирпичики». Звучит это здесь беспросветно, как будто «по кирпичику, по кирпичику» раскладывают человеческую жизнь.
Развалившийся дом на углу Панфиловского воняет вот уж который год. Сюда ходят до ветру, беспризорные режутся в железку, здесь прошлой весной дезертир Карнаухов упрятал труп прирезанной им свояченицы, здесь же, в глубоком погребе, мороженщики набирают летом рыжий снег. Стоит здесь только порыться судебному следователю или досужему фантазеру, как объедки этажей, напоминания о доисторических кухнях и спальнях, никуда не ведущие лестницы заселятся призраками: жена сбежала с полотером, Сергеенко стащил дрова, чего доброго — набавят на отопление, «врешь, не девятка у тебя, а туз», «батюшки, режут!..».
Порою выйдешь под утро, скользко и от накатанного детворой снега, и от сугубой тишины, ста шагов не пройдешь — начинается. Крикнет один — «сшибай», даст подножку, и все высыпают, как на цыганские страсти. Чуть оттает снег под проломанным носом, и снова свернется — его не проберешь, как и душу Проточного, ведь это наш добротный русский снег.
Таков переулочек, и не зря стоит в нем дом Панкратова, где помимо хозяев помещается упомянутое мною шляпное заведение. Дом этот построен отцом нынешнего Панкратова — два этажа, сени, кладовки, русские печи; сохранил он свою первоначальную окраску. Трудно понять это: чем грязнее, чем гнуснее переулочек, тем больше в нем таких нежно-абрикосовых домиков, как будто здесь цветут яблони и влюбляются девушки. А на самом деле, отодрав ставню, можно увидеть, как сам Панкратов, в честь сорокаградусной, лупит драным зонтиком хромую супругу или же мирно купает в изюмном соусе к голубцам свое волосатое рыло.
Это, конечно, по праздникам. В Проточном уважают всякие праздники — и «наши» и «ваши». В Троицу «Ивановка» нежно зеленеет. Жулье умащает маслицем полосы, а потаскухи, промышляющие внизу, на самом берегу Москвы-реки, трогательно шелестят юбками, как березки. Грохочет поп, и все, скажем прямо, благоухает. Но и советские праздники не в обиде — гармошка, вино, даже танцы, то есть безысходное топтание на одном месте: здесь живу, здесь и сдохну.
Панкратов так же пляшет и пьет и такой же с лица. Однако это не форточник, а почтенный гражданин, владелец солидного ларька на Смоленском: колбаса, монпансье «Красный Октябрь», огурчики. Крепкое нутро, холера не берет. Конечно, был абрикосовый дом национализирован: реквизировали, обмерили площадь,— словом, всячески пытались пронять Панкратова. Стоит только вспомнить, как один ушастый еврейчик, обнаружив под периной бороду, вытащил ее на свет божий и увез сгребать снег. Панкратов все выдержал, нужно было молчать — молчал, нужно было на того же еврейчика глядеть с «неподдельным энтузиазмом» — глядел. Отдали дом. Появились, так и не обнаруженные разными ушастиками, «излишки». От этого недалеко до ларька.
Панкратов читает плакаты: «Иди в рабкооп»,— и в рифму бормочет: «штоб...». Далее следует непечатное. Смеется он осторожно, про себя, в тех тайниках отечественной сметливости, где Калита сколачивал из курных изб государство, а отец Панкратова — из медных копеечек «рупь». Домашние хорошо знают, что такое «червячков разводить», и хоть далеко червонцу до империала — ни звона в нем, ни благоговения,— седьмая сотня приятно дышит, крупнеет, улыбается. Траты весьма ограничены: водка и бутылочка мадеры к празднику, новые занавески по случаю, раз в год молебен. Жена, та до сих пор перекраивает, перелицовывает, перешивает добросовестную рвань довоенного времени. На события у Панкратова взгляд философический: «Живем». Вывесить флаг ничего не стоит, а вот насчет налогов следует подумать. Конечно, «жиды — жидами», но главное — «чего Господа гневить? Живем...» Главное — «червячки». Чуть свет — Панкратов на ногах. Услышит, что на Благуше дешево продают ящик подмоченной карамели, сейчас же бегом на Благушу.
Жена, хоть и хромая, не отстает. Могла бы она, разумеется, сидеть дома, но нет, не такая семья. Панкратова с вечера печет пирожки, а утром продает их на Смоленском. У нее и патент есть. Червонец лишний всегда пригодится. На озорство мужа она не обижается: ведь это в праздничек, это от избытка чувств, от роста пачек под цветочным горшком. Она и сама бы не прочь «съездить» — сил не хватает. Подслащенная семейным счастьем и мадерой, Панкратова идет на кухню и шваброй дразнит кота. Кот шипит, сверкает, как фейерверк в Нескучном саду. Детей бог не послал — это и к лучшему. С детьми в такие времена беда. Денег на них не напасешься, а потом — кто знает — может дитя поддаться, сбежать в комсомол, отца родного ограбить. Думая о таких ужасах, Панкратова не без благодарности гладит свой полный живот.
Сестра тоже не нахлебница. Ремесло — великое дело! Мужа теперь подыскать ох как трудно! Поспит, отберет наволочки да простынки — и развод: оказывается, «настроения» у него неподходящие. А баронесса аккуратно выплачивает Поле сорок рублей в месяц.
Посмотрите, как отливают щеки Панкратова багрянцем, как ширится и твердеет борода, готовая пожрать не только его лицо — весь мир; как он пышен и чуден, когда после трудового денька пробирается вниз по Проточному, с пачкой за пазухой и с селедочкой, грохоча, отсчитывая барыши, каламбуря: «А теперь не мешает заморить червячка червячком». Жулье из «Ивановки», дружественно осклабляясь, расступается. Это идет массивный дух Проточного.
Панкратову во всем везет. Повезло и с жильцами. Это дело тонкое, политическое, вроде флагов или сборов на разных китайцев. Могли ведь уплотнить, а если дома — не дома, если и у себя в абрикосовом следует озираться да помалкивать — какая же это жизнь? Сахаровы подвернулись вскоре после революции. Клад! Не жильцы — друзья закадычные. Поленьку пристроили. Потом, как только преткновения, Сахаров тотчас распускает хвост: здесь и удостоверение со службы, и профсоюзная книжка, и мандат 19-го года, и декреты, и «принцип сотрудничества», и даже абстрактные идеи, так что в комхозе полный конфуз: «Да вы, товарищ, не волнуйтесь, это недоразумение...» Баронессу Панкратов искренне уважает: за титул, хоть и утерянный, за манеры, за разговоры о заграницах — там, например, письма летят по трубе,— за сметку: не растерялась баба, хоть воспитана для заграниц, для «ох» и «ах», а вытянула и мужа, и себя, и дитя.
Да, можно не любить Наталью Генриховну, но уважать ее приходится. В наши дни все мельчает: и реки, и книги, и сердца. Наталья Генриховна — осколок давнего мира, где прожигались миллионы, грабили не кассы — города, в один присест пожирали целого гуся, любили, что называется, «до гробовой доски», ничем не гнушались: ослепить разлучницу, самой пойти по Владимирке или купить краденое счастье, как перекрашенного цыганом коня. Она и телом крупна, однако в меру — все как-то правильно разложено по местам, причем все это породистое, высшего качества: и щетки бровей, и большой нос с горбинкой, и высокая грудь. Узость рук заменяет уничтоженную графу паспорта: родителям Натальи Генриховны не приходилось возиться с шляпными гарнитурами.
Отец ее, барон фон Майнорт, служил при дворе, любил фехтование и ветлужских стерлядок, был вспыльчив, нежен и глуп, как апрельский денек, женился на дочери нижегородского лабазника, красавице с лукутинской табакерки, рано овдовел, а умер вовремя, то есть недели за три до Октября. Дочь Тусеньку он воспитывал по-мужски — взбалмошно, приступами,— то приставлял к ней строжайшую мисс, то тащил в Париж: «Надо же ей услышать Иветту Гильбер...» Туся слушала; слушала она и многое другое: стихи декадентов в «Бродячей собаке», диспуты о свободной любви, ссоры пьяных возле казенки, признания правоведов, жалобы горничной Насти — «любит, а загубил», вой балтийского ветра, который бился о чересчур высокие официальные окна помпезного особняка на Мойке. Говорят, что в то время не было больше девушек чистых и пламенных, что недаром сошли все эти «огарки» или «кошкодавы», что очередное поколение вошло в жизнь с червоточиной. Каким же чудом убереглась от этого жившая хоть в холе, но и в запустении дочь добродушного дурака с рапирой? Мальчишки, приготовлявшие для флирта свежие перчатки и стишок, списанный накануне из «Аполлона», шарахались в сторону — «курсистка», «шестидесятница» — так ее называли в сердцах, хоть она и не была вовсе на курсах, а тот же «Аполлон» читала с раскрытой душой, как читали подлинные шестидесятницы Чернышевского.
Полюбила Туся тоже «по старинке», хорошей, полнокровной любовью, без вывертов, без уверток,— «бери»; и так как жизнь ее дотоле была парадна и неуютна, вроде особняка на Мойке, любовь сразу заняла все, потребовала жертв, послушничества, душевного жара. Дело в том, что барон, увидев впервые Сахарова, сморщился, как будто ему поднесли вместо рейнвейна касторки, и бесповоротно заявил: «Лакей. Никогда!» Донельзя легкомысленный, со всеми «пятницами на неделе», он на этот раз проявил редкостное упорство. Здесь не помогли ни слезы, ни засвидетельствованная доктором анемия, ни глухое «кинусь в Неву». Было, видимо, во внешности Сахарова нечто, возмущавшее барона — жидкие усики? или чересчур расторопные глаза? Или, может быть, повадки, одновременно и трусливые и наглые, какого-то настоящего лакея, решившего шикануть в дорогом кафешантане?
Впрочем, легче понять эту брезгливость, нежели чувства Туси, доходившие до старомодного обожания. Мелко костный блондинчик, с лицом чрезмерно опрятным, как будто столько его мыли, что смыли все: и глаза, и улыбку, и чувствования,— больше о нем ничего не скажешь. Лакеем, разумеется, он никогда не был, а служил в Международном банке и, не обладая амбицией, знал — точка, жизнь предопределена. О том, что такая жизнь даже скромнику в тягость, знали только балалайка и дешевые проститутки, которым Сахаров за те же деньги врал вволю, говоря, будто он — то знаменитый писатель, то владелец сорока нефтяных вышек.
Теперь лишний раз разведите руками. За что женщины любят нас? Всячески объясняли это, доходили до того, что за беспомощность, за слабость, за дрянность, а правильней всего сказать просто — «приспичит — роди, да подай».
Борьба с отцом длилась долго, чуть ли не до его смерти. Конечно, Туся пренебрегла бы и отцовскими проклятиями, и «положением», но здесь заговорил Сахаров. Хоть красота и пылкость чувств Туси всячески льстили его балалаечному сердцу, он не пренебрегал и монетой. Происхождение, и облик подобной жены только отягчили бы всю мизерность существования крохотного счетовода. Услыхав «семья», «бюджет», «дети», девушка не на шутку задумалась. Ее чувства, до того дня невесомые и радостные, как цвет яблони, стали обрастать мясом. Любовь требовала разумности, и Туся перебивала теперь нежные признания сложными выкладками, хитрыми маневрами, планами: приданое, служба, квартира.
Однако Наталья Генриховна была в ту пору еще наивной девочкой, хоть и говорила, что следует «использовать связи папа». Ах, ей так хотелось гладить светлые волосы ее Ванечки, не думая ни о каком «положении»! В эти годы существует еще, хотя бы в мечтах, простая комната с куском хлеба и с букетиком фиалок. Притом насмешки раздраженного барона над Сахаровым становились все злее и злее. Так произошло решительное объяснение.
— Все равно, папа. Решай. Я выйду замуж за Ивана Игнатьевича, или я с ним убегу.
— За таких, голубушка, замуж не выходят. Если ты настолько испорчена, я его найму в лакеи. Это все, что я могу тебе предложить.
Вернувшись со службы, Сахаров нашел в паршивеньком номере «меблирашек», где он проживал, Тусю с дорожным несессером. Впервые невеста предстала перед ним вне фантастического окружения денег, знакомств отца, мраморной лестницы особняка на Мойке. Однако он был молод и тщеславен. Он уступил, если угодно — отдался. Так совершился этот доподлинный мезальянс.
Прошло восемь лет. Говорить о том, какие это были годы, не приходится, все мы только о них и думаем, хоть стараемся забыть их: дико и дивно жить на земле с такой памятью.
Да, были и тогда бабьи пересуды, смена времен года, старческое покашливание, но даже эти привычные вещи казались незнакомыми, полными значимости, как резонанс собственного голоса в большом, пустом зале. Нелегко было сменить дочери барона все эти «Аполлоны», вернисажи и Баден-Бадены на заборочную книжку грубияна мясника, на выкраивание из крохотного оклада выходного платья. Над этим умилялись наши матери, говоря мечтательно: «Вот что значит, дети, любовь!» Нам остается взглянуть хотя бы на руки Натальи Генриховны — и усмехнуться.
Женившись, Сахаров бросил службу. Как заласканное дитя, он хныкал: «Что за жизнь!..» Он хотел вправду славы, мраморной лестницы, каких-то придуманных им «вышек». Молодые переехали в Москву, подальше от злых пересудов. Наталья Генриховна переводила с немецкого руководства для агрономов и давала уроки музыки, Сахаров весь день валялся на кушетке, подкрепляясь какао и мечтами: умрет барон, отпишет все Туське, как-никак дочь, тогда — цыганки, котелок от Вандрага, роскошь. После февраля он попробовал было выдвинуться, что-то напевал под нос, рассовывал соседям избирательные бюллетени, уверял: «Отстоим»,— как детский шарик, рвался он вверх к славе. Октябрь снова швырнул его на ту же кушетку. Потом кушетку отобрали. Отобрали и многое другое.
Здесь-то Наталья Генриховна показала себя. Чего только она не делала! Ощерясь, выбегала она утром на мороз, как волчица, у которой в норе голодные детеныши. Она вырывала пайки и жалованье, белый хлеб — эту поэзию Сухаревки — и охранные грамоты. За фунт пшена она объясняла почтительно топотавшим красноармейцам картины Дега и Ренуара, вела класс немецкого, на крыше вагона ездила в Серпухов за картошкой, сбывала бабам, божась и ругаясь, старые лифчики, разносила по редким лавчонкам сахарин, запрягшись в салазки, таскала с Москвы-реки дрова. Когда Сахарова посадили, она не плакала. Наглухо закрытые двери и те подались перед упорством этой женщины. Она не просила, нет, пренебрегая своим происхождением, более чем зазорным, сахарином, Сухаревкой, она требовала. Освобожденный наконец-то Ванечка ел сгущенное молоко и задавался вовсю: «Я им ответил...»
Наталья Генриховна колола дрова, раздувала печку, таскала ведра. Ванечка становился все белей, ленивей и капризней. Не было теперь на свете балалайки, способной выразить разор и томность его чувств. С женой он усвоил тон ребячливого отвращения: «Ах, опять это пшено с овсом! Не хочу!», «Сядь на стул, ты пахнешь луком», «Я, дурак, думал, что женщина — это вроде птички, а ты пыхтишь, прямо как паровоз. Не лезь! Надоело!»
Однако, несмотря на подобное разочарование, явился Петька. Наталья Генриховна носила его в сугубо тяжелый двадцатый год, и, взглянув на уродливые ручонки без ногтей, Панкратова перекрестилась: «Не жилец». Она не учла готовности и сил матери.
Вскоре подошло облегчение. Панкратов отслужил молебен. Впервые за все эти годы Наталья Генриховна решилась тихонечко всплакнуть. Шляпное заведение «Комильфо» сменило и музейные экскурсии, и сахарин. В заказчицах недостатка не было: «Баронесса сделает...» Жены сидельцев, разбогатевшие мешочницы примеривали здесь первые свои шляпы, кокетливо щурясь и подозрительно ощупывая каркас: нет ли подвоха?.. Это было полно поэзии, как первый бал или первая любовь. «Отделать шелком», «форма — котелок», «итальянский фетр» — прерывались икотой после снетковых щей и расчесыванием боков, где по-прежнему жила исконной своей жизнью фауна Проточного переулка.
Служба Сахарова была, откровенно говоря, пустячной — он должен был собирать объявления для агентства «Связь». Не раз жена ходила за него в разные тресты и управления: ведь он страдал ревматизмом и ненавидел трамвайную толкотню. Он стал «комильфо». Он ухаживал за советскими и полусоветскими барышнями (конечно, с разбором, чтобы не было ни сильных чувств, ни алиментов), ходил к Мейерхольду — послушать фокстрот, по мелочи играл в казино и на бегах,— словом, жил припеваючи. Когда он рассказывал дома: «Мараскин поет: я погажен, я потгясен»,— рассказывал спесиво, как будто это его, Сахарова, выдумка, мастерица Поленька богомольно приоткрывала свой огромный рот, похожий на плевательницу, а Наталья Генриховна уныло отворачивалась. Уж вправду читала ли она когда-то «Аполлон»? Кричала ли, вся раскрасневшись, «браво» Вере Комиссаржевской? «Отделать шелком», «Смазать Петьке грудь скипидаром», «Выгнать пятнадцать червонцев Ванечке на костюм».
Живем мы и, чего прикидываться, любим жизнь до подлости, а страшна эта жизнь, ничего страшнее не придумаешь. В комнате имелись три зеркала для примерки, и не могла укрыться от них бедная Наталья Генриховна. До чего постарела, подурнела, опустилась! Узнали ли бы картавившие правоведы в этой одутловатой женщине, с расстегнутым лифом и сбитыми волосами, недотрогу-красавицу Тусю? Да может, и эти правоведы стали ей под пару — продают дрожжи на Сенном рынке или, удрав в Париж, моют там трактирную посуду? Не в морщинах, впрочем, дело, не в правоведах. Незаметно оседают в душе нудная суета дней, брань соседей, жестокость и тупость близких, унылые видения Проточного и других переулков. Сначала кажется, что это только пылинки на прекрасной картине юношеских мечтаний: стоит подуть — и они улетят. Но проходят года, тускнеют краски, твердеет пыль, уже не смахнуть ее ничем. Не узнать никому во владелице шляпного заведения мнимой «шестидесятницы».
Сахаров, отдышавшись, перестал даже капризничать. Домой он приходил, когда вздумается, одаривал Поленьку плоскими анекдотцами и к домашним запахам — кухни, нафталина, Петькиных лекарств — примешивал чужой запах духов, которыми душились его часто сменявшиеся любовницы. Квартирант... Когда пробовала Наталья Генриховна жаловаться на Петькины болезни или на неисправность заказчиц: «Вот налог требуют, а денег нет»,— он пренебрежительно обрывал ее: «Неужели ты думаешь, что мне это интересно? С тобой и поговорить не о чем...» Он не кривил душой. Он и вправду забыл ту Тусю. Прикосновения жены раздражали его, как набитая до отказу площадка трамвая — «Гадость!.. Отстань!..». Наталья Генриховна теряла голову. Она грозила ему: «Не дам денег». Он знал — даст. Она пыталась понравиться мужу: часами перешивала кружева на рубашке — он любит розовенькие,— пудрилась, причесывалась, вспоминала прежние манеры и, сидя в покойном кресле, надменная, становилась вдруг похожей не на Тусю, а на покойного барона, только рапиры недоставало. Иван Игнатьевич, однако, даже не замечал перемены — он не глядел на жену. Тогда Наталья Генриховна забывала о прошлом, о самолюбии, приниженно ползала вокруг жиденьких усиков, выклянчивала грошовую завалящую ласку, а ничего не выклянчив, накидывала на плечи платок и в нелепом вечернем платье с глубоким вырезом бежала к беззубой молдаванке, которая предсказывала судьбу обитательницам Проточного и знала, как «приворожить».
Петька, когтями отодранный от смерти, мог бы стать некоторым утешением, если бы не его загадочный характер. Дрожит, заикается, доктор говорит «нервозность», может быть, от этого все? Нельзя сказать про него — «лгунишка», это — чудак, выдумщик, карапуз-фантаст, которому уже тесно в Проточном. Вот и сейчас позвала его мать, чтобы отшлепать за рев: «Какой Бубик? Я папе пожалуюсь»,— а он предерзко ответил: «Никакого папы нет. Это ты выдумала». Наталья Генриховна хотела было рассердиться, но не смогла: почему-то вспомнилось ей далекое время, выпускные экзамены. Учебник истории. Ягелло. Ядвига... А кругом петербургская белая ночь. И вдруг — от усталости или от призрачного света, а может быть, от нежного девичества — все становится легким, невесомым, выдуманным. Сказочны и колонны особняков, и пепельная вода Мойки. Кажется, рядом скребется, как мышь, сумасшедший Ягелло из «шестнадцатого билета». Нет ни гимназии, ни «папа», ни рапир, а только грусть, но такая хорошая, такая удачная эта грусть, что Туся улыбается.
Наталья Генриховна разрыдалась громко, глупо, как Петька, вытолкав за дверь приятно озадаченную заказчицу, которая понеслась со свеженькой сплетней — «Сын-то у нее — не от Сахарова!..». С кем было поделиться Наталье Генриховне? Так уж устроен человек, растет боль, растет ожесточение, и вот нет больше сил — хоть прохожего остановить: «Слушай!» Имелась у Натальи Генриховны поверенная, всеприемлющая и немая, как ящик «для жалоб». В который раз слушала дурочка Поленька повесть о высоком горении юношеских лет, об обманутых надеждах, о трусливом, жестоком и злом герое, который все же герой, ибо не вычеркнешь из памяти таких чувств. Знала Поленька и позднюю мечту Натальи Генриховны, вынянчившей двух отщепенцев,— дочь, женщину, бабу. Петька, тот уже рвется прочь, рвется с маменькиных коленок в проклятый подвал панкратовского дома или еще дальше, бог весть куда, к каким-то Бубикам. Он уже чужой, как Ванечка. А дочь будет своей, в приниженности, в беде. Иван Игнатьевич и слышать об этом не хотел: «Плодить кретинов, вроде мамахен...» (Сахаров любил уязвить Наталью Генриховну немецкой кровью.) Все это Поленька знала в точности, вплоть до «мамахен». Обычно она сопровождала сетования Натальи Генриховны сердобольным «ой ты», но на этот раз, улыбнувшись до ушей, от чего лицо ее, и без того глупое, стало «нарочным», не то клоунским, не то блаженненьким, а потом зашептала:
— Мне от Ивана Игнатьевича сыночка хочется, Ванечку...
Наталья Генриховна вскочила и, без памяти, кинула в Поленьку подушечку с булавками.
— Дрянь! Не смеешь!.. Убью!
Забившись в угол, Поленька испуганно блеяла. Через минуту Наталья Генриховна опомнилась:
— Вы, Поленька, не смейтесь надо мной. Грех это... Ведь я сама вам все выложила как на ладони...
И, вспомнив о своей последней опоре, вконец измученная, она закричала:
— Петя! Петенька! Иди сюда!
Но снизу раздался сиплый лай Панкратовой:
— Нет его. Опять в подвал залез. И не мальчик у вас, Наталья Генриховна, а совершенный бандит.
2. ВСЕ ИЗ-ЗА ОКОРОКА
Половицы абрикосового домика перепуганно мяукали, громыхали двери, истерически билось стекло в буфете. Здесь все мешалось: суровый топот Панкратова, плач, настоящий плач, как на похоронах, его жены, «ой ты» Поленьки, резоны Натальи Генриховны. Визжал Петька — в суматохе и ему попало: «Не водись с разбойниками!..» Даже кот нервничал,— взобравшись на шкаф, он напряженно помахивал хвостом, готовый закатить оплеуху неизвестному обидчику. Какой переполох! Слезы какие! А все из-за окорока. Ну, хороший, слов нет, двенадцать фунтов, только на прошлой неделе купили, все же чудно это: будто по сыну убивались Панкратовы. Ссорились: «Ты-то, овца, чего смотрела?» — «И смотри, сколько хочешь, все равно слизнут. Я тебе говорила, донести надо...» Задушевно вспоминали сочность ветчины, нежность белого как снег сальца: можно бы сварить, чтобы горячий с капустой, и запечь можно. Еще недавно отнимали у Панкратова и крупчатку, и закусочное серебро, и весь нежно-абрикосовый — он пикнуть не смел, а теперь из-за какого-то «червячка» скрежет зубовный. Хоть и скуп он,— без зажима счастья не сколотишь,— все же не в окороке было дело, а в нижнем, не предвиденном папашей Панкратова этаже.
Уморившись, Панкратов отсел в угол, посыпал лицо пеплом бороды и весь свой гнев выразил в одном слове:
— Журавка!..
Тогда все примолкли. Начался семейный совет. Позвали и Сахарова: хоть Панкратов в душе презирал его — задом виляет, «мели, Емеля», шантрапа,— однако всякие там удостоверения. Сахаров пришел неподобающе веселый, легкомысленно подпрыгивая — модник. Увидев бороду Панкратова, он, однако, подтянулся: дело серьезное.
Если бы мог подойти к окну прохожий чудак в куцем, с чужого плеча пальто, любитель человеческой чепухи, если бы мог он, подышав на стекло, засунуть в прорубь жадный глаз, странную картину увидел бы он: вокруг стола сидят люди, нет здесь ни самовара, нежно воркующего, ни дорогого русскому сердцу графинчика. Отчаянно содрогается лампа, которую забыли впопыхах заправить, горбится и попыхивает зрачками раздраженный кот. Уж не шпионы ли это, не заговорщики ли? Впрочем, ставни у Панкратовых крепкие, а за ставнями шторы, за шторами занавески. Любопытному глазу нечем здесь поживиться.
Начал Панкратов. Он не мялся, не хитрил — можно так, и этак, нет, напрямик сказал:
— Закупорить.
Что же замыслила борода? Темен ночью Проточный, темна его окаянная душа. Спуститесь вниз. Еще ниже. Петька, тот знает дорогу. Не бойтесь — это крысы пищат. А это? Это — люди. И здесь люди, хотя нет здесь ни стола, ни лампы, ни заветной пачки под цветочным горшочком. Можно сказать, пренебрегая грязью, жутким подсапыванием, вонючим тряпьем, что люди именно здесь, а там наверху только злобные призраки, ядовитые испарения наших застоявшихся лет.
Нелегко попасть в это логово. Давно замурована Панкратовым внутренняя дверца, засыпаны и два верхних окна. Непрошеные постояльцы должны ползти ничком, по ими же вырытому узенькому коридорчику. Все уже и уже становится ход. Хорошо маленькому Петьке. Ну, и Журавке... А вот как пролезает тут бывший преподаватель латыни Первой классической гимназии с кудреватым именем Освальд Сигизмундович и с громоздкостью седьмого десятка? Непонятно это, как и непонятно, зачем человеку жизнь, если остаются от нее только попреки прохожих, ноющая поясница, одиночество, да вот эта поганая нора, где даже крысы и те не выживают. А Освальд Сигизмундович, отогревая под рогожей гудящие свои ноги, совсем как Панкратов наверху, улыбался: «Вот живем, живем, кхе»...
Нелегко в такие годы валандаться без теплого угла, без сострадательного сердца, бьющегося по соседству. Ему бы печку, халат с кисточками, стакан чаю и уютную, как мурлыканье самовара, хлопотливость старосветской подруги: спину мазью натереть или же подложить подушку повыше. Одинокая старость паршивой собаки, вот ты глядишь на меня из проклятой берлоги, и я, видавший нищету, горе, смерть,— отворачиваюсь! «Живем, кхе...» В чем провинился старый пес? Лаять ли не умеет по-новому? Или слух ослаб, выпали зубы? Или, попросту, подрос новый помет, молодые псы влажными носами роют землю, прыгают, тявкают? Тридцать лет учил Освальд Сигизмундович мальчишек каким-то «генерис», «ут финале», «инфинитивус», а потом оказалось, что не нужно это никому, ни «инфинитивус», ни он сам.
Быстро развалился отставной преподаватель латыни, быстрее, чем дом на углу Панфиловского. Ставил баллы, получал маленькое жалованьице, пил желудевый кофе. Казалось, крепко засел он в жизни, без него нет ни больным микстур, ни розам и гадам имени. Остались, однако, и микстуры, и розы, и гады, а Освальда лишили желудевого кофе. Ничего он, говоря откровенно, делать не умел: ни спекулировать паечным сахаром, ни кривить душой. Татарин завязал в узел великолепный мундир, а с ним и апломб. Рука, не раз пугавшая юные души: «Господи, неужели кол?» — протянулась за милостыней, дряхлая рука, темная, сухая, как мертвый лист, мрачно кряхтящий под ногами пешехода: «Кхе, кхе...» Вместо бесстрастных, как звезды, «инфинитивус» и «аккузативус», заглушаемое трамвайной разноголосицей и человеческим стыдом: «Явите такую милость»...
Редко кто останавливался: ведь и милости человеку отпускается скупо — столько-то,— хорошо, ежели хватит ее на своих домочадцев да на роман сентиментального автора. Где же напастись жалости к этим видениям немилосердной ночи? «Работать, гражданин, надо», «Нет мелочи», «Ступайте в собес», «Здоровый, а просит», «Отстаньте!». Так они бродят по темным переулкам, мимо закрытых ставней, мимо закрытых сердец, все эти «инфинитивусы», «камергеры», бывшие титулы, бывшая слава, не выметенный забывчивой смертью человеческий мусор. Только снег скрипит под ногами, снег полей и степей, напоминая, до чего велика наша земля, до чего богата, бедна и страшна.
Освальд Сигизмундович спал, как спят дети и собаки,— калачиком. Он вбирал в себя голову и ноги, а руки же подкладывал под щеку. Это смягчало жестокое одиночество ночи: уютней было от собственного, хоть и скудного, тепла, от запахов старого пиджака и махорки, которыми пропиталось его тело. А проснувшись, он застенчиво улыбался — косому лучу, проникшему сквозь щель в эти катакомбы, Журавке, еще одному дню, подаренному ему щедрой судьбой. Прекрасная улыбка! Не отыскать ее наверху, ни в гнусной обители Панкратовых, ни в других безупречно чистых местах, где утром человек находит любимую жену, хлеб с маслом, завлекательные порывы, письма друзей, труд. Ведь это единственное богатство людей, потерявших все, которые ни о чем не пекутся и ни над чем не дрожат,— вот живу, вижу небо, счастливых и несчастных, свет, снег, слякоть, окурок, кота...
Мелка была жизнь Освальда Сигизмундовича среди единиц и падежей, ничтожны мечты о надбавке или о пенсии. Нет, не развалился он, а возвысился, вознесся в тот жестокий час, когда шурумбурумщик унес пышные отрепья.
Наверное, это смутно чувствовали дети, угрюмые и злые дети, жившие с ним в подземелье, воришки, сквернословы, пьянчуги, бич Панкратова и Панкратовых, срам нашей столицы, но все же дети, нежные дети, хоть никогда не знавшие ни сказок «о снежной королеве», ни сверкания рождественской звезды, но доподлинные мечтатели, чудаки. Был для них Освальд Сигизмундович, в отличие от других «дядей», у которых клянчились «копеечки», сказочным «дедушкой» — поэтому и пустили его. Ведь ход прорыли они. О старике и Панкратовы не знали. От чужих нору ограждали камни, зубы, когти. Как-то залез сюда выкинутый из «Ивановки» налетчик Хлепин. Его и милицейские побаивались. А Чуб, хотя ему едва пошел четырнадцатый год, не сдрейфил: стеклом изрезал морду Хлепина, так что тот, визжа, уполз восвояси. А вот Освальда Сигизмундовича ребята пустили, даже дали мешок: спи.
Было их трое: враг Панкратова длинноногий Журавка, Чуб, тот, что победил Хлепина, и самый младший, ротозей, белесый, как июньская ночь, Кирюша. Откуда они пришли? Чудом каким выжили? Кто их знает?.. Немало таких на улицах русских городов. То в трамвае жалостливой песенкой и злым полыханием зрачков вытянут копейку-другую, то слизнут у зазевавшейся дамочки сверток, то на Смоленском подберут яблоко, то от сердца, то из кармана, то с лотка. Бывали пустые дни. Тогда Кирюша лежал тихонько и придумывал: бумажник на мостовой, гусь, повсюду огни горят, как представляют в кино, и танцы, чтобы не только люди танцевали, но и лошади, фонари, дом с домом. А Чуб щурился и грыз зубами грязный картуз. Чуб ненавидел людей. Разве пожалеют? Зайдешь в трамвай, сейчас же: «Киш! Растут бандиты!.. Перестрелять их надо!..» Как-то слыхал он, барышня на Смоленском жаловалась: «Беспризорные-то хороши — кусаются, чтобы заразить...» Чем заразить, он толком не разобрал, но, улучив минуту,— было это в Прогонном переулке ночью,— куснул пузатую гражданку, шипевшую «Пошшшел!..» Вот он и «заразил» кого-то своей злобой, сиротством, голодом: «Попробуй, поживи, как мы!» Выручал всю шайку Журавка — очень был ловок. Недаром Панкратов его ненавидел. Окорок действительно стянул он, и не только окорок — калоши, платок Поленьки, пять фунтов рафинаду,— все на его совести. Брал он с нахрапу. Как-то проходил мимо молочной на Пречистенском бульваре. Видит, сидит толстяк, ест простоквашу и — червонец: «Получите, барышня». Журавка подлетел: «С вас, гражданин, червонец на беспризорных...» Пока тот опомнился, Журавка уж был далеко — у Арбатских ворот. Любил он кутить, стрелять в тире, курил, пил водку, когда перепадало, хвастался, что ходит к бабам, но, по правде сказать, врал. Хотел пойти, приглядел какое-то лохматое чудовище из «Ивановки», однако струсил: «Вдруг оскандалюсь?..» Очень был тщеславен. Все отдаст, лишь бы похвалили: «чистая работа!» Пел. Всегда веселый. Чуба не понимал: «Чего ты злишься?» Кирюшку он жалел: «Боюсь я за тебя! Девчонка! Схватят, ты и раскиснешь! Или сдохнешь с голоду». За себя Журавка был спокоен. Бахвалился: «Чего тут? И не то видали. Воевать пойду. Какая-нибудь война да будет. Из меня такой Буденный выйдет, что только держись!..»
Вот с кем сожительствовал отставной преподаватель Первой классической гимназии. Здесь он впервые узнал, что такое детство, хотя всю жизнь провел среди детей. Он не пробовал объяснять ребятам, что такое спряжения, и не пугал заспанного Чуба переэкзаменовкой. Как-то получив от иностранного журналиста двугривенный, он купил друзьям ириски. Часто и они его подкармливали — то булкой, то сливами. Говорил с ними Освальд Сигизмундович мало — не знал о чем, все больше улыбался: «Кхе, кхе...» Когда же от молчания коченел язык и обмирало сердце, он начинал вслух спрягать безумные, никаким законам не подчиненные глаголы. Ребята молчали, Крыса, сдуру высунувшая нос,— нет ли чем поживиться? — убегала, расстроенная человеческим голосом. Кирюше слова нравились — звонко и непонятно — «герундии», «императивус». Это было настоящей сказкой. Наверное, старик заколдовывает все, чтобы обратился Панкратов в лягуху, а тумбы в Проточном в красавиц дочерей. На младшей Кирюша обязательно женится. Журавка тоже увлекался: гудит. Он мечтал о барабанах, о свисте пуль — война, бандиты, налет. Даже угрюмый Чуб и тот бормотал: «Дедушка-то наш молится. Дурак он, а добрый». Освальд Сигизмундович, выпрямившись и глядя прямо перед собой, продолжал: «Перфектум». Игра звуков, бесцельная и вдохновенная, мелодия далеких веков в этом смрадном подвале наполняли его сердце сладостью и благоговением. Он был счастлив высоким счастьем поэтов.
Петьку ребята перво-наперво вздули. Но, присмотревшись, обмякли, стали пускать его к себе, даже жаловали. Он был «оттуда». Это им льстило. Журавка давал перебежчику орехи и добродушно поддразнивал: «Что, опять набили? А ты ее, мальчик, зубами!..» Ходил сюда Петька не ради орехов, не ради Журавки, Он полюбил темноту, полную опасностей, и Кирюшу. Здесь можно было выдумывать вовсю. Кирюша верил в «Бубика»: «А какой он? С шерстью?» — «С шерстью и летает».— «Высоко?» — «До неба, а оттуда яблоки скидывает».— «Яблоки?» — «Ну да, яблоки, у него под мышкой яблоки растут».
Как-то Петька попал на «представление» — «дедушка» говорил непонятные слова. От восторга его пронял озноб. Впервые он увидел, что большие могут тоже «выдумывать». Стоит и говорит. Вот бы его мама отшлепала!.. Да нет же, куда тут — разве такого можно отшлепать? Он старый, старее мамы, старее всех,— значит, он самый умный. И ничего такого нет, все «представляет». Петька, не в силах сдержать себя, обнял ноги Освальда Сигизмундовича и начал тоже выкладывать непонятные слова: «табабус», «чундум». Невыразимой радостью преисполнилось тогда сердце старого преподавателя: не было у него ни детей, ни благодарных учеников, никого; впервые вдохнул он в чужую душу восторг и ужас древнего звучания. Он поднял Петьку, торжественно сказал: «Футурум», и поцеловал: «Кхе, кхе, живем...»
В этот вечер, однако, Петьки не было. Забившись в угол, горя и фыркая, как кот, он присутствовал при семейном совете. В этот вечер не было и «герундиев». Внизу, как и наверху, героем являлся розовый окорок. Наверху его оплакивали, внизу его пожирали. После пяти дней, когда не было и хлеба, окорок казался волшебным, как сны Кирюши. Молча пировали, сосредоточенно, боясь обронить кусочек сала. Только Журавка не вытерпел:
— Что-то там теперь делается? Кричат караул!..
Но наверху, как мы знаем, было тихо, слишком тихо. Важно, степенно, с расстановкой изложил Панкратов свой план: закупорить. Ночью банда спит, ночью пуст и глух Проточный. Ход следует завалить снегом, а поверх обдать водой. Мороз нынче, слава богу, крепкий. Сахаров попробовал было возразить:
— Может, лучше сначала в район сходить? Так сказать, на законном основании...
— Нет уж, увольте. «Их» в дело нечего вмешивать. Потом хлопот не оберешься. Аршином все обмерят — воздуху чересчур много. Или же с налогами. Тут уж и удостоверения ваши не помогут. Кто же это зовет волка на свой двор? Дело семейное. Вот вы лучше с Натальей Генриховной посторожите, чтобы не прошел кто мимо.
Наталья Генриховна одобрила. Да, эта преданная жена, любящая мать, плакавшая в свое время над «Оливером Твистом», мечтающая о нежной дочурке, одобрила: закупорить. Сколько их там? Трое? Пять? Восемь? Разное говорили. Все равно. У Натальи Генриховны с ними свои счеты: у Панкратова они выкрали калоши и ветчину, а у нее отняли сына, Петьку. Если их не уничтожить — совсем мальчик отобьется, пропадет, гляди — уйдет с ними. Ответил же он как-то Наталье Генриховне, которая, вспомнив свою молодость, размечталась: «Я тебя к семилетке подготовлю».— «Нет, я уж лучше с Кирюшей в Крым уйду». Жестокость расправы не останавливала ее: все хороши, разжалобишься, а он тебя укусит, нечего слюни пускать. Разве ее кто-нибудь пожалел?.. Она отстояла Петьку от смерти, она отстоит его и от этих разбойников. Правильно: засыпать.
Сахаров больше не протестовал. Он только вежливо уклонился от работы:
— Мне, извиняюсь, на рандеву нужно. Дельце маленькое. А вы уж как-нибудь без меня.
Он ушел. Увидев, что раскрылась дверь, вслед за ним выскочили Петька и кот: видимо, надоело им фыркать в углу. Дурочка Поленька, та позже всех сообразила, в чем дело. Уж Панкратов, перекрестясь, сходил вниз за лопатами, когда она вдруг взвизгнула:
— Ой ты, ведь задохнутся они!..
Панкратов цыкнул:
— Молчи! Узнают они у меня, как это окорок красть...
3. СУМАСШЕДШИЙ КУСОЧЕК, КОМИЧЕСКИЙ КУСОЧЕК
Наискось от абрикосового домика, на углу Проточного и Прогонного переулков, в настоящем и проточном, и прогонном дворе жили люди, если верить шушуканью соседей, подозрительные. Квартира №6 была на плохом счету. Чем провинились ее обитатели? Мылись ли слишком часто? Или читали «Правду»? Или мало якшались с почтенными тузами околотка, хотя бы с тем же Панкратовым? Хозяина Лойтера, занятого правкой безопасных бритв, валили в одну кучу с жильцами. Панкратов уверял, что это не иначе, как «гипиу», другие сбавляли — «комчики». А жулье из «Ивановки» опасливо косилось — «легавые». Диву даешься, откуда все это люди придумывают? Стоит только чихнуть, гляди уж — не то «арап» ты, не то шпион. Проживали в злополучной квартире, кроме Лойтеров: советская барышня по фамилии Евдокимова, Прахов, мелкий журналистик из «Вечерней Москвы», да мой приятель Юзик, который играл на скрипке в киношке,— люди без блеска, без талантов, самые заурядные личности.
Когда я был моложе, мне нравились герои с крупными страстями, с диковинными чувствами. Занимали меня тогда пороки, позы и похождения. А теперь меня не удивляют ни игра воображения, ни сила характера, ни отвага. Я скучаю среди пышных картин Кавказа и среди величавости морских вод. Только серая наша природа, все эти захолустные лесочки, небо скромное, как сирота, и люди скромные, ничем не примечательные, еще способны растрогать мое сердце.
Юзик! Где ты сейчас, глупый горбун? Играешь очередной вальс в «Электре»? Или, кончив работу, смотришь на бледные звезды северной ночи? Я знаю — ты хитришь, Юзик, ты хочешь что-то вычитать на небе, а ведь небо далеко, и жить мы должны здесь, на земле, вот в этом Проточном...
Юзику приходилось судить, утешать и думать, думать за квартиру №6, за Проточный переулок, за всех.
Ведь к нему, именно к нему, а не к Прахову, хоть Прахов писал в газете, прибегала, запыхавшись, гражданка Лойтер:
— Вы слыхали, на сколько нас обложили? Теперь скажите мне — почему вы делали эту революцию?
Юзик задумывался. Он никогда не отвечал сразу.
— Я ее не делал. Я жил тогда в Гомеле, и я играл в ресторане «Конкордия» на скрипке. Но я тоже кричал «ура». Хотя у меня нет настоящих мыслей, а только горб, я тоже кричал. И я смеялся. Я думаю, что все тогда делали революцию. Вы тоже делали революцию, мадам Лойтер. И тот, кто обложил вас налогами, он тоже делал революцию. А почему мы ее делали? Этого я не знаю. Почему делают детей, мадам Лойтер? Наверное, потому, что у людей маленькая голова и большое сердце.
Философия Юзика никому не нравилась: она пахла провинциальным луком и безропотностью старой «черты оседлости». А в Москве люди хотят удачи. Гражданка Лойтер, раздосадованная, кричала:
— Вы говорите глупости, Юзик. Смешно! Когда они здесь поставили сто шестьдесят, вы хотите меля утешить такими разговорами...
Она звала его «Юзик», хоть не был он вовсе ее родственником; так уж пошло — Прахов, Таня Евдокимова, швейцар «Электры», даже мальчишки из Проточного, когда, насмехаясь над горбатым чудаком, они гнусили сочиненную анонимным автором песенку:
У жида Юзика
На заду пузико.
Несет Юзик муку к празднику,
А получит в задницу.
Юзик не обижался на ребят; ласково улыбаясь, он бормотал: «Да, да, сюда и получу, конечно же, сюда...»
Он не был вовсе жалок, этот крохотный урод из анекдотического «Гомель-Гомеля». Горб свой он умел носить величественно, как носили астрологи дурацкий колпак. Хоть и говорил он, что нет у него «настоящих мыслей», он был доподлинным философом Проточного. Он один догадывался, среди выбитых зубов и ленивого копошения щей, что не так уже мелок этот всеми презираемый переулок, что живут в нем люди сухие и темные, как струны скрипки, из которых можно извлечь все вальсы, все слезы, все звуки мира.
Пять лет тому назад он приехал сюда, оставив в далеком Гомеле затравленное детство калеки, который плакал в сторонке, пока его сверстники катали орехи, оставив пустую синагогу,— «Зачем молиться? — говорили старые евреи,— если из улья вынули мед, а из нас радость»,— и тихую, как беспамятство, могилу. Вместо чехарды он получил горб, а вместо материнских ладоней — кладбищенскую крапиву. Он мог бы ожесточиться. Он привез в Проточный старую скрипку, две смены белья и такую нежность, что Прахов, увидев его, обмер, бросил на пол недокуренную папиросу и в сердцах сказал Лойтеру: «Почему его не посадят в сумасшедший дом?»
Так многие думали. Услугами горбатого чудака, однако, никто не гнушался. Забегала Таня:
— Вы, Юзик, кажется, сейчас ничего не делаете? Сходите, миленький, в библиотеку. Вот книги. Возьмите Бухарина «Экономику», что-нибудь Сейфуллиной и еще новенькое, ну, вы там посмотрите — на что больше запись. А то у меня сегодня столько работы.
Юзик играл в «Электре» вечером. Днем он, вправду, ничего не делал, разве что думал, но это не дело, это глупости, за это сажают в сумасшедший дом. Вернувшись из библиотеки, он раскрывал наугад книгу. Прочитав первую же фразу, он задумывался. Поэтому он не мог дочитать до конца ни одной книги. Таня выговаривала ему:
— Вам, Юзик, старье подсунули. Эта третья книга мне ни к чему.
Юзик виновато улыбался:
— Вы, может быть, еще раз прочтете ее, Татьяна Алексеевна? Второй раз гораздо интереснее. У меня есть одна книжонка, я ее читаю каждую ночь. Я не знаю, кто написал это — может быть, Бухарин, Сейфуллина, я ведь не учился в гимназии, а первая страница отодрана. Это совсем не обыкновенная книга. Я читаю ее, и я плачу, и я смеюсь как сумасшедший. И мне хочется сказать человеку, который сочинил эту книгу: «Вы большой умник, вы все видели, вы все понимаете. Я знал умников. У нас в Гомеле был один умник цадик, и он умер. И один умник коммунист, он секретарь Гомельского комитета. Но вы не только умник, вы — святой человек. Видно, что вам плохо живется, как нам здесь в Проточном, но вы не кричите, не ругаетесь, вы себе пишете книгу, такую книгу, что я, глупый Юзик, смеюсь и плачу». Ах, Татьяна Алексеевна, вы только послушайте, что я вчера прочел: «Много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую из презренной жизни, и возвести ее в перл создания». Вы понимаете, куда он прыгает, и что это за штучка?..
Таня снисходительно морщилась:
— Глупые книжки вы читаете, Юзик. Кто теперь говорит «перл»? Это ювелир, а не писатель. Вы должны усвоить методологию...
Что такое «методология», Юзик не знает. Это, вероятно, особый язык, на котором следует говорить с Таней. У Юзика есть что сказать взыскательной соседке. Но как?.. Нет у Юзика для этого подходящих слов. Если Тане не нравится «перл создания», то какие же слова он может придумать? Другие евреи умеют говорить. Старые еще помнят слова пышные, как храм Соломона, слова, которые пахнут гвоздикой и звездами, а молодые, что же, и молодые не молчат, они говорят: «платформа», «директивы». Конечно, у Юзика — скрипка. Может быть, ничего не говорить Тане? Может быть, сыграть ей один сумасшедший кусочек, который Юзик играет, когда на полотне несчастные люди, не горбатые, нет, расписные красавицы, ломают руки, плачут, потому что у них большие чувства, а слов нет, как нет их у Юзика?..
Но Юзик никогда не играл Тане этого «сумасшедшего кусочка». Он играл ей вальс, где столько грусти, сколько надобно девушке, чтобы немного помечтать, он играл и модный фокстрот: пусть смеется.
Таня слушала, Таня смеялась, Она видела карие глаза, добрые глаза преданной собаки. Она видела горб. Она говорила: «Юзик со всеми добрый». Откуда ей было знать, что там за карими глазами, за нелепым горбом? Ведь это только любимый сочинитель Юзика умел возводить презренную жизнь в какой-то старомодный «перл», а Таня не была сочинителем. Была она обыкновенной девушкой, любила диспуты в Политехническом и фокстрот, стихи «Левый марш» и губную помаду поярче. Перенявшая от своего века две-три несложных идеи и комсомольскую кепку, она сохранила в сердце наивный жар ее бабушек, которые «ходили в народ», любя, забывали все, шли на каторгу или затворялись в монастыри, которые целовались. среди милой нашему сердцу черемухи как простушки, а погибали как героини, обыкновенная русская девушка; вот такой была прежде и Наталья Генриховна, хотя не чета дочери барона тульская мещаночка. Душа горбатого фантазера была Тане невдомек.
Юзик засыпал под утро, спал он мало и часто просыпался, вскакивал, бегал по комнате, смешно шлепая калошами. На липе его бывало тогда почти комическое недоумение: все мешалось в голове, плотность сновидений, призрачность дневного света, пропущенного сквозь шторы, и уродливая тень крылатого зверя, отражаемая длинным зеркалом. Иногда он раскрывал футляр и дергал струну скрипки. Скрипка в ответ томительно стонала, и сосед Юзика Прахов яростно стучал в стенку:
— Не сходите с ума, или вас выселят!
Это случалось после того, как Юзик во сне беседовал с Таней. Он говорил ей о своем сердце, о парке Паскевича в Гомеле — поля, большая река и песок,— о том, что из улья нельзя вынуть весь мед, о радости жить рядом с Таней. Пусть она любит другого — у Юзика горб, Юзика не стоит любить, пусть она выйдет замуж за красивого и благородного героя, за одного из тех, что показывают в «Электре». Пусть она будет счастлива. Он ничего не хочет. Он радуется тому, что он ее видел. Этого никто не может отнять даже у смешного урода. Он узнал в жизни не только горе Проточного переулка. Он узнал не только ум двух гомельских умников и чудные речи неизвестного сочинителя. Он узнал Таню.
Он говорил во сне смело, без запинки, не стыдясь слов. Слова эти были высокими и пронзительными: «Перл создания!», «О, моя свежесть!», «Жар вдохновения»... Но Таня не смеялась. Ласково гладила она уродливый нарост, и вот больше не было горба. Вместо него шумели большие крылья. Юзик взлетал. Он летел и плакал от умиления, он летел над Таней, над Проточным, над всеми, кому спится и кому не спится, летел и плакал. А потом он падал, просыпался, всовывал ноги в калоши и бегал из угла в угол.
Так протекали ночи и любовь Юзика.
Даже Прахов, слыхавший часто ночные вскрики скрипки, ни о чем не догадывался. Прахову было недосуг догадываться: он должен ежедневно выгонять полтораста строк для газеты, набрехать то о модах для «Женского вестника», то о светосильной оптике для «Советского фото», то о собаководстве для «Красного охотника», хоть он ровно ничего не понимал ни в линзах, ни в вельветине, ни в ушах сеттеров. Хотел человек жить — ужинать в клубе «Друзей культуры», корректно одеваться, ездить иногда на бега, провожая из театра знакомую, не дрожать при мысли: «А вдруг трамвай пропустим?..» Он хотел даже дарить дамам, гражданкам, товарищам — словом, особам женского пола — большие пунцовые розы, мерцавшие за мутными стеклами цветочных магазинов. Это может показаться неправдоподобным. Однако, ежели существуют в Москве и розы и женщины, то почему бы и не помечтать вот такому, вдоволь легкомысленному юноше о букете, бережно закутанном на морозе, как нежные признания? Но на собаках и на прочем не раскутишься. Далеко за полночь Прахов все корпел над листками. Когда же буквы становились загадочными, вроде клинописи, и он сам переставал распознавать их тайный смысл, он читал ненаписанное: через год Борис Прахов будет первым фельетонистом Москвы, ему будут платить двадцать червонцев за коротенькую статейку, он поедет в Крым, Персию и Париж, в него влюбятся все артистки «Студии»; он, конечно, не отвергнет их нежных чувств, но прежде всего он побежит к ней. К кому же? Она не артистка «Студии». Ее фотографии не выставлены на Петровке, и ей не подносят пунцовых роз. Это обыкновенная советская барышня. Она стучит на машинке: «Настоящим подтверждаем...» Она... Ты слышишь, Юзик?..
Юзик знал о мечтах Прахова. Он не понимал только ветрености Прахова: когда рядом Таня, как может тот вешать на стенку карточки разных актрис и проводить ночи у секретарши «Женского вестника»? Прахов ворчал: «К ней и подступу нет». Что же, пусть подождет, ведь Прахов не Юзик, у него нет горба, Прахов высок и представителен, он может быть хорошим мужем. Юзик не верил в любовь Прахова, такая любовь хороша для актрис, Таня от нее погибнет. Разве можно любить мимоходом — купил папиросы «Наша марка», пошутил с встречной дамочкой: «Ну и глаза у вас, гражданка, что надо — пронзили»,— развернул газету — какая кобыла пришла первой, здесь и кино, и выудить аванс, и кассирше Мане купить поддельный «Ориган» — дура не разберет,— и любовь здесь же — Таня, видите ли, ему понадобилась, Таня, о которой Юзик и во сне не смеет мечтать! Хорошо пишет неизвестный сочинитель, а вот Прахов пописывает, что теперь носят короткие комбинации, потом, что надо поднять производство, потом, что лисиц лучше всего выгоняют из нор шотландские терьеры, и на все это ему наплевать. Нет, Прахов не любит Таню!
Жили соседи мирно, даже приятельствовали. Юзик и Прахова выручал — то сбегает в редакцию, то перепишет набело статейку, то выудит из старой «Нивы» описание охоты на барсуков. Таковы были нравы квартиры. Лойтеры, те только и знали: «Юзик, может быть, вы сходите на рынок за молоком для Осеньки?», «Юзик, дорогой, посидите с Раечкой, я иду в Охотный...» Прахова Юзик жалел — были бы у него деньги, разве стал бы он писать о каких-то терьерах? Он писал бы о своих актрисах и был бы счастлив. Хорошо, когда люди счастливы, когда они смеются, женятся, едят вкусные блюда, говорят комплименты, когда они друг друга любят, когда кругом тебя такая радость, что даже терьеры из «Красного охотника» и те улыбаются. Ах, граждане, граждане, чего недостает нашему Проточному переулку — это чуточку счастья! Если бы Юзик выиграл сто тысяч в лотерею, он отдал бы деньги Прахову. Он знает, чего кому хочется: Лойтерам — квартиру побольше, тесно им здесь; Тане — благородного героя, как в американской картине; Прахову — денег, а Юзику? Юзику хочется, чтобы все у всех было.
Да, деньги Юзик отдал бы Прахову, но не Таню. Здесь-то у них и начинались размолвки.
Прахов жаловался:
— Шут ее знает, как ее заговорить! Баба хоть куда, а лежит без толку.
— Вы очень глупо рассуждаете, товарищ Прахов. Татьяна Алексеевна вовсе не актриса. Вы хотите жить в свое удовольствие, и живите. Но почему вам нужно, чтоб она обязательно плакала? Почувствуйте, что вы ее любите, но не так, как ваших актрис, а чтобы все в душе горело, скажите ей — у вас тогда найдутся замечательные слова,— возьмите ее за руку и пойдите с ней вместе через всю жизнь. Тогда я соглашусь с вами: товарищ Прахов любит Татьяну Алексеевну.
— Вы, Юзик, отстали. Мораль-то у вас дедушкина.
— Этого я не знаю. Я никогда не видел своего дедушки. А от вашей критики мне только смешно. Вы думаете, если была революция, значит, можно обижать одинокую девушку? Пусть я буду самый отсталый, но я скажу вам, что нельзя жить между прочим. Нужно подумать. Здесь не ваши «строчки». Заставить плакать — это каждый может, а вы заставьте ее улыбаться.
— Ах, Юзик, видно, что вы женщин не знаете! «Любовь»... На самом деле все много проще: сначала говорят нежные вещи, потом спят, а потом расплачиваются, как — это не важно: жена — на иждивении, то есть помесячно, не жена — подарочек, ну, колечко какое-нибудь, словом, построчно. У меня нет времени для нежностей, и денег у меня тоже нет. Вот и все. Выиграю на бегах, тогда посмотрим. Вы что думаете — ей без мужчины весело? Так только, фордыбачит...
Здесь Юзик терял философское свое спокойствие... Он начинал смешно топать маленькими ножками, похожими на копытца; трясся, как зловещая поклажа, горб. Голос звучал визгливо — Прахову вспоминались ночные вскрики скрипки.
— Молчать! Вы — пачкун, и вы думаете — все пачкуны? Вы пачкаете бумагу. Вы все пачкаете. При чем тут деньги? Можно купить папиросы. Это я понимаю. Это плохо, но это так. А счастья нельзя купить. Оно не продается, товарищ Прахов. Идите к вашим красивым актрисам и оставьте меня в покое. Мне нужно разучить для новой программы комический кусочек.
Прахов уходил: «Ну и чудак! На что он обиделся?» А Юзик действительно брал скрипку и начинал играть попурри из «Веселой вдовы». Впрочем, выходило это настолько печально, что гражданка Лойтер кричала:
— Юзик, перестаньте! У меня от вашей музыки вся душа выворачивается, а мне нужно выстирать детский костюмчик...
4. «ВОЛЕЮ АДСКОГО ДУХА»
Странно подумать, что сейчас в Москве сугроб на сугробе, носу не высунешь, а в Ялте цветут пунцовые розы, и уж наверное кто-то сейчас умирает, всеми позабытый, на больничной койке, а кто-то смеется, пьет вино, целует женщин. Так было и в тот вечер. Пока Панкратов, поднатужась, заваливал снегом ненавистное ему логово, мирной жизнью жила квартира №6. Гражданка Лойтер оплакивала ботинки Осеньки: «Слыханное ли это дело? Заплатить три червонца, чтоб они через две недели продрались!» Осенька безмятежно спал, он видел во сне больших слонов, тетю Соню и халву. Прахов вяло колол пером лист. Ему заказали сто строк о беспризорных. В который раз перечитывал он: «Беспризорные знают, что...» Что знают беспризорные? И что знает о беспризорных Прахов? Они вытащили у него в трамвае выдвижной карандаш и кашне. Надоело!..
Юзик свободный понедельничный вечер заполнял чтением любимой книжицы. Сегодня сочинитель пугал Юзика. Он говорил о женщине, прекрасной, как Таня: «Она была какою-то ужасной волею адского духа, жаждущего разрушить гармонию жизни, брошена с хохотом в эту страшную пучину». Взволнованно Юзик подбегал к окну. Он как бы искал защиту у сугробов и звезд.
Юзик хорошо понимал страшные слова. Он знал, что «адский дух» навещает и Проточный переулок. Это он заставляет женщин истошно кричать среди ночи. Он вытаскивает из голенищ ножи. Он шуршит проклятыми червонцами. Прошлой осенью молодая швея из квартиры №11 утопилась в Москве-реке. Юзик помнит, как смеялся тогда ее сожитель. Или, может быть, не он смеялся, а вот этот «адский дух»? Где же сейчас он? Кого выслеживает? Белели сугробы, косные, как мысли. Наискосок копошился Панкратов. Юзик, однако, его не видел.
В соседней комнате, не думая ни о каком «адском духе», Таня примеряла новое платье: идет или не идет? Была она очень возбуждена, не могла усидеть на месте, то раскрывала книжку, хотя буквы кружились и метались, то глядела на часики, то подбегала к зеркалу опять с этим: идет или не идет?..— то вслух смеялась и без какой-либо причины — от волнения, то так печально вздыхала, что казалось, предчувствует она не выразимое словами горе. Не мудрено: Таня ждала одного человека, чье посещение должно было многое порешить в ее жизни, человека, в нее влюбленного, хоть и женатого, которому она позволила прийти в столь поздний час. Любила ли его Тани? Трудно ответить на это. Новичок в сердечных делах, она путалась: ну, да, он очень милый... Однако мало ли «милых»? Почему она прогнала Прахова, когда тот мимоходом ее обнял? Как разобраться во всей этой путанице? Правда, он застенчиво улыбнулся, увидев впервые Таню. Говорил он с ней серьезно, не о любовной бестолочи, нет, о книгах, о театре. Он был с ней в кино на «Потемкине». Не приставал. Сказал с видимой взволнованностью: «Не правда ли, очень сильное впечатление, когда кидают в воду?..» У него жена. Значит, это драма. Значит, это подлинные чувства, Нет, не то! Не в «Потемкине», не в жене дело. Но разве знала Таня — в чем?
Вот поднес ей мальчик в матросской шапке билетик: «Тяни». Она закрыла глаза, пробует отшучиваться: «Вытяну счастье»,— а у самой дрожат пальцы, и долго они не могут развернуть бумажку. Таня видит цифры, много цифр. Разве счастье такое? А кругом сослуживцы смеются: «Вы, Евдокимова, петушка выиграли»,— и мальчишка преглупо дует в глиняную свистульку: «Фью, фью...» — «Не хочу петушка!» Но второй раз тянуть нельзя. Таня всхлипывает. Что это? Неужто она задремала? Стыд какой! Сейчас он придет...
Главное — нужно решиться. Без этого нет свободы. Все время об этом думаешь. Нужно полюбить, хоть по заказу, чтобы вовсе не думать о любви — ходить на службу, слушать лекции, читать хорошие книги, чтобы жить правильной мужской жизнью, без этих горячих снов, тревожных просыпаний и пестряди «да?» — «нет?». Все подруги Тани давно перешли через это. Они сходятся и расходятся, как будто танцуют, без надрыва, разве что немного всплакнут или на радостях перепутают листы протоколов. Значит, это не страшно. Вот и на диспутах все говорят об этом просто, как об обеде: организм требует столько-то углеводов, столько-то жиров. А муки любви, а поэзия, а огонь, пожирающий души влюбленных,— все это слова, запоздалые видения иной эпохи, пышные и мертвые, как золото иконостаса. Таня хорошо помнит, что все это — «упадничество». Так выразился один умный лектор и, глядя на аудиторию, на Таню, на сотни Тань, чьи пухленькие губки образовывали одно доверчивое «о», сардонически усмехнулся: «Подобные настроения только заслоняют очередной лозунг...» Он правду говорил. Нужно работать. Нужно жить мозгами. А для этого нужно решиться.
Сейчас он придет. Сядет. Заговорит. Какое у него лицо? Таня вдруг перепугалась: она не могла вспомнить его лица. Глаза, кажется, светлые. И усики. Она перечисляла все приметы, но не видела их. Перед ее глазами вращались общие и сугубо бездушные формы: циферблаты часовых магазинов, прически парикмахерской, куда она ходила стричься, фотографии демонстрации, снятые с балкона: муравейник! «В толпе я б его не узнала...» И снова Таня в изумлении спрашивала себя — почему он? Почему не заведующий конторой Воронин? Почему не Прахов? Почему не все эти свистуны и горлодеры Проточного?
Тогда она уступала мечтам, только что ею же высмеянным. Робко спрашивала она себя: «Может быть, я люблю его?» — и это слово как бы перестраивало орган ее чувств. Душа звучала по-иному. Вместо умных лекций теперь вспоминались стихи: «Грубым дается радость, нежным дается печаль...» Как хорошо это сказано! Вот у Юзика горб. И Таня не хочет радости. Она хочет быть тихой, нежной, затеряться среди жизни, любить пламенно и незаметно, утешать, миловать, если не возвышать, то хоть радовать встречных, как радуют бродягу вздорные васильки среди золота колосьев. Она вовсе не хочет жить «по старинке», как дразнит ее Прахов. С жадностью она читает новые книжки, с готовностью работает и учится. Ей хочется быть «шкрабкой» где-нибудь в глухой деревне на околице России. В жалких избенках, среди снегов и распутиц, безвестные люди строят нашу страну. Об их судьбе мечтает Таня, хоть и любит она поспорить — «Камерный или Мейерхольд»,— потанцевать, побродить по Петровке, где огни, магазины, автомобили, веселая праздничная суматоха. Таня вся с новыми. Но не меняет это звучания чувств, и сейчас она тихо повторяет: «Нежным — печаль...»
Таня нервически вздрогнула: но ведь это смерть, с этим нельзя жить, и тот, кто сказал эти нежные слова, тоже умер! Он умер в унылом «номере», и номерной стер губкой его весеннее имя с доски постояльцев. Таня видела его лицо, примятое, трогательное в своем недоумении, как трава бульваров, на которой играют дети и умирают нищенки. Неужели и Таня должна так же умереть? Она подбежала к окошку. Хлопочет где-то Панкратов. Делят выручку воришки. У соседнего окна трепещет перед «адским духом» Юзик. А Таня видит только снег, хороший, мохнатый снег. От снега ей становится весело, очень весело, как в детстве. Кто выдумал, что нужно жить в Италии, среди пальм и прочего? Вот уж не променяет Таня сугробов Проточного на какие-то пальмы! Сколько здесь радости, свежести — салазки мальчишек, воробьи, румянец, вся гордость сердца: «Ну и стужа!..» Да, это не пальмы, это наша чистая, как сердце Тани, зима, настоящая московская зима!
Ненадолго хватило и веселья. Что же он не приходит? Одиннадцать. Наверное, занят. Теперь все заняты, все спешат: служба, заседания, доклады. Может быть, это и к лучшему? В жизни, заполненной делом, нет времени для глупых фантазий. Фантазировать стыдно. Нужно жить. Но жить труднее, чем фантазировать, и Таня не знает, как жить. Девочкой она все дни просиживала над переводными картинками. Все здесь тускло и смутно, пока не отдерешь осторожно бумажку и не засверкают огромные розы, синие береты, трава. А дальше? Скучно ведь глядеть на береты, надо выпрашивать у мамы пятачок на новые картинки. Вздор! Вздор все — и картинки, и стихи, и мечтания у морозного стекла. Нужно жить, не теряя ни часа. Записаться на курсы социальной психологии. Ходить на собрания культкомиссии. Завести побольше знакомств. Но почему ей уже не хочется жить? И Таня думает: старость. Она подходит к большому зеркалу и против воли улыбается: ну, какая же может быть старость в девятнадцать лет? Не без кокетства она оправляет короткие, в скобку стриженные волосы и снова с легкой досадой вспоминает: «Я ведь для него сшила это платье. Почему он так опаздывает? Может быть, я ему вовсе не нравлюсь? А ведь я...— и Таня недоверчиво осматривает вторую Таню, ту, что в зеркале,— а ведь я могу нравиться...» Перед ней — высокая, узкоплечая девушка с чересчур длинными ногами. Черты лица неправильны, чуть вздернут нос, пожалуй, рот мелок, а глаза большие и, вразрез с черными волосами, светло-синие, на всем какой-то туман, призрачность. Бывают такие дни у нас на севере ранней весной — оттепель, легкий пар, едва окрашенное небо, и не то печаль, не то радость, скорее всего, недоумение, струя холодка робко льется через форточку — со сна говорит природа, и со сна отвечает ей человек. Таня продолжает улыбаться, но теперь эта улыбка растерянная. Она не нравится ему. Не пришел. Тогда раздается звонок.
Дверь открыл Юзик, и Юзик сразу все понял: он хорошо знал обитателей Проточного. Вежливо поздоровавшись, Сахаров пригладил маленькой щеточкой усы и, бочком, по узкому коридору прошел в комнату Тани. Там он церемонно присел на краешек табурета.
— Простите, запоздал. Все дела — ревизия нагрянула, отчеты. А ведь не может человек жить одними сухими идеями. Я не знаю, видели ли вы «Медвежью свадьбу»? — там есть нечто такое...
Махнув неопределенно рукой, Сахаров встал, малость потоптался на месте, поглядел на часы: половина двенадцатого, посмотрел на дверь — кажется, заперта,— и деловито, хозяйственно обнял Танго.
Юзик не вернулся к себе. Ом прошел к Прахову; тот все еще пыхтел над беспризорными.
— Товарищ Прахов, случилось ужасное. Я только сейчас понял, что такое «адский дух»...
Прахов рассердился: и так ничего не клеится, а тут еще этот горбатый Спиноза со своими фантазиями! Он прикрикнул:
— Не сходите с ума!..
— Я все понял, и я не сошел с ума. Вы думаете, что этого духа нет, если нет рогов? Он может быть вовсе не с рогами, а с усиками. Он может не хохотать, а ходить себе тихонечко на службу.
— У меня, Юзик, и без ваших разговоров трещит башка...
— А у меня болит сердце. Он рядом. Вы понимаете, он у Тани. Я его знаю. Он живет у Панкратовых. Это Сахаров. Это самый низкий человек Проточного. Перед праздниками он попросил у меня контрамарку. Я дал. Но мне было противно в тот вечер играть. Я все время фальшивил. Я стыдился своей скрипки: как можно заставлять ее откровенничать перед такой низкой душонкой! И вот этот самый Сахаров сидит у нее...
Прахов болезненно поморщился, скомкал лист бумаги и выругался похабно. Видимо, вправду нравилась ему соседка.
— Кто был прав, Юзик? Что у Сахарова? Монета. Дело ясное. А вы-то как горячились. Что же вы теперь скажете?
— А скажу, товарищ Прахов, что иногда нужно очень много сил. И еще я попрошу вас — пойдемте на улицу. Я не могу оставаться дома. Мы с вами немного погуляем.
— Ночью? В такой мороз? А кто за меня статью напишет? Сто строк о беспризорных...
— Ночью очень хорошо гулять. Я покажу вам беспризорных. Я знаю всех беспризорных Проточного. У вас будет в кармане тысяча строк. Но я вас прошу, товарищ Прахов, уйдемте отсюда скорей...
— Ну, разве что за материалом...
Они вышли. Скрипел снег, сверкал снег, и обжигала щеки студеная ночь.
Люблю я чудаков, гуляющих в зимние ночи по глухим московским переулкам. Нет лучше времени для задушевных бесед и целомудренных признаний. На углах стоят извозчики, стоят всю ночь напролет, поджидая сказочных седоков; спят нежно седеющие лошади, спят так и не пришедшие седоки. У извозчиков ресницы мохнатые от инея и от дремоты, мохнатые, как звезды. Пес полает. И снова все тихо. В подворотне дрыхнет сторож, окунув нос в бараний мех, огромный и страшный, как стрелец на старом лубке. Что, если его окликнуть? Откроет он скрипучую калитку и в промерзшую рукавицу неловко зажмет двугривенный или отрубит голову? Чудаки всё бродят, беседуют, разводят руками. Светятся окна трудолюбивых горемык, а может быть, и разгульников — кто их знает? Сквозь двойные рамы не прольется ни скрип пера, ни звякание стопочек. Переулки двоятся, сгибаются в коленках, упрямо упираются в тупики, сбивают с толку, но чудакам некуда спешить — все равно не высказать всего, чем полна душа в такую ночь. Пусто как! Проскрипит одинокий пешеход; далек его путь с Театральной в Зубово, нос щиплет холод, зацветают, как фиалки, углы барашкового воротника, а в ушах ворох звуков: увертюры, арии, аплодисменты. Тихо-тихо. Влюбленные пристроились в будке. Два облачка возле губ. Чиста на морозе любовь и сурова. Девушка похожа на мохнатого зверя, неуклюжая в ботиках, в шубке, в платке. А войдет она в жарко натопленную комнату, скинет все с себя и, тоненькая, волчком завертится — от радости: «Он сказал мне...» Что сказал — неизвестно. Впрочем, кто не знает, что говорят влюбленные ночью в заснеженных переулках? Чудаки всё бродят: трудно им расстаться с милыми сугробами. Однако не такую прогулку сулила нашим приятелям эта зимняя ночь: умеет она быть и другой — темной, затяжной, немилосердной. Образ Тани их преследовал. Не радовали сугробы. Кто это придумал гулять в этакий холод. Прахов негодующе ежился и ворчал. Где же, наконец, беспризорные? Он ведь вышел только за материалом. Юзик знал хорошо и Журавку и Кирюшу — не раз он проводил их тайком в «Электру». Сейчас он порадует Прахова: «Вот здесь, я покричу — они мигом вылезут...» Но дыра оказалась заваленной снегом, пусто было вокруг, и невыразительно поглядывали темные окна Панкратовых — хозяева спали, наработавшись за день. Юзик взял Прахова под руку:
— Идемте. Я вас прошу, идемте дальше, куда-нибудь из этого Проточного. Может быть, мы их найдем на Смоленском. Когда я проходил вчера, они еще здесь ночевали. Наверное, Панкратов засыпал днем подвал. Он не хочет, чтоб под ним скреблись какие-то беспризорные. А сегодня такой мороз!.. Вы понимаете, товарищ Прахов, это не люди, это действительно какой-то адский дух...
Но Прахов не верил в духов. Беспризорных он не жалел. Ему было просто холодно, досадно, неуютно: у Тани — Сахаров, статья не написана, зря пропал вечер, зря проходят годы. Чтобы выбиться в люди, нужны силы, а силы убывают. Прахову уже тридцать. Его обгоняют мальчишки, неучи, сопляки. Скучно это, как скучна вся жизнь, если нет в ней ни шумных балов, ни ярких огней, ни интриг, ни путешествий, ни цветов, если нечем ее помянуть — только авансы, битки с картошкой да уродливые лифчики секретарши «Женского вестника».
— Ну, Юзик,— марш домой! Духов вы бросьте, или вас посадят в сумасшедший дом. Не такое теперь время. А мораль из всего этого — ты не возьмешь, другой перехватит. Барышню я прозевал. Вот и с беспризорными... Конечно, Панкратов — сволочь. Но таков, друг мой, закон жизни. Он их вывел, как крыс. А нет — они бы его обобрали. У меня они в трамвае кашне стибрили. Это только вы, Юзик, о других хлопочете. Какое вам, например, дело до этой девчонки? Не разводите, пожалуйста, антимоний. Вы знаете, почему у вас благородства хоть отбавляй? Извольте — потому что у вас горб...
Юзик ничего не ответил. Он только закрыл глаза. Прахов решительно повернул домой. Войти в ворота Юзик, однако, не решился. Начал падать легкий, крупный снег и скоро забелил все. Юзик казался, низкий и широкий, не человеком — сугробом, среди других сугробов, обступивших жалкое жилье.
А наверху, уткнувшись в подушку, плакала Таня. Она плакала тихо, плакала всю ночь, и тогда-то она поняла, какой может быть безвыходной зимняя ночь, когда отбивают четверти стенные часы, капает вода в рукомойнике, под снегом скрипит деревянный домишко, и кажется — никогда уже не будет ни света, ни жизни.
5. ДНЕВНИК ТАНИ
В верхнем ящике комода лежала толстая тетрадка. Завела ее Таня давно, когда занималась усиленно французским, и на первой странице стояло: «Je fus, nous fumes. Il vient de donner une nouvelle preuve. Le fauteuil — кресло, salaire — зарплата, l'enseignement — образование». Далее следовали случайные записи: «Прочесть статью Воровского и Романова», «NB — социальные инстинкты у пчел», «Что у Толстого — для нашей школы?», «В красильню — 6.25, Лойтер должна 4 р., на жизнь 8 р. 10 к.», «С какого года профессиональное воспитание?», «Дорогая Шура. Пишу тебе на лекции — скучно. У меня сегодня...», «Служебный 5-16-08», «И ничего не разрешилось весенним ливнем бурных слез...». Дневник Таня начала вести недавно, писала случайно, торопясь, с перерывами. За пять недель размашистым своим почерком она исписала всего-навсего девять страничек.
18 февраля.
Писать стыдно — как будто стоишь голая перед зеркалом. А молчать тоже не могу. Юзику хорошо — у него скрипка. Если б я умела писать стихи! Впрочем, нет, стихи — это чтоб отводить глаза. На самом деле все иначе. И страшнее. Вчера был снова С. Я не хотела. Он нервничал. Разбил пепельницу. Вел себя недостойно. Вид у него был жалкий. Я уступила. А десять минут спустя — я нарочно посмотрела на часы — он уже закуривал преспокойно папиросу и придумывал предлог, чтобы улизнуть. Я сама ему подсказала: «Иди, у тебя, наверно, спешная работа». Он обрадовался, даже руку поцеловал. Боится разговоров. Здесь точка. Мне это не нужно. Остается вопрос — так всегда или только у нас? Если всегда — почему же романы и прочее? Я стала циничной — это как у собак. Страшно подумать, что сейчас во всех домах, во всей Москве то же самое!.. И так же папиросу!.. Я предпочитаю быть исключением, несчастным случаем.
4 марта.
Стараюсь ни о чем не думать. Курсы — с осени. А отпуск я возьму в июле. Уеду к Шуре. Там-то отдохну. Очень устала. Все выходит так бестолково и обидно. Как будто я вещь. Может быть, это и лучше? Когда я была маленькой, я любила играть с детьми Паршиных в домино. Если хотеть выиграть, всегда волнуешься, и это неприятно. А бывало, решишь — «поддавать» кому-нибудь, сжульничаешь — для другого не стыдно, подсмотришь и нарочно кладешь, чтоб у него скорей всех вышло. Вот тогда-то я радовалась. Вывод?.. Чепуха! Мне девятнадцать лет. Семью сейчас заводить глупо. Эпоха требует другого. А если не иметь детей — все равно. Только очень голо — от этого и слезы. Чепуха!
8 марта.
Шагала. Пела. Привычка? Что же, а на душе спокойней. П. пристает, последние дни он стал невыносим. В чем дело? Неужели у меня теперь такой вид, будто я на все согласна, то есть на всех? Какая гадость! А сам П. вовсе не гадкий. Он, пожалуй, лучше С. На словах грубее, но чище. Впрочем, этого нельзя знать до... папироски. Фу, как я опустилась? С. я больше к себе не пущу. Взяла из библиотеки Бабеля: его теперь все читают.
10 марта.
У Бабеля все просто к непонятно — и как любят, и как убивают. Очень страшная книга. А П. говорит, что это «юмористика». Он хоть умный, но легковесный, как оловянная ложка. Все для него ясно. И другие тоже. Ну, в загс. Ну, выпивка. А дальше? Мне очень странно иногда, что я молодая — все кругом рассуждают иначе, проще. Я рядом с ними «тетушка». Вот этот Бабель, наверное, человек пожилой. Говорит он про других спокойно. А как сам живет? Знай его адрес, я пошла бы к нему — спросить. Нет, не пошла бы — стыдно. А поговорить решительно не с кем. Юзик философствует или гримасничает, как будто у него зубы болят. Я ему рассказала о С., а он в ответ: «Я вам примус починю». И за скрипку. Может быть, он и впрямь не в своем уме? Ну, а П., тот все каламбурит. Неужели все люди такие одинокие? Наверное. Вот и вешаются. Ужасно это жестоко придумано — ни смысла, ни радости.
17 марта.
Сегодня у меня знаменательный день. Собственно говоря, ничего не случилось. Я думаю, это от весны. В этом году весна очень ранняя. Странно, что на нас погода может действовать, как на дикарей. Все утро я простояла у Москвы-реки. Шел лед. У меня горело лицо, и я чувствовала, что улыбаюсь. Неловко, и ничего с собой не могла поделать. Мальчишка один подразнил меня: «Вы что это, гражданочка, плачете? Папаша утоп?..» Я рассмеялась, как дура. Река гудела, и сердце тоже. А когда я возвращалась домой — навстречу С. Я спряталась за угол. Не заметил. Вечером пришел П., будто за спичками. Поглядел на меня внимательно: «Вы что ж это, именинница?» — «Весна».— «Весна? А ведь, говоря откровенно, весна — величайшее свинство». И ушел. Мне даже жаль его стало. Неудачник. Из партии его вычистили. Играет в казино. Весь в долгах. Пишет, пишет. И на все падок. Я его видела как-то на Кузнецком у витрины. Зачем ему брошки? А глаза у него были завидущие. Вот так он и на меня смотрит. А мне ничего не нужно — ни брошки, ни любви. Весна!.. Я становлюсь смешной, как Юзик.
18 марта. 2 часа ночи.
Только что ушел С. Я дала себе слово не пускать его, а пустила. Кончать, оказывается, еще труднее, чем начать. Зачем я ему?.. Мало ли таких дур, и к тому же без «настроений»? Говорит — «любовь», а я знаю, что ему нет до меня никакого дела. Умру — все равно. Только так, на четверть часа. Грязь! Я вся в грязи. И выйти из нее уже не сумею. Порву с С., будет П. или еще кто-нибудь. Как скамья на бульваре. Ну, и наплевать! Хочу научиться пить водку...
22 марта.
Позавчера П. угостил меня ликером. Я выпила три рюмки, и на душе сделалось еще мрачней. Но я смеялась. А он стал целовать меня. Я его не прогнала. Мне было безразлично — С. или он. Теперь ясно — я в душе проститутка.
Число не указано.
Если я порву с Сахаровым, я «пойду по рукам». Значит, жить с ним? Но у него жена. Вот этого я не могу попять. Зачем она? Или зачем я? Ведь это подло. Я ее ни разу не видела. С. запретил мне приходить к нему. Он говорит — «урод и ведьма». Думает, что я ревную. А мне только жалко и ее и себя.
26 марта.
Дневник пишут философы или маленькие девочки. А я?.. Я ездила вчера кататься на дутых с П. Я поссорилась навсегда с Юзиком: не хочу нотаций. Все мне противны, и С., и П. «Прощай, юность!»
Больше записей в тетрадке не было.
6. ОТТАИВАЛО
Стаяли тяжелые сугробы. Причмокивала рыжая жижица под делопроизводительскими калошами, под рваными калошами с газеткой внутри, и сам делопроизводитель тоже чмокал: «Во!» — не то от сырости, не то от умиления: Немало других звуков появилось: грубиянили колеса ломовиков, налетая после теста на камни; дворы визжали: искал там татарин латаную «тройку», и взъерошенный скворец тянул судьбу: из раскрытых нетерпеливым сердцем окон сыпались переборы «тальянки», а то и гриппозное чихание. У Натальи Генриховны отбоя не было от местных франтих, спешивших сменить механку или фетр на веселенькую солому. Грязь стояла в Проточном непролазная — утонешь, но к грязи относились снисходительно, пожалуй, любовно, позевывали, почесывались,— люди распускались, как почки: начинался сезон любовных отлучек, уличных мордобоев — «на прохладце»,— форточных наскоков, выпивок на Воробьевых, кошачьего безобразия,— словом, самый что ни на есть весенний сезон.
Показывались люди наружу, и сразу многое становилось ясным. Так, у гражданки Лойтер оказался наработанный живот. Юзику пришлось утешать Лойтера и Библией, и водкой. Выпив две рюмочки, Лойтер охмелел. Он глядел на огромные облака, которые, как перепуганное стадо, неслись по вечернему небу, и жалобно блевал в тазик.
— Приведите сюда эту жилищную комиссию: пусть они измерят живот Ханы и мое сердце, пусть они измерят, как прыгает Осенька, как вертится Раечка, как ходит Илик,— они убегут отсюда. Или мы убежим, вот как эти ненормальные тучи. Когда Лойтер пьет водку, значит, он не может больше. Он не хочет крутить колесо. Если ему не дают капельку посмеяться, он хочет лечь в готовую могилу.
Выползли из логовищ беспризорные. Персюков развелось за зиму, как тараканов, все они сразу выглянули на свет божий и застрекотали. Петька весь день пропадал. Приходил он вечером с синяками, штанишки продраны, совсем ошалелый. От этого, да и не только от этого — было у нее другое, новое горе,— Наталья Генриховна еще сильней подурнела. Как будто сошел снег, и показались размытые дороги, бурьян, пустыри, серая окраина заводского поселка, невзрачная, прокопченная, вконец замученная. Теперь и пудра не помогала. Сахарова она видела все реже и реже: «Работа, спешная работа, ревизии, заседания». Весна его воодушевляла — он сиял, как Проточный, весь нафиксатуаренный, забалованный, самодовольный; Поленька томно вздыхала. Грудь болит, тесно — и Наталья Генриховна расстегивала лиф. Наискосок стоял серенький домишко. У молдаванки Наталья Генриховна выпрашивала теперь не приворот,— другое, пострашнее, соблазняла ее червонцами. Беззубая гадалка тряслась, как желе, от жадности и от страха.
Близились праздники. Бабы мыли стекла, и молодое хулиганье, глядя на голые икры, сквернословило. Предстояли куличи, свечечки, флаги — всякое, а главное — предстояла матушка сорокаградусная, великое утешение Проточного, одна она гонит прочь тоску. Эх, и выпьем же, друзья мои! Как только выпьем!..
Бойко торговал Панкратов: все забирали — сахар, халву, колбасу, балычок. Взлетал человек и выше — даже икорка шла, люди поинтеллигентней доходили даже до лимонов: корочку в графинчик для аромата. Каждый вечер Панкратов кое-что да откладывал. Весну он встретил по-весеннему, с раскрытым сердцем; кончил седьмую, начал восьмую пачку. Приставал к нему один чернявенький: «Как насчет санитарии?» — но Панкратов быстро заткнул ему глотку ведерышком паюсной «первый сорт». Древнее благоденствие открывалось перед бородой: все документы в порядке, воришки прогнаны, растет, растет помаленьку капиталец. Здоровый был мужик: шестой десяток пошел ему, а прищелкивал он, а кулебяку пожирал, а глядел на женский пол, как молоденький парнишка. Начиналась для Панкратова вторая весна, хотелось ему скандальна, бабья, ухарства, выйти на Лубянку и показать «им» кукиш: «Что, съели Панкратова? Эх вы, пролетарии!..» Конечно, это были только мечты. Даже пойти с какой-нибудь из «таких» в баню и то не решался: расходы, да и на облаву легко попасть, потом уж не отстанут, все денежки, как клопы, высосут. Весна, однако, дразнилась лужами, мокрыми воробьями, женскими глазками: так и стреляли, сукины трясогузки, в почтенное пузо. Не бить же все хромую супружницу зонтиком!.. Надоело! Улучив минуту, когда жена ушла в камвольный — выбирать новый платок,— Панкратов примял Поленьку.
— Ой ты! А сестрица что скажет?..
— Цыц!
Не о том мечтала девушка. Нежные чувства она лелеяла к известным своей деликатностью усикам. От боли и страха шире широкого распахнула она рот. Уж Панкратов, подтянув все, собирался в ларек, а Поленька так и лежала с раскрытым ртом.
— Пасть, дура, закрой. Вот тебе треха на пряники. И цыц!
Поленька промолчала, решила — значит, так нужно: как «червячки», как квашня, как шляпный гарнитур — жизнь. На три рубля она купила тихонько от всех брелочек — серебряное сердечко, поднесла его сама себе: «Вам, Поленька, в знак того, что сердце мое пылает» (говорила за Ванечку). Брелок привесила к нательному крестику, легла ничком на кровать и от радости стала взвизгивать, но потом вспомнила бороду Панкратова — «ой ты!» — и всплакнула: пожалела себя.
А Панкратов от удовольствия поскреб бок, зажмурился и забыл всю канитель.
Что там болтают глупцы о подснежниках или о фиалках? Не видно таких цветов в Проточном, да и неинтересные это цветы — ни пышности в них нет, ни осанки. А вот кто доподлинно цвел — это Панкратов, сверкал, благоухал, украшал весь переулочек. Человек, случайно забредший сюда, непременно останавливался перед абрикосовым домиком, с завистью думал: «Живут же люди в уюте, с занавесками, с фикусами, с котом, не то что у нас — двадцать душ на пять комнат. Вот и жизнь здесь, наверное, тихая, мечтательная, прямо-таки абрикосовая жизнь». Да и вправду нежен был домик, тих, благонравен. С удовлетворением Панкратов посматривал на черную дыру: больше не вылезут оттуда разбойники. Тихо теперь стало и в доме и под домом,— разве что крыса пискнет или захлюпает вода.
В приходском храме Панкратов выстоял всех апостолов, а в пасхальную заутреню, можно сказать, был главной фигурой. Разве без него мыслимо? Чем же тогда Проточному похвастаться и перед Богом, и перед людьми? Без него Пасхи не было бы... Что же в том удивительного, если отец Василий, кланяясь пастве, с особым благоговением взглянул на чудесную бороду, а борода в ответ утвердительно закивала: «Воистину». Восьмая пачка становилась ощутимой. Ну, и разговленье было соответствующее: не пожалели ни водки, ни цукатов в Пасху, ни труда на поросеночка — он лежал золотой и невинный, как девический сон, весь обволакиваемый бумажными розанами и слюнками проголодавшегося Панкратова. Ели... Мать моя, как ели! Достаточно сказать, что поросенка прикончили по-семейному, без приглашенных. Пил же сам Панкратов — женщины пробавлялись ерундовской мадерой. Выпив, пошел Панкратов к Наталье Генриховне христосоваться. Яичко кокнул, икнул и присосался: «Вот где праздничек! Как же дамочку не поцеловать при оказии? Здесь ни рубля, ни прыща не пожалеешь!..»
Под окнами бесновался Проточный. И ладошкой, и штопором, и об стенку. Пили до утра. Конечно, и государству от этого доход, и людям, что называется, веселье. Но только зверел народ: охальничал, дрался, бил стекла. В «Ивановке» две бабы сцепились, когтями раскровенили одна другую. А у делопроизводителя спьяну ошпарили ребенка кипятком. Не обошлось и без «пыряния». На углу Панфиловского какие-то озорники отстрогали начисто ухо у сапожника Федоренко.
Панкратов покрутился, побалагурил, но вдруг завял — года сказались или перехватил? Ведь не менее десяти рюмок сглотнул он, а рюмки у Панкратовых с подвохом, двойные. Что же, и помолились, и разговелись — можно на боковую. Хромая сразу захрапела. Что ей? «Полная чаша». Не так легко было уснуть «самому». Ревел переулок: «Ай!..» Да и в голову лезли всякие пустячные мысли: «За шоколад переплатил, вот Сидорову на таможне по семи рублей отдали... Инспектору лучше бы не чернослив послать, а кавказский компот — благородней... Полю в баню сведу, спокойней, да и помыться не грех... Поросенка сразу сожрали, сволочи, могли б и говядину — ведь сколько он стоит...» Панкратов кряхтел, пил пиво, плевался. Чего орут? Не могут они без этого — дурачье. А ночь-то какая!.. И крестился. Наконец — это было в шестом часу — начал он засыпать. «Вот тебе и милость господня»,— успел подумать он, но тотчас же вскочил и весь затрясся с перепугу. Сердце как колотилось! Что за наваждение? Под домом стучали, ерзали,копошились. Винный туман застилал комнату, и Панкратов не узнавал знакомых предметов: лампадка казалась ему подбитым глазом, комод — чьей-то спиной. Вот когда сказались все рюмочки! Но что глаз — хуже: стуки, подземная суета продолжались. Панкратов вдруг все понял. Вцепившись в жену, он отчаянно закричал:
— Они! Не иначе, как они! Женщина со сна завопила:
— Батюшки! Грабят!
Но Панкратов забил ей подушкой рот:
— Молчи. Не понимаешь — кто? Оттаяли. И сюда лезут. Вот ты погляди лучше — кто там в углу подсапывает? Загрызут они нас...
— Что с тобой, Алексеич? Болен ты. Ложись-ка. Я тебя чаем напою. Трясет тебя. Где же это слыхано, чтоб мертвецы ходили? Ведь задохлись они. Опомнись, Алексеич!..
Говоря это, Панкратова сама дрожала — зуб на зуб не попадал. Хоть и не пила она, но кого же такие разговоры не проберут, да еще ночью? Бог их знает, что, если не померещилось ему? Со свечой она вышла на лестницу, опасливо озиралась: хотела Поленьку разбудить, чтобы самовар поставила. Но только-только приоткрыла дверь, как взвизгнула, уронила свечу — кота это проделки, был кот взбудоражен, зол, дразнили его за едой, вот он и метнулся прочь. Услышав визг жены, Панкратов зарычал: «Журавка!» — и пополз на четвереньках, как был, то есть в фланелевых подштанниках, к окошку. Он видел, как задохшийся Журавка с высунутым языком носится из угла в угол, ищет Панкратова, щиплет икры, сверлит штопором живот и длиннущим синим языком лижет, гад, шею, сейчас будет кровь пить. Еле дополз он до цветочного горшка и, покрыв его собою, замер: «Пей!»
Вскоре жена с Поленькой перетащили его на кровать: он сжимал зубы, мотал головой, оглядывался. Стих Проточный — даже самые крепкие и те свалились. Посвистел милиционер. Прогремела «скорая помощь». Так и утро подоспело. Зазвонили в церквах. Наконец-то Панкратов уснул. Спал он долго, проснулся только к вечеру, потянулся, посопел: «Хм, что это еще за белиберда?» — и, прежде чем умыться, не вытерпел, поднял горшок. Все пачки были на месте. Тревожно поглядывала на него супруга:
— Ты, может, полежишь сегодня?
— Что ты мелешь? Это в праздник-то? Лучше дай графинчик и что там осталось — опохмелиться.
Накрыли стол. Горели яички — алые, изумрудные, золотые — и во сне такого сияния не приснится. Даже цветы поставила Панкратова, тюльпаны, подарок «комильфотного» Сахарова. Сам Сахаров забежал поздравить, голубоватый и благоуханный от густого слоя пудры. Панкратов, лобызая, поморщился: «Кобель, а не человек»,— но на радостях даже пудру простил.
— Что, Иван Игнатьевич, живем? А здорово мы их законопатили. Теперь-то стаял снег,— пожалуйста, выходите, ребята, на свет божий. Не выйдут!..
Сахаров покривился, заторопился — дела, дела! — и, уходя, скороговоркой забубнил:
— Вам виднее... Меня, собственно, в тот вечер и дома не было...
7. ЛЮБЯ, НЕ ЛЮБЯ, ПОГИБАЯ
Выпал и Наталье Генриховне праздничек. Сахаров совсем закрутился; новый костюм, который он заказал, весенний, из каштанового коверкота, стоил ровным счетом двадцать червонцев. Это, значит, хватил человек через край. Одна надежда — «мамахен». Ради такого случая Сахаров решил пострадать.
— Тусенька (да, он даже это имя вспомнил — коверкот ведь), знаешь что... У меня сегодня свободный вечер. Пойдем-ка с тобой в «Музыкальную комедию». Я контрамарки достал.
Мало же знала радости Наталья Генриховна, если вся засияла от этих слов. Кудесник Сахаров, вот к кому бегать бабам из Проточного, а вовсе не к глупой молдаванке. Только захотел — и сдунул с Натальи Генриховны десять лет, как пушинку с шляпы, назвал «Тусенькой» — Тусенька и оказалась, ну, усталая, круги под глазами, бледная — пересидела над книгами, замечталась. Не было в ней больше ни «комильфотного») заведения, ни злобных попреков, ни кухонных пересудов, ни шлепков, ни вялых, бескровных щек — перед зеркалом вертелась наивная девушка, спешила, закалывала волосы и с шпилькой в зубах улыбалась Ванечке, как когда-то в «меблирашке», когда принесла свою жизнь и несессер: «Милый...»
Давно она не была в театре. Сосчитать даже страшно. Восемь лет! Вспоминались детские годы, утренники в Мариинском, золото и красный бархат. Огни люстр порхают, как бабочки. Внизу институтки: открытые шейки, тоненькие, беззащитные, белые буфы, книксены, шепот: «Он!.. обожаю!..» Над ними формы гимназисток, всякие, коричневые с черными передничками, темно-зеленые, мышиные. Бинокли, серьезные кивки, и вдруг прысканье: «Глядите — носорог-то расфуфырился, в белом жилете...» А еще выше — бобрики мальчишек, полные помады и глубоких мыслей. Вот один из них пишет на либретто: «Пускай толпа клеймит презреньем наш неразгаданный союз...» Это для Туси. Тусе тринадцать, ему тоже (он клянется, будто четырнадцать). Он подойдет к Тусе в фойе, где толкотня возле буфета — раздают крымские яблочки, хорошенькие, как игрушки, оршад в бокалах, словно это шампанское, и пастилу: «Я буду завтра на катке. Мы устраиваем кружок самообразования. Вы, конечно, включены! Но это тайна». Он неуклюже улыбнется ей при выходе, когда Тусю быстро затрет толпа нянек, гувернанток, горничных с беличьими шубками, с ботиками, с пушистыми башлыками. Потом снег, огни. Хлопают рукавицами продрогшие кучера. Верещат извозчики, зазывая седоков... Какой-то студент снисходительно улыбается Тусеньке: «Миленькая мордочка». Дурак! Туся большая — она «включена». Она будет завтра на катке. Ей безразлично, что ее «клеймят презреньем». Она счастлива.
— Готова?
Застенчиво улыбаясь, поправила Наталья Генриховна галстук Ванечки. Театр? Да разве в театре дело? Она согласна остаться здесь, на просиженной заказчицами кушетке, лишь бы с ним. Может быть, это перелом? Никогда прежде не знала Наталья Генриховна такого пренебрежения, такой сиротливости. Все из-за той. Не первая это, но обычно ветреный Ваня к ней пристрастился. «Ревизия», «дела»... А сам — шмыг в ворота к Лойтерам. Чем только она его приворожила? Ну, с мордочки ничего. Но мало ли таких? Можно ли сравнить ее с Тусей, с прежней Тусей, за которой кто только не бегал: и поэты, и лучшие танцоры, и забалованные женщинами певцы. Наверно, распущенная. Все они теперь такие. Комсомол!.. Вот и Ванечку этим взяла, бесстыдством, да как взяла — на сына взглянуть не хочет. Третий месяц это тянется. Не раз Наталья Генриховна помышляла о конце, все равно о каком — отравить ее, самой утопиться (на Ванечку она не покушалась даже в мыслях). И вот вдруг, нечаянно, так бывает только в плохо скроенных романах, настал этот вечер. Неужто он опомнился? Догадался, что для той он только «кавалер» — каждый день у нее новый, а для Натальи Генриховны — все. Разве пожалела она что-нибудь для Ванечки? Вот он рядом, слабенький, да и что греха таить, гаденький, но свой, родной, любимый...
С нежностью взяла Наталья Генриховна мужа под руку, и пошли они умилительной парой вверх по Проточному к остановке трамвая, оставляя позади себя, как облако пыли, шушуканье соседок: «Ишь»,— не видали никогда Сахаровых вместе, знали про Таню, про молдаванку, болтали про Панкратова, и теперь, среди хлипких луж, среди теплого весеннего пара, изумлялись счастью.
Сахаров кротко шагал, не отнимал руки: терпел. Что делать? Ниоткуда больше таких денег не возьмешь. Все шло как по-писаному, и, думается, трели опереточной дивы окончательно примирили бы супругов, хотя бы на время, до выкупа коверкотового, если бы не глупый случай. Конечно, живя в одном переулке, легко столкнуться нос к носу, однако, выйди они на минуту раньше, не задержись Наталья Генриховна с галстуком, все обошлось бы.
Встречи этой никто не хотел, и первой мыслью всех трех было — убежать. Виноват угол: Таня очутилась прямо перед Сахаровыми. От неожиданности она растерялась, не поздоровалась, но и не отошла в сторону. У Сахарова напряженно бился кончик галстука, усики топорщились. Он первый нашелся:
— Познакомьтесь. Это моя сослуживица — Евдокимова. Жена.
Женщины нерешительно протянули руки, как будто брали с плиты горячую кастрюлю, и, коснувшись перчаткой перчатки, поспешно их отдернули. Заминка продолжалась. Сахаров попробовал сгладить быстрой болтовней:
— Вот, Туся, погляди: замечательная машинистка, семь листов в час шпарит. Ей и диктовать не поспеваешь. Квалификация! И где вы научились так быстро писать?
Таня чувствовала, что Наталья Генриховна когтит ее глазами. Она не могла ни говорить, ни думать, не могла шелохнуть пальцем. Подступали слезы. А Сахаров не замолкал:
— Вы как это попали в наши Палестины? К знакомым?
Ничего не соображая, Таня ответила:
— Да, к знакомым.
Здесь Наталья Генриховна не выдержала. Ее разыгрывали! Подумать только, как они смеются каждый вечер: «Ну, что — надул свою благоверную? Ха!..» Она рванулась к Тане. Вид ее был патетичен и жалок — шляпка набок, космы волос; улыбка, которой хотела она выразить иронию, переходила в судорогу; якобы спокойный голос доходил до нестерпимого визга!
— Вы, милая моя, не забывайтесь! Думаете, я не знаю? Ошибаетесь. Мой муж мне все рассказывает. У него от меня нет тайн. К честной женщине я, может быть, и приревновала бы, ну, а к таким... к таким не ревнуют. Одно дело жена, другое... Поняла, мерзавка? И ступай, стреляй других!.. Ванечка, идем скорей, а то мы опоздаем.
Выкрикнув это, она быстро потащила мужа в сторону. Оба молчали. Наталья Генриховна задыхалась — конец! Слишком хорошо начался этот, вечер, слишком сердце было растравлено воспоминаниями. А Сахаров покорно семенил за ней. Куда они идут, он не понимал. Глупо вышло... Нужно было сделать вид, что незнакомы. Теперь кому расхлебывать? Ему. Во-первых, с этой... Если б на неделю позже. Костюм пропал. А Таня? Как он к ней покажется? И без того гнала: «Ненастоящее». Ух, эти бабы, ломаки, скандалистки! Хуже всего, что Таня ему и вправду нравится: вошел во вкус. Может быть, удалось бы уломать ее... Ну, а после такого пассажа не сунешься. «Как же вы не заступились?» Декламация! Сахаров страдал. Наконец он решился окликнуть Наталью Генриховну:
— Куда ты? Ведь нам направо.
— Я в театр не пойду.
Они повернули домой. Мысль о двадцати червонцах умеряла негодование Сахарова.
Поленька, в окошко увидав, что Сахаровы так скоро вернулись из театра — лица постные, как с похорон,— томительно вздохнула: «Ох ты!..» Сахаров развязал галстук, снял воротничок — жало шею. Сказал он скорее примирительно:
— Ты все же напрасно на улице... Только сплетни разводить...
Тогда прорвалось:
— Всюду кричать буду! На службу к тебе приду. И как они у себя такую дрянь держат? Ей на Тверскую, а не в машинистки. Ты что думаешь? Я — жена, значит, на меня и плевать можно? Только за деньгами приходишь.
«Не даст! — забеспокоился Сахаров.— Честное слово, не даст! С ума сошла баба...» Однако, стараясь выдержать характер, он вытер платочком лоб, как бы говоря — «Вот до чего вы меня измучили»,— и процедил, этак снисходительно:
— При чем тут деньги? Деталь.
— Ах, «деталь»? Ну, и получай с нее эти «детали»! Я здесь глаза свои извела, чтобы ты ей подарочки носил? Хватит! Можешь хоть в «коты» идти. Она, кажется, получше меня зарабатывает...
Изображать дальше великодушного философа не приходилось. Пропал коверкотовый, мареновый. Сахаров теперь мстил.
— Вы, мамахен, не горячитесь. Мои уши не привыкли к баронским разговорам: Словом, я тебя видеть не могу. Это ты на носу заруби. Меня от тебя тошнит. Вот только достану денег на отступные — перееду. Оставайся в Проточном с титулом. Можешь, между прочим, к Панкратову подъехать. Замечательная пара! А на меня не целься. Кончен бал!
Тогда встала Наталья Генриховна, подошла вплотную к мужу, положила руки на его плечи и, глядя глазами, слишком темными, как бы безумными, в его барахтающиеся глазенки, спокойно сказала:
— Ваня, ты меня на грех толкаешь. Ведь не отдам я тебя. Ты думаешь, я кричать буду? Нет, Ваня, я ее убью. Петькой клянусь. И ничто меня не удержит. В Бога я не верю, людей не люблю. Мучили меня люди. Отец мучил. Ты мучил. А о ней и не говорю. Посадят в тюрьму — не страшно. Хуже не придумаешь... Я всю жизнь на тебя положила. Я от своего добра не отступлюсь. Слышишь меня, Ваня?
Если б не ее руки, давно бы убежал Сахаров. Он дрожал. Плохо понимал слова, но голос, но глаза Натальи Генриховны потрясли его. Он попытался вырваться. Тогда Наталья Генриховна упала перед ним на пол:
— Ваня, пожалей меня! Ведь это я — Туся. Помнишь Петербург?
Он ничего не помнил. Высвободившись, он попятился к двери:
— Грозиться?.. Шантажировать?.. Я милицию позову. Я тебя в тюрьму упрячу.
И в дверях он победоносно гаркнул:
— Гутенахт, мамахен...
Выйдя на лестницу, Сахаров заволновался: куда ему идти? В пивную? Денег нет. К Тане? Выкинет. Вдруг его окликнул шепотливый голос Поленьки:
— Что с вами, Иван Игнатьевич? Может, продуло вас?..
Комнатушка Поленьки находилась внизу, рядом с кухней. Панкратовы спали. Сахаров зашел. Он увидел иконку, бумажные цветы, гору подушек, а также серебряное сердечко. Он поморщился. Но идти было некуда, да и неожиданное происшествие казалось ему скорее забавным. Он остался. Он только задул лампу, чтобы не видеть улыбки Поленьки, воистину раздирающей.
Таня не пошла домой. Все в ней дрожало от боли. Казалось, стоит кому-нибудь пальцем до нее дотронуться, и раздастся ужасный крик. Она боялась остаться одна в знакомой комнате. Испачкали ее! За что? Как это случилось? Ведь еще недавно, да, совсем недавно, зимой, она была свободной, легкой, чистой, была сама по себе, писала конспекты, слушала Чайковского, мечтала... И вдруг все переменилось. Не только тело — ее душу превратили в Проточный, где ругаются, дерутся, убивают.
Она бежала по улицам. Широкие бульвары, большие площади, скверы, балюстрады, памятники, фонари сменили домишки Проточного.
Весенними вечерами кишит Москва, и людская толчея похожа на кружение мошкары вокруг огромного ревербера, утомительная, сладкая эта толчея. Душа, которая много месяцев спит, как муха между двумя рамами, начинает в эту пору чесаться. Юноши дуют пиво и сочиняют стихи. Нет сил усидеть на месте: тепло и ночь смывают человека. По тротуарам медленно движутся толпы. Вначале люди еще разговаривают, жалуются на фининспектора, на ревматизм, на цены — «к шевиоту и не подступишься», жужжат острословы, ухажеры соблазняют барышень анекдотами, комплиментами и возвышенно — «ночь какая!» — и попроще — «как же без этого?..» Вначале лица и слова сохраняют обычную свою видимость. На боковой дорожке Никитского бульвара или еще где-нибудь делопроизводитель «Фанертреста» тихо регистрирует подбородки и звезды. Вначале Москва — город с положенным ей народонаселением. Но чем дальше толкутся люди по влажным улицам, чем дальше глядят они на озноб фонарей, на электрические буквы: «Крыша», «Автопромторг», «Предатель», на смежные носы, испитые или мечтательные, на все носы прохлаждающихся призраков, тем подозрительнее становится копошение, Чернота, весенняя дурнота, вымысел, зияние. Замолкают гуляющие. Звезды растерянно убегают за облака, милиционеры прячутся в подворотни, Уж никто не знает, куда он идет и зачем. Ревматизмы превращаются в жестокую истому: улететь или умереть, а здесь еще гудки с Брянского вокзала, с Курского сводят с ума. Шевиот?.. Ну, какой толк в шевиоте, когда здесь и любовь, и ахинея, и очередное самоубийство. Делопроизводитель погибает. Он хмыкает, вместо «Нашей марки» покупает букетик ландышей, пьет фруктовую воду,— словом, безумствует. Что здесь прикажете делать положительного? Продавать спички по две копейки? Или обсуждать китайскую заваруху? Граждан здесь нет. Все это призраки, а в том, что призраки потеют или даже пьют морс, нет ничего удивительного. Так и ходят до полуночи. Потом сразу пустеют бульвары. Водка сменяет весенний воздух, выползают из щелей милиционеры — с пьяным легче, пьяного можно определить, даже оштрафовать. Потом и пьяницы пропадают — кто дрыхнет дома, кто орет в «пьянке». Спят на скамьях беспризорные. Труп самоубийцы стынет в морге, а если и нет его там, то он топочет по квартирам, сводя старые счеты с уплотнившими или еще как его обидевшими — на бульварах ему теперь нечего делать. Окруженный белесыми окурками и рассветом, Александр Сергеевич Пушкин в такой-то раз разворачивает свиток, и случайный зевака может явственно видеть, как пресловутое «отвращение» кривит бронзовые губы. Гаснут электрические буквы: «Крыша», «Автопромторг», «Предатель».
Но это — под утро, а Таня пришла сюда вечером. Не пришла — ее донесло человеческое течение. Выбравшись на глухую аллею, она попыталась собраться с мыслями. Как ее обидели! Эта женщина злая. Разве Таня виновата перед ней?.. Гадкая женщина! Но тогда Таня припомнила лицо Натальи Генриховны, лицо измученное и все же прекрасное — никакие лишения, никакие страсти не могли до конца вытравить следы печальной красоты. Увидела она и всю грубость окружения — хриплый голос, растрепанные волосы, гнусные домишки Проточного, Таня почувствовала к обидчице не злобу, а жалость. Каково ей жить с ним всю жизнь, если эти несколько недель унизили, опустошили Таню? Все сильней Таня жалела Наталью Генриховну. У нее сын... Она цепляется за Сахарова, как за щепку. А Таня хотела ее утонить... Нет, Таня ничего не хотела. Она просто делала то, что все делают. Ведь люби она Сахарова, все было бы по-иному. Она не жалела бы Наталью Генриховну. Она кричала бы: «Не отдам»,— как та. Тогда это было бы горем. А теперь? Теперь это только грязь.
Значит, она виновата? Да, виновата. Виновата, что у нее нет любви. Дойдя до этого, Таня испытала к себе подлинное отвращение. Если б можно было убежать от себя, оставить здесь, на этой дорожке свое тело, никогда до себя не дотрагиваться, переменить имя, забыть про все!.. Перед ней шла проститутка, походкой легкой, почти неземной: от усталости или от кокаина. Когда показывался одинокий пешеход, сбитый с толку весной и фонарями, как бы невзначай она напевала: «Вдвоем гулять интересней». «Вот и я так,— подумала Таня.— Только не решаюсь заговаривать на бульваре. Трусость...» Наталья Генриховна права: она — проститутка. Почему она живет с Сахаровым? Почему целовалась с Праховым? Проходной двор! Мерзость! Лгали все, лгали лектора и подруги — вовсе это не просто, без любви это как убийство, не скрыться никуда от унылых привидений, от раскаяния, от позора, Наталья Генриховна может сейчас подойти и ударить Таню, ударить по щеке — Таня стерпит: за дело.
Но ведь она не родилась преступницей. Она мечтала о другом. Пусть ее мечты были глупенькими, как ситцевое платье, но они были хорошими мечтами. «Организм требует углеводов». Да, да! Она помнит все. «Половые функции...» «Просто у вас, Евдокимова, предрассудки...» Сейчас она может напиться. Пойти с кем угодно — в «номера», на свалку, все равно. «В этой жизни умирать не ново...» Где достают револьвер?..
Вдруг Таня заметила Прахова. Он трусил по бульвару, шевеля губами и помахивая тростью. Наверное, считал строчки. Тани он не видел. Таня вспомнила, как он сказал ей, когда они катались в Сокольниках, и от быстрой езды и от цоканья копыт, от весеннего тумана сердце Тани на минуту воспрянуло: «Если проанализировать, никакой любви нет, только инстинкт размножения, ну и надстройки». Он обокрал ее душу! Он, Сахаров, доклады, товарки, Проточный, все, все они будто сговорились обшарить, осмеять, вытоптать то, чем светло и полно девичество.
— Зачем вы меня обокрали? — крикнула Таня не в себе.
Женщина, та, что шла впереди, опасливо оглянулась и ускорила шаг. Больше никого вокруг не было, да и услышь ее Прахов, разве он понял бы эти вздорные жалобы? Он знал строчки, скуку и чужую удачу. А кишащие толпы? Полноте — что им до обычных драм на боковых аллеях? У призраков нет ни ушей, ни сердца, самое большее, на что они способны,— это потеть и пить клюквенный морс.
8. «БЕЗ КОЛЬЦА НЕТ КОНЦА»
Ну и везет шельмецу! Четвертый раз снимает... С завистью игроки поглядывали на заросший затылок удачника, суеверно меняли места, переругивались.
Не одним Проточным красна наша столица, есть в ней и другие достопримечательные места, как бы созданные для паскудных слов и звериного гогота. Хотя бы казино — не то хитроумная мухоловка с мутным пивцом, в котором плавают доверчивые душонки, не то препочтеннейшее учреждение: устав, швейцары, навощенный паркет. Уж слишком растянуты в жизни удачи и напасти, перемежаются они котлетами, дождиком, легонькой хандрой серого, никак не определившегося денька. Здесь же все на новый, то есть американский, лад, без потери времени: в полчаса и возвеличат тебя и уничтожат, и счастье улыбнется, и запахнет судом, только держись! Придет какой-нибудь кассир, сдаст под номерок честное пальтишко, а с ним и гражданские добродетели, кинет сначала свой кровный канареечный, потом, уж ничего не видя, кроме ряби мастей, червонцы «рабоче-крестьянского», и пропал человек. Пальтишко свое он, конечно, получит, но идти ему в этом пальтишке решительно некуда: если топиться, то это только помеха, а в остроге полагается казенная одежда. Разумеется, много здесь и таких, которым все трын-трава. Утром нахапал, ночью продул — такова жизнь. Сдать под расписку или здесь просадить — одно на одно. Посмотришь, как такой, с виду плюгавенький гражданинчик, швыряет ассигнациями, и проймет умиление: вот где цветут наши московские лилии, не думая о хлебе насущном. Больше всего в казино случайных посетителей: долги человека замучили, или, напротив, оказался лишний билетик — вот и заходят попробовать: авось? А ради нашего, можно сказать, национального «авося» как же не навощить паркет?
— Опять снял? Это, я скажу тебе, хватюга...
Прахову действительно на редкость везло. Он пришел сюда с пятеркой, а теперь у него было никак не меньше сорока червонцев. Черт побери — если перевести это на строки — сколько корпения и докуки! Еще разок!.. Сорвалось, не беда. Еще. Кто знает, чем бы это кончилось, если бы не закрыли вовремя казино — час был поздний. Может быть, и вышел бы он без пятерки, даже без рубля на извозчика, и пошел бы в Проточный, угрюмо прикидывая: из этого казино надо выкроить статейку для «Вечерки», да не возьмут — у них свои, месячные... А может, и наоборот — произошло бы нечто вовсе умопомрачительное: ведь выигрывают какие-то анонимы на лотереях по сто тысяч, и никто их за это не трогает. Неизвестно — кто разберется в картах, да еще не сданных? Так или иначе, выйдя из казино, Прахов бойко подозвал извозчика и, не торгуясь, гаркнул:
— На Арбат, в «подвал»!
Он ехал и ликовал: даже езда казалась ему быстрой, увлекательной, хотя кляча еле-еле перебирала ногами, а когда извозчик, отчаявшись, хлестал ее под хвост, меланхолично ржала. Наконец-то повезло и Прахову! Видимо, судьбе надоело изводить его изо дня в день. Прахов подпрыгивал и бормотал: «Перемена декораций»,— бормотал что-то и извозчик, но свое, унылое — про овес, про горе.
Жизнь Прахова и впрямь была незавидной. Знали его в Москве все, даже показывали провинциалам, как печальный курьез, вроде прокурора, который продает в Третьяковском проезде краденые перья, или извозчика в пенсне у Никитских ворот: не то чтобы жил он так мизерно, нет, живут люди хуже, да и наш «брат писатель», но уж очень он был назойлив и жалок в борьбе за эту третьесортную жизнь. Все время он рыскал — интервьюировал, просто подслушивал чужие рассказы, выпрашивал рекомендации, предлагал себя как педагога, как музееведа, как киноактера — все, что угодно, только берите! Не раз я его встречал: подойдет в «кружке», нагородит ворох похвал — он, мол, один понимает,— выудит что-либо подходящее, глянь, завтра статейка, где какой-то «Спартак» или «Октябринский» кроет меня — и мысли неподходящие, и художества нет. Спросишь его: «Вы это, собственно говоря, зачем?» — а он откровенно: «Секретарь в таком духе просил, ну, а сами знаете, хоть счастье не в этом, только без денег не проживешь!..» Так что и сердиться не на что. Однако люди поопрятней гнушались его, и, скажу, несправедливо. Сколько он ночей ухлопал на разные «анастигматы», «крепдешины» и «стойки», а все зря. Ни абрикосового дома не было у него, ни даже английской трубки, о которой он давненько мечтал. Глядели на него в редакциях как на опустившуюся потаскушку.
Не всегда так было. Всего лет семь или восемь тому назад того же Прахова почитали в родном Аткарске чуть ли не за гения. Занимался он тогда политикой, дрался с чехами, отбирал у крестьян хлеб, составлял резолюции, сажал в тюрьму аткарских эсеров,— словом, разделял все порывы, все горести и страсти своего поколения. Потом случилась заминка — не то он переусердствовал с «твердыми мерами», не то соблазнился легкой, мародерской поживой, а именно — «подухажнул» за женой одного арестованного военспеца, но только пришлось ему от громких дел перейти к заурядной жизни. Но и здесь оказалось, что Прахов «гений»: он начал писать стихи. Ничего в этом удивительного не было: вся Россия занималась тогда патетическим рифмоплетством, и командармы грешили этим, и курьеры главков. Не стоило бы обращать внимания на восторги аткарских барышень. Но на ранних писаниях Прахова лежала действительно печать даровитости, которой не могли скрыть ни провинциальное бахвальство, ни скудность мысли, ни отсутствие вкуса. Видел он многое наново, не по-литературному, и голос его выделялся особым, ему присущим выговором. Было это косноязычие человека, загроможденного смутными чувствованиями. Трудный путь открывался перед молодым автором — нужды, может быть, осмеяния, душевных самоограничений. Прахов не понимал этого. Привыкший к тому, что все дается сразу или вовсе не дается: к отваге и легкомыслию гражданской войны, к декретам с наскоку, к захолустному кавардаку, к сердцам аткарских недотрог, столь же обеспеченным, как и поднятые руки на собраниях, он уже видел перед собой десятки томов, набитые аудитории, сконфуженных писателей, восторженных юношей.
Что же, он попал в Москву. Это было, кажется, его последней удачей. Жестокая вещь мода, и мода оказалась против него — он запоздал: в столице никто больше не интересовался стихами, ими объелись, слышать о них не хотели, если из деликатности еще мирились со старыми поэтами, то новых встречали откровенной неприязнью: «Сейчас завоет... И кому это только нужно?..» Прахов обошел все редакции, в одних сразу говорили: «Стихов не печатаем» (вроде как «рукопожатия отменены»), в других из приличия тянули, прятали любовно переписанные Праховым листки в ящики, выдерживали их там месяц, другой, потом начинали разыскивать, искренне ненавидя автора, а под конец возвращали: «Мы материалом обеспечены года на два». Один совестливый критик, впрочем, прочел их. Он читал все, что ему приносили. Может быть, вследствие этого, а может быть, по отсутствию прирожденной чувствительности, он понимал только то, что все уже давно поняли. Прахову он сказал: «Устарело. Маяковщина. Старайтесь больше вникать в жизнь, в строительство нового быта...»
Признания Прахов так и не нашел. Денег тоже не было. В каком-то журнальчике, куда он ходил, все еще надеясь — вдруг тиснут? — ему предложили: «Накатайте сто строк о борьбе «живцов» с «тихоновцами», червонец, пожалуй, заплатим». Прахов вздумал было обидеться, потом поразмыслил — жить-то нужно — и согласился. За церковными темами последовали другие — столовки нарпита, фильм «Аборт и его последствия», приезд австрийской делегации. Сначала Прахову трудно было писать — выходило по-своему, не те чувства, не те слова, язык слишком густой и крепкий, но быстро он привык. Благородство и совестливость куда легче вывести, чем веснушки. Он сообразил, что не надо ему ни глядеть своими глазами, ни отзываться сердцем, ни раздумывать. Круг тем расширился: появились дамы, собаки, кадры фильмов, холодильники. Стихов ой больше не сочинял, а увидев как-то на дне аткарского сундучка пухлую тетрадь, кинул ее пренебрежительно в печку: «Хлам!» Чин поэта казался ему теперь старомодным, как френч недавних и безвозвратно канувших лет. Он мечтал о бойком словце, о статьях, диктуемых мимоходом стенографистке, о баснословных гонорарах, об английском костюме, о всех соблазнах столицы, доступных обладателю пачки червонцев. Как я уже сказал, он переборщил. Все сложилось плохо. Дело это случая, вроде карт казино. Другие, не умней, да и не талантливей, добились денег, почету, автомобиля, заграничных командировок, а у него сорвалось: Проточный, долги, «незаметные» заплаты и чумная слава — «первый халтурщик Москвы».
Но зато как же он радовался сорока выигранным червонцам! Напиться — раз. Костюм — два. Таня — три. Эй, несись, кляча! Для пигмея из Проточного начинается залихватская жизнь. Однако возле Арбатских ворот бесчувственная кляча вовсе остановилась: улица была запружена сборищем зевак. Два драчуна, очевидно опередившие Прахова и успевшие уже приложиться, флегматично обменивались увесистыми затрещинами. Извозчик повернулся к Прахову:
— Народ-то!.. Совершенно обезумел. Ничего не чувствует!
Прахов ответил иронической улыбкой:
— Ты что, извозчик, может быть, стихи сочиняешь?
Но тот, уже не оборачиваясь, печально пробормотал:
— Набавить бы двугривенный.
Пошли дни горячие, сумасбродные, похожие на глупый сон: от водки трещала голова, портной лопотал о габардине, официанты превращали весь мир в какое-то уменьшительное — за «кофеечком» следовал «зонтичек» (хотя зонт был огромный, купеческий), «погодочка», зазывали лихачи: «пажа-пжа», в «кружке» вчерашние насмешники из «Вечерки», почуяв дармовое угощение, расхваливали статейки Прахова и пили таинственную смесь из вина и компота, именуемую отвлеченно «напитком», секретарша ревновала, требуя новую сумочку, ругались и философствовали извозчики, за портвейном все начиналось сначала, то есть с графинчика: Прахов кутил. Не хватало ему только соседки. Хоть ездил он как-то с Таней кататься в Сокольники, хоть и не гнала она его теперь, все же дело тормозилось. Вдруг вскипело в Тане самолюбие, а может быть, и стыд. Прахову приходилось, как водевильному герою, в самый многообещающий момент убираться ни с чем. Приученный все расценивать на деньги, Прахов и здесь считал, что беда в отсутствии монеты — надо бы, покатавшись, заехать в кабак, подарить какую-нибудь финтифлюшку, щегольнуть набитым бумажником, шикарным галстуком... Глупо это, невпопад, но где же было Прахову разбираться в душевных тонкостях? Стихи он давно сжег, давно забыл он, что можно гореть, любить, лить слезы. Оставалась в нем одна мысль: — «Даром только лягушки квакают». Он никогда не думал: «Может быть, она любит Сахарова?», но: «Сколько же Сахаров на нее тратит?» Выигрыш неожиданно все изменил, и среди выпивок, примерок, катаний по Кузнецкому, Прахов не забыл зайти к знакомому ювелиру, где приобрел за восемь червонцев колечко с тремя крохотными камешками — два топаза и аметист, в виде трилистника. Теперь он был уверен в благополучном завершении дела.
Таня все еще находилась, после объяснения с Натальей Генриховной, в состоянии душевной апатии. Выла она как золотой, выкинутый на двор Проточного: взять ее мог первый же встречный, так что Прахову не пришлось долго уламывать.
— Поедем в ресторан с музыкой.
Лежать здесь в полутемной комнатке, куда может войти в любую минуту Сахаров, или сидеть с Праховым, среди бумажных роз и свиных котлет? Все равно...
Прахов решил показать себя лицом и расшвырять остаток выигрыша. Он повез Таню на «Крышу». Войдя в зал, полный звяканья стопок, отрыжки, гитар, чавканья, хохота, дыма, она на минуту остановилась, как осужденный, увидевший перед собой перекладину виселицы, но сейчас же вспомнила — терять нечего,— и послушно села на указанное Праховым место. Она выпила несколько рюмок водки, от еды отказалась. Пока Прахов жадно сглатывал севрюжку и отбивные, она молчала. Лицо ее выражало крайнее спокойствие, более того — равнодушие, будто только восковой слепок сидел за столиком, принуждаемый чуждой волей, как вот этот букетик среди сальных тарелок, а душа отсутствовала, витала далеко — в мире синих берегов, пунцовых роз, волшебных лужаек. Это выражение отрешенности смущало Прахова. Он чувствовал, что дело не в бумажнике — все его истины колебались. Показав на эстраду, где две пожилые и чрезвычайно упитанные еврейки в детских платьицах устало подпрыгивали, он сказал:
— Скучная программа.
Таня вздрогнула. Она как бы очнулась от долгого забытья:
— Да? А я и не заметила. Мне, Прахов, вообще скучно, очень скучно.
Тогда что-то екнуло внутри Прахова, будто проснулся в нем прежний аткарский мальчишка, слов нет, грубый, самонадеянный, но горячий, всклокоченный, живой. «Надо бы ей сказать что-нибудь такое,— подумал он.— Но как здесь скажешь?..» С досадой оглядел он столь привлекавший его прежде зал. Кругом сидели Панкратовы, множество Панкратовых, те же бороды, те же лоснящиеся морды, те же «червячки». Они расстегивались, почесывались и, тупо глядя на толстые икры танцевавших женщин, сквернословили: «Эй, задирай, гражданка, этажом выше...» Они хотели за свои деньги всего. Некоторые были с женами, на которых смешно барахтались непривычные шляпки — Натальи Генриховны или другой «комильфотной» мастерицы. Жадно они отбирали от своих послушливых половин недоеденные тарелки и недопитые стаканы. Другие привели сюда «девочек» с Тверской, и здесь же уминали их, как хлебный мякиш. «Да, тут не до лирики,— пробурчал Прахов.— Надо есть и пить». Он налил Тане еще рюмочку.
— Выпейте, веселее станет.
Какая же это была угрюмая ночь! Сменяли прыгавших женщин непристойные куплетисты. Один за другим уходили вдоволь ублаженные гости, иных, перехвативших, выволакивали. А Таня и Прахов все сидели друг против друга, как сидят на вокзале два незнакомых путника, поджидая поезда. Они глядели в разные стороны и молчали.
Уже начало светать, когда они встали и, прежде чем спуститься вниз, вышли на открытую веранду. Внизу была Москва, огромная и непонятная: дома, купола, сады, все то сбитое в кучу, то раскиданное невесть куда, не город — хаос. Не знаю, глядели ли вы сверху на Москву: необычайное это зрелище, от него наполняется душа и гордостью и отчаянием. Можно здесь вознестись — чуден город, пышен, щедр, всего в нем много, печать вдохновенной свободы лежит на нем, ни прямых проспектов, ни унылого однообразия, дом на дом не похож — кто во что горазд, бедность и та задушевна; а можно и поплакать здесь, как будто эта величавая картина поясняет жестокую судьбу русского человека и русского писателя. Город? Не город вовсе — тяжелое нагромождение различных снов; нет в нем единой любви, поддерживающей усталого путника на жизненном пути, нет ни воли, ни подвига, ни разума, как во сне проходят перед глазами то размалеванная луковка, то модный небоскреб, то деревянная лачуга, то базар, то пустырь,— все сонное и призрачное, так что хочется воскликнуть: друзья мои, это ли наше великое средоточие?..
Ни Таня, ни Прахов не размышляли о столь высоких и праздных вещах, однако беспомощная торжественность Москвы дошла до их сердец. Она, водка, тоска, а может быть, и близость Тани глушили Прахова. Он изменял всему строю последних лет. Ему захотелось вдруг объяснить Тане, что он вовсе не такой, что есть в нем, помимо «половых функций» или гонорара, человеческая глубина, настоящие чувствования; но как сделать это — он не знал. Он не находил нужных слов, те, что лезли в голову, были захватанными, юркими, гадкими словечками из «Вечерки».
— Знаете, я ведь стихи прежде писал, и неплохие.
Таня молчала. Прахов забеспокоился: не верит! Он морщился, пытаясь вспомнить какое-нибудь из своих стихотворений, но на ум приходили только строчки из последней статьи: «Так совершаются органические процессы, и зарождается в толщах...» Наконец, в сердцах, он сказал:
— Вот хотя бы начало одного из них: «Я так любил ее — до грубых шуток и до...» Нет, дальше не помню. «До грубых шуток...»
Если бы Прахов вгляделся в сероватую тень, стоявшую рядом с ним, то он увидел бы, что на щеках Тани были слезы, но глядел он, раздосадованный, в сторону, начал тяготиться разладом: то или это... Что за нюни!..
Они поехали в Проточный. Ни одним словом не обменялись за долгий путь. Тряслась пролетка, тряслись две головы, угрюмо склоненные, трясся извозчик, и казалось — это не любовная парочка едет из ночного кабака, а везут в покойницкую труп самоубийцы. Прахов прошел в комнату Тани. Ему хотелось не то спать, не то долго и безысходно хныкать, как ребенку. Однако его не покидала мысль: сегодня или никогда...
Недавнее смятение все же не прошло без следа. Среди привычного наигранного цинизма то и дело прорывалась трогательная мягкость. Таня, кажется, ничего не чувствовала, кроме усталости и одиночества. Но когда Прахов, уходя, ласково поцеловал ее глаза, она поглядела на него с признательностью. «Если б я не была так измучена, так изгажена, если б могла я полюбить, я, кажется, его полюбила бы. Но он ведь этого не знает. Он думает, что и с ним, как с Сахаровым... Какой ужас!..»
Эти мысли сквозь дурноту, сквозь полусон, сквозь наплыв нежности, которые означали если не любовь, то ее томительное и болезненное зарождение где-то в самой глубине сердца, были прерваны веселой суматохой, поднятой Праховым. Он вдруг вспомнил: а подарок? Да, он настолько поддался наваждению этой ночи, что чуть было не забыл о колечке, хоть вечером оно ему казалось порукой счастья. А вспомнив, он искренне обрадовался. Он видел печаль Тани, терялся перед ней, как перед непонятной болезнью. Может быть, подарок ее развеселит, отвлечет от унылых мыслей... Он надел кольцо на палец Тани:
— Как раз впору...
Таня не сразу поняла, что это.
— Подарочек. Я вчера купил, кажется, красивое...
Таня засмеялась бессмысленно и безысходно, нехорошо засмеялась. Потом какая-то мелькнувшая второпях мысль заставила ее приподняться, переспросить Прахова с тревогой, в которой опытный слух, может быть, различил бы и надежду:
— Что это?.. «Грубая шутка»?..
Прахов совсем растерялся.
— Да что вы? Могу же я вам, после всего, подарить безделку!..
Тогда Таня вскочила, швырнула кольцо на пол и грубо крикнула Прахову:
— Зачем такие фокусы? Могли бы заплатить просто деньгами!..
9. ПРОЩАЙ, ДУША!
Таня лежала без мыслей, без воспоминаний, спала с раскрытыми глазами, все более и более отдалялась она от живой жизни. Ночь с Праховым докопала ее, даже не ночь, а исход, эта неожиданная, против воли, нежность к Прахову, еще не успевшая стать подлинным чувством, которая одна могла ее спасти, так глупо раздавленная мужской грубостью. Мертва теперь нежность, она гниет, как труп, вместе с ночью, с девятнадцатью прожитыми годами, с привязанностью к солнцу, к цветам, к человеческому голосу.
За стеной все шло по-обычному: раздувал самовар Лойтер, Юзик пиликал, разучивая новый «кусочек». Прахов, тот как свалился — уснул, сапог не снял, даже не снял с лица гримасы негодования, вызванной выходкой Тани: вот вам, отблагодарила!.. Под окном орали мальчишки — собирались топить на помойке щенят. Сука грустно подвывала. Так вот встают, уныло потягиваются — пора на службу — и долго полощут рот, стараясь отделаться от привкуса жизни, пьют чай, тянут, что называется, лямку. Тянули ее и в то утро.
А в комнате Тани было тихо, пусто, хоть и лежала Таня, хоть и дышала, шевелила веками. На полу возле двери валялось колечко,— «гранфасон», как сказал Прахову ювелир. Таня о нем не вспоминала. Она прошла через все. Казалось, молодая душа вступает в агонию, нет больше ни живой боли, ни слез, только внезапные судороги, не понятный никому лепет, отмирание.
Тогда боязливо приоткрылась дверь, и в щель просочились неунывающие усики. Долго Сахаров колебался — трусил: прогонит, боялся и скандала покрупнее, крика, огласки, вмешательства подозрительных обитателей квартиры №6. Однако «сердце — не камень». Забавна, слов нет, влюбленная Поленька, но не может же Сахаров пробавляться одними анекдотцами... Завести новую? Хлопотно, да и накладно. А денег у Сахарова вовсе не было: Наталья Генриховна держалась стойко. Он — о костюме, о заветном, каштановом, а она в ответ о какой-то уголовщине. Черт знает что! Кончена семейная жизнь! Все складывалось против Сахарова, и без натяжки можно сказать, что даже усики его поникли. Он постучался. Таня не ответила, тогда он решился войти, даже подойти к кровати, хоть — что ни шаг — пятился назад, обдумывал, как бы в случае чего удрать с достоинством. Что за ерунда!.. Таня не гнала его, не отвечала ему, все так же лежала, широко раскрыв глаза, не двигаясь, как будто и не пришел Сахаров. «Вот до чего зла,— подумал он,— глядеть не хочет. Здесь без дипломатии ничего не выйдет...» Голос Сахарова стал страдающим:
— Ты вот на меня сердишься... А я до точки дошел. Руки я на себя наложить могу. Не веришь? Поздно будет, когда поверишь. Теперь ты видала, с какой я штуковиной живу? Она тебя в три минуты уничтожила, а я — выговорить страшно — я десятый год с ней мучаюсь! Ты постой, постой, я сейчас тебе все объясню!..
Сахаров засуетился, замахал руками, боясь, что Таня станет упрекать его, хотя она, не меняясь в лице, все так же лежала навзничь.
— Ты за тот раз злишься? Очень глупо. Я же тебя выручил. Разве ты знаешь, на что эта баба способна? Разговоры? На разговоры плевать. Но здесь уголовщиной пахнет. Скажи я тогда одно слово — она убила бы нас на месте. Я, Танечка, по любви... Неужели ты этого не чувствуешь? Ну, дай я поцелую тебя...
Он наклонился. Глухо и спокойно сказала Таня:
— Если вы до меня дотронетесь, я закричу. Придут люди. Не стоит...
Сахаров, ошеломленный, отскочил:
— Это что за тон? Я, кажется, никогда не злоупотреблял силой. Как вам угодно... Я только объясниться хочу. Это мое право. Подумай-ка сама. Почему я живу с ней? Исключительно из-за ребенка. Ты этого чувства еще не испытала. Но здесь я связан по рукам. Она, мало сказать, истеричка — она ненормальная. Ее бы — на Канатчикову дачу... Ты знаешь, что она мне вчера сказала? «Если не порвешь с ней, я ее убью». И способна. Вот недавно — читала в газетах? — в Ленинграде одна ведьма, тоже «фон», девушку на куски изрубила и в Неву кинула. Она и меня может убить. Я тебя защищаю. Это — трагедия. А ты из-за каких-то пустяков крик поднимаешь. Стыдно!
— Да, да, я все понимаю. Я не сержусь. Только я прошу тебя — уйди сейчас. У меня голова болит. Я не могу с тобой разговаривать.
— Голова — ерунда. Можешь аспирину принять. У тебя вот и глаза блестят — насморк схватила. Знаешь, что я тебе скажу,— я уж и план выработал. Нельзя жить под вечной угрозой. Как только раздобуду сто червонцев — расплачусь с долгами, обеспечу Петеньку на год, и тогда мы с тобой переедем. Я и комнату присмотрел — в Лялином переулке, чудесный квартал, это не наш Проточный. Разрубить, так сказать, сплеча. Сейчас нельзя — кризис полнейший. Жалованья третий месяц не выплачивают — высшая политика. Вот я и бегаю с утра до ночи — все пытаюсь набрать двадцать червонцев. Это у меня «долг чести». Ситуация прямо-таки критическая...
Голос Сахарова срывался. Казалось, еще минута, и униженные усики оросятся горячими слезами.
— Вон там кольцо валяется. Возьми. Сколько оно стоит, не знаю. Можешь продать.
Сахаров долго ползал по полу, разыскивая закатившееся под комод колечко. Наконец он нашел его, прищурился с видом знатока, хотя в камнях ничего не смыслил:
— Кажется, настоящие, и работа... Но как же я у тебя возьму? Дашь, а потом самой жалко станет.
— Нет, бери. Я его все равно носить не буду.
— Ну, что ж, в таком случае мерси. Очень глупо, что тебя даже поцеловать за это нельзя.
— Нет, нет, не подходи. Голова болит. И уходи. А кольцо забирай.
Обиженно шевеля усиками, Сахаров засунул колечко в жилетный карман с нарочитой небрежностью, будто это трамвайный билет. Он хотел показать, что снисходит к вздорным желаниям Тани.
— До свидания. Надеюсь, что в следующий раз ты будешь гостеприимней.
Тогда какая-то мысль заставила Таню оживиться, даже встать, пристально взглянув на Сахарова. Может быть, она вспомнила, что как-никак перед ней человек, которому отдала она свое девичество, который видел ее стыд и слезы, не первый прохожий, а проклятый суженый, если и черт, то свой, домашний. Она остановила Сахарова:
— Обожди. Я должна тебе что-то сказать. Ты знаешь, откуда у меня это кольцо? Мне его дал один человек. Я с ним провела ночь. Понимаешь?.. Вместо денег...
Сахаров даже запищал от возмущения:
— Вот как!.. Прикидывалась чистоплюйкой — «ах, ненастоящее!..». А между прочим... И расцениваешь ты себя не очень-то дорого. О чем я, дурак, думал?..
— Чем ты возмущаешься? Денег ты на меня не тратил. Даже кольцо получил. Жалеть тебе как будто не о чем.
— А обида? Это не в счет? Я ради тебя чуть ли не в монахи записался. Ты что думаешь, мне легко без женщины? Но я ни-ни... А ты в это время...
Таня прервала его:
— Хватит! Поговорили по душам, теперь уходи. А с кольцом — как хочешь, можешь взять...
Сахаров заерзал. Как выйти из положения? Таню он проворонил, это дело пропащее. Но с кольцом? Двадцати, конечно, не дадут, а пять выгнать можно — тоже деньги. Однако — самолюбие. Нельзя же после всего преспокойно раскланяться, как будто и нет у него в кармане никакого кольца. Он бегал по комнате, стараясь выдумать что-нибудь хоть сугубо надменное, но избавляющее его от отдачи презента. Наконец, так ничего и не придумав, он вытянулся и, тщась стать высоким, важным, независимым, как покойный барон фон Майнорт, медленно процедил:
— Я беру его, чтобы показать... ну, презрение. Прощай.
Когда Сахаров вышел, Таня начала смеяться жестоким, нервическим смехом. Она металась по комнате, рвала какие-то бумажки, суетилась, подбирала клочки, и все смеялась. Мускулы ее лица судорожно дергались от приступов этого смеха, а глаза глядели по-прежнему бессмысленно, как забитые окна покинутого жителями города. Потом она выбежала в коридор:
— Юзик! Идите сюда, Юзик! Я расскажу вам смешную историю.
Юзик прибежал, как был — в дырявой фуфайке, со скрипкой. Он очень обрадовался. Две недели Таня с ним не разговаривала: сердилась за нотации. Юзик, как-то увидав у нее бутылочку (Прахов принес), робко попросил: «Не нужно, Татьяна Алексеевна, лучше поезжайте себе в Покровское, там такой удивительный воздух, или я принесу вам котенка, с котенком, по-моему, не так тоскливо...» Две недели терзался Юзик, доводя «комическими кусочками» чувствительную Лойтер до слез. И вот Таня зовет его. Он прибежал сияющий и нежный, как придорожный кустик в эти весенние дни. Увидев глаза Тани, он, однако, сразу осекся.
— Что же вы испугались, Юзик? Мне просто очень весело. Разве вы не видите, что мне очень весело? Хотите, я и вас развеселю? Смешная все-таки вещь жизнь. Вы только послушайте. Я очень скверная женщина. Но не в этом дело. Сегодня Прахов ночевал у меня. И он дал мне за это кольцо. Видите, какой он деликатный! Он ведь, оказывается, и стихи пишет, поэт! Ну, разве не смешно? Почему вы не смеетесь, Юзик? Обождите, самое веселое впереди. Я дала это кольцо Сахарову. Я ему рассказала все. И знаете, что он сделал? Юзик, он взял кольцо! Смейтесь, Юзик! Это ведь смешно...
Горбун не смеялся. По правде сказать, он плакал, хоть и не мужское это дело, он стоял и плакал настоящими слезами. Но Таня не глядела на него. Ее возбуждение все росло.
— Юзик, я буду сейчас танцевать. А вы играйте. Играйте фокстрот. Ну!..
— Я не могу сейчас играть, Татьяна Алексеевна. Если б я был великим артистом, я сыграл бы самую прекрасную вещь. Я сыграл бы такую вещь, что все стали бы перед вами на колени и заплакали, да, да, и эти низкие души, и мадам Лойтер, и даже дома Проточного. Я сыграл бы, и в ваши глаза вернулась бы жизнь. Но я не великий артист, я жалкий недоучка. Я могу играть, только когда люди смотрят на экран и не слушают музыку. Но разве можно говорить сейчас о музыке? Я тихий человек, но сейчас я способен убить этого низкого Прахова. Татьяна Алексеевна, уезжайте отсюда! Я говорю вам, что есть другая жизнь, честное слово, есть настоящая жизнь! Я буду очень страдать, когда вы уедете, но еще больше я буду радоваться. Вас обидели. Детей всегда обижают. Когда я был маленьким, весь Гомель смеялся над моим горбом. Но вы найдете других людей, и они будут хорошими людьми. Вы говорили, что у вас где-то сестра. Уезжайте к этой сестре. Уезжайте, или я, Юзик, прокляну жизнь!
Пока он говорил, Таня сидела понуро в углу. Вспышка мнимой веселости кончилась. На смену пришло изнеможение. Она плохо соображала, о чем ее просит Юзик. Машинально повторила она:
— Да... сестра...
А минуту спустя уже настойчиво, в упор она спросила Юзика:
— Вы можете достать морфий?
— Татьяна Алексеевна!.. Танечка!.. Не говорите мне таких ужасных вещей. Вы не можете умереть. Я вас не пущу! Вы — благородная душа, и вы найдете благородного человека. Хотите, я буду сторожить вас, как собака, чтобы никто не посмел вас пальцем тронуть? Если б я мог, я принес бы вам не этот проклятый морфий, я принес бы вам все цветы мира, все звезды, весь смех, всю радость. Но что я могу вам принести, кроме моего смешного горба? Я вам не дам пить яд! Я не позволю вам умереть! Я вцеплюсь в вас!..
Он ловил глазами ее глаза, как одержимый, и Таня испугалась его. Она не задумывалась, почему этот чудак кричит, плачет, упрашивает. В своем горе она не замечала любви Юзика, как не замечают на похоронах стыдливого благоухания цветов. Слезы горбуна не доходили до ее сердца. Влекомая одной угрюмой мыслью, задумчиво отвела она руку Юзика. О чем он хлопочет? Разве он не видит, что Таня умерла, что перед ним сидит, дышит, разговаривает не человек, но только случайный набор глаз, волос, слов, привычек? Какая в нем нелепая и надоедливая суетливость! Вот так он и с Праховым, и с Лойтерами, и с Осенькой, у которого, видите ли, «животик болит»... Прахов негодяй, но Прахов правильно прозвал Юзика; «протопоп из Гомеля». Так, видно, в жизни все устроено: если есть в человеке доброта, нежность, отзывчивость, то уж обязательно он смешон. Надо его успокоить и отослать...
— Я пошутила, Юзик. Не бойтесь, все в порядке. Завтра вы перемените в библиотеке книги. Хорошо?
Недоверчиво взглянул Юзик на Таню, нахмурился, примолк. Он увидел, что его бессвязные речи не поняты, что весь он комичен, как анекдот, а то и противен, что не в его власти вернуть Тане жизнь. Кажется, впервые со стыдом, более того — с отвращением, он подумал о своем уродстве. Будь он высоким и стройным, может быть, по-иному звучали бы эти клятвы и мольбы. С невыносимой, даже для бесчувственного уха, грустью сказал он:
— Я пойду. Хорошо, я переменю книги. Я не буду больше вам надоедать моими глупыми разговорами. А вы... а вы...
Растроганно Таня положила руки на плечи Юзика:
— Что я?.. Что же мне остается, Юзик? Твердо ответил он:
— Радоваться. Вам остается радоваться, Татьяна Алексеевна, да, да, жить и радоваться. Если человек перестает радоваться,— значит, он больше не живет. Я только что сказал себе: «Ты урод и ты дурак». От этого можно умереть. Но вот я живу и я радуюсь, радуюсь, что вижу вас, Танечка...
Лицо его действительно выражало беспредельную радость. Нежность переходила в высокое самозабвение. Но Таня глядела мимо, глядела в окно, на серое дождливое небо, лишенное и окраски и глубины, глядела глазами холодными, отрешенными, как путник, собравшийся в дальний путь, когда завязаны чемоданы, часы торопят — «пора», и одно остается, полное невыразимой печали объятие: прощай, друг! прощай, душа!
10. УЛЫБКА ПРОЗЕРПИНЫ
Несколько раз за день Юзик подходил к двери соседней комнаты и прислушивался. Услыхав легкий шорох, шаги или шелест бумаги (Таня что-то писала, а потом рвала написанное), он немного успокаивался. Даже в кино он не пошел, упросив Лойтера позволить из пивной, будто он заболел гриппом. Посетителям «Электры» пришлось удовольствоваться пианино, а гражданка Лойтер угрюмо объявила своему супругу:
— Юзик переигрался. Нельзя каждый вечер выворачивать душу. У него вовсе не грипп, у него самое настоящее сумасшествие.
Часов в одиннадцать вечера, подойдя к двери Тани, Юзик ничего не услышал. Он робко поскребся. Ответа не последовало. Тогда он решился заглянуть в замочную скважину. Таня спокойно спала. Равномерно приподымалось на ее груди одеяло. Может быть, она действительно пошутила? Ведь не поняла она ни слез Юзика, ни порывов. Он вспомнил: «Перемените книги»,— и ему стало обидно. «Пойду поброжу по улицам»,— он знал в жизни одно утешение: ходить среди других людей, глядеть, как они франтят, смеются, целуются; то умилится перед окошком, где цветет самовар, как райская птица, порхает женская рука с чашкой и благоухает поздняя беседа, то сунет мальчонке припасенную карамельку, то пофилософствует с нищим, у которого если не горб, так костыль или погоревшее добро.
Дела Юзика в последнее время как-то не клеились. Конечно, такому уроду не на что надеяться, но уж чересчур все складывалось против него. Заведующий «Электрой» на прошлой неделе объявил: «Вы так фальшивите, что даже публика замечает. Ищите другое место!» Легко сказать — откуда Юзик найдет «другое место»? Теперь лето, теперь режим экономии, теперь никто не хочет музыки; у кого есть деньги, едет в Крым, а у кого нет, тот сидит дома и ждет похорон. Ботинки Юзика превратились в сандалии: все пальцы наружу, и у этих сандалий скоро вовсе не будет подошв. Он дал взаймы пианисту Шварцу четыре червонца. У Шварца племянница заболела дизентерией. Канули деньги. Прежде Юзик ездил из «Электры» — трамвай «Б» довозил его до Смоленского,— теперь возвращался он пешком. Не в этом беда: пешком, пожалуй, приятнее, даже без подметок, Хуже всего, что люди вокруг стали хмурыми, неприязненными. Почему тот же заведующий вдруг решил, что Юзик фальшивит? Засадили его брата — и «минус семь». Заведующий возненавидел мир, он перестал бриться и выдавать контрамарки. С Лойтерами теперь заговорить страшно. Шутка? Ждут четвертое пополнение — и все это в одной комнате! Кругом только жалуются: «жалованья не выдают», «сократили», «ботинок не выкроишь», «заказчиц нет», «о даче и не думаем»; никто не радуется, что стоят ясные дни, что зелен и нежен Новинский бульвар, что хорошо жить даже без жалованья и без ботинок. Чужое горе теснит Юзика, от него не отделаешься ни поучениями двух гомельских умников, ни пламенным бредом неизвестного сочинителя.
И вот — Таня! Что будет с Таней? Сейчас она уснула. А завтра?.. А завтра придет к ней Сахаров, или Прахов, или еще какой-нибудь низкий человек, они заставят ее плакать, горько смеяться, говорить о каком-то «морфии» и глядеть на мир ужасными мертвыми глазами. Они убьют ее, выживут из жизни, как выжил Панкратов детишек из своего подвала.
Юзик проходил мимо абрикосового домика. Вспомнил он зимнюю ночь, сугробы, свежезаваленный ход. Куда девались эти дети? С той ночи Юзик больше не встречал их. Может быть, замерзли они, не найдя теплой норы? Горбун остановился перед освещенным окошком и погрозился жалким младенческим кулачком:
— Злые души! Мелкие души!
У окна стояла Панкратова, она прямо-таки обмерла от столь неожиданного зрелища:
— Алексеич, гляди-ка! Горбатый жиденок взбесился. Знаки подает...
«Сам» раздраженно харкнул.
— Доколе мы этих «гипиушей» не выкурим, житья нам здесь не будет.
Юзик бежал. Дальше от этих людей! Но не так-то легко отделаться от прилипчивых призраков. Только загнул он за угол, как увидел Прахова; тот трясся на извозчике, возвращаясь домой, после бутылки рябиновки, хоть пьяный, но невеселый: кончены сорок червонцев, катанья, нежные чувства. Завтра придется снова выгонять строчки. Юзик кинулся к пролетке:
— Стойте! Что вы с ней сделали?..
Прахов озлился:
— Эй ты, конек-горбунок, отвяжись!.. «Что сделали»? До меня, дурак, сделали. Только тебя там не было. Извозчик, ты чего остановился? Трогай! Не до разговоров мне...
Подстегнул лошадку извозчик, и вот нет Прахова, будто и не было вовсе его. Потешаются над Юзиком обитатели Проточного. Он стоит посередине мостовой, обруганный, осмеянный. А Прахова и след простыл. Погубил Таню, потом напился у своих красивых актрис. Это и есть жизнь, над которой думают умники? Тогда к черту жизнь! Тогда не Тане нужен морфий, а ему, Юзику. Он болтал сладкие глупости. «Перл»? Нет никаких «перлов»! Это у Сахарова и кольца, и перлы. Кому здесь нужны улыбки? И можно ли улыбаться, если рядом убивают?..
Долго метался он по улицам и переулкам, грозясь, негодуя, жалуясь перед закрытыми ставнями, перед золотом вывесок, перед фонарями. В душе он произносил бичующие речи, взрывал памятники, вытаптывал цветники. Встречные, однако, подмечали только дикое попыхивание глазок. Попробовал он было подсесть к какому-то мрачному гражданину, которой хоть и вышел без дела, «воздухом подышать», но воздух этот вдыхал с явным отвращением, а выдыхал с мукой: такой поймет! Но только Юзик начал, как собеседник подозрительно оглядел его:
— Я, гражданин, критикой не занимаюсь. За такие разговоры очень легко попасть в восточную часть Федерации.
Наконец — было это возле Арбатских ворот — Юзик напал на старого нищего, с лицом, памятным ему еще по Проточному. Сосчитал — полтора рубля, рубль он отдал старику, а на полтинник решил зайти с ним в пивную — поговорить. Нищий был ростом высок и, несмотря на сутулость, важен, будто не выпрашивает он «копеечки», а пишет законы или отдает приказы. Юзик даже побаивался его. Неуверенно он предложил:
— У меня осталось пятьдесят копеек. Если хотите, зайдемте сюда. Я скажу вам прямо — трудно человеку, даже такому пугалу, как я, жить без душевной беседы...
— Очень приятно. В таком случае разрешите представиться: Освальд Сигизмундович Яншек, бывший преподаватель латыни Первой классической гимназии.
В пивной, куда они зашли, было пустовато. Оглядев костюм приятелей, хозяин потребовал деньги вперед. Сидели они друг против друга чопорно, скажу даже, торжественно, как на официальном приеме. Разговор не ладился. Перебирать пустяки — где больше подают, на Арбате или на Мясницкой, с чего взбеленился заведующий «Электрой», какие у кого обиды — не хотелось. Молча выпили они бутылку. Вынув полученный от Юзика целковый, Освальд Сигизмундович спросил вторую. Еще большей горечью наполнило пиво сердце Юзика. Наконец он не выдержал:
— Вы — бывший преподаватель латыни. Значит, вы многое знаете. Меня никогда не учили латыни. Меня вообще ничему не учили. Я сам научился играть на скрипке, и я не играю, я пиликаю, как сапожник. Мне стыдно перед полотном. Может быть, у этих фотографий имеются уши. У публики нет ушей, у нее нет сердца. Кто смотрит картины, спрошу я вас? Вы? Нет, Сахаров, Панкратовы, Прахов. Они смотрят, как великодушный китаец спасает несчастную девушку, и кричат «браво», а потом они идут домой, пьют чай и преспокойно убивают какую-нибудь девочку. Так зачем мне играть хорошо? Зачем жил Бетховен? Вы знаете какую-то латынь. Это, вероятно, звучит как самая изумительная соната. Но зачем вы их учили этой латыни? Если вы такой умный человек, объясните мне, почему они могут сейчас спокойно спать, а у меня болит сердце?..
Освальд Сигизмундович откашлялся, как будто всходил на кафедру:
— Гм... Как бы вам это объяснить?.. Существуют, например, неправильные глаголы. Вы, молодой человек, отклоняетесь от общего правила. Вы не погнушались обществом нищего. У вас болит сердце. Вы говорите велеречиво, как Цицерон, а улыбаетесь, как дитя. Когда-то я думал, что ошибаться не следует. Я даже ставил мальчикам, которые ошибались в роде существительных, низкие баллы. Теперь я вижу, что прав только тот, кто великодушно заблуждается. Не на благородных ли заблуждениях построены прекрасные жизнеописания? Дочь бога нисходит в мир праха и смерти, чтобы цвели вербены, чтобы гремели цепы поселян, чтобы глагольствовал Гораций. Я как бы вижу улыбку этой обреченной девицы: она полна испуга и восторженности.
Юзик взволновался:
— Вы говорите очень красиво и умно, но у меня по-прежнему болит сердце. Вы не хотите ответить мне — зачем улыбаться, зачем играть на скрипке, зачем жить, если рядом вот такая пакость, если этот хозяин пивной, наверное, считает барыши и убивает детей, если все злятся, ругаются, друг друга обижают, если нет на свете никакой, даже самой малюсенькой истины?
— Молодой человек, вы задаете мне праздные вопросы. Когда-то другие юноши спрашивали меня: «Зачем изучать латынь?» Разумеется, я мог ответить им — для аттестата зрелости, для успешного ознакомления с юриспруденцией, с естественными и гуманитарными науками. Я отвечал им: «Этот мертвый язык бесцелен и прекрасен, как вся жизнь. Бескорыстностью своей он пробуждает сонную душу». Много лет прошло с тех пор. Уж я не преподаватель классической гимназии, а нищий. Однако я вижу, что не ошибался.
— Так почему же вас, преподавателя латыни, выбросили на улицу? Где тогда справедливость? Одно из двух — или вы правы, или они?
— Я был прав. Это — прошедшее время. Они правы — это настоящее. А дети, играющие сейчас погремушками,— будут правы: футурум. Меня выбросили, как вы изволили заметить, потому, что я отжил свой век. Я никого не осуждаю. С удовлетворением глядел я на их флаги, на их шествия, на их воодушевление. Прекрасна, молодой человек, кровь, приливающая к щекам, и огонь самозабвения в глазах! Среди них имеются мои бывшие ученики. Пусть они смеются надо мной, они тоже любят эту мифическую улыбку. У них тоже существуют свои преподаватели латыни. Я говорю им: живите, шумите, ошибайтесь! Мне не нужен старый мой мундир. Я вам кланяюсь и благодарю вас за то, что вы живете, когда я, Освальд Сигизмундович Яншек, не могу больше жить...
Здесь голос старика наполнился звонкостью и силой. Он встал. Он был прекрасен, как статуя римского оратора. Но хозяин пивной не разделял восторгов:
— Довольно разводить музыку! Выпили, а теперь — вон. Пиво, оно любит, чтоб его прогуливали...
Собеседники вышли на улицу. Короткая ночь кончалась. Белесые переулки, полные нежности и тишины, вели их, пугали, умиляли. Что за час, чудный час! Только коты его знают, одни коты бродят по этим предутренним переулкам. У них своя, непонятная жизнь. Они останавливаются, выгибают спины, глядят друг на друга пустыми, безумными, глазами, издают легкие восторженные вскрики. Поверьте котам — это время гулять, беседовать, искать завалившееся между камнями мостовой крохотное счастье и ничего не искать, только улыбаться огромному розовому зареву, что охватило полнеба, игрушечную каланчу, купола, дома, вздутые ветерком твои волосы, милая моя московская подруга!..
— Я не русский. Смутно помню я мой родной город, старинные часы на ратуше, кофе с взбитыми сливками, военную музыку. Я привык к этой стране, полюбил ее. Дорогой юноша, верьте мне, нет лучшей страны, чем эта! Огромны ее реки, темна ее судьба. Это страна, где много ошибаются, следовательно, это великодушная страна. Не сыщете вы здесь ли наших школ, ни наших бургомистров, ни наших честных кондитеров. Со стороны кажется, что одни воры вокруг, пьяницы, человекоубийцы. Но где вы найдете столько благородства и снисхождения, столько сумасбродной привязанности, как здесь, в этих злосчастных домиках?
Он остановился, рукой обвел расстилавшуюся перед ним картину: дощатые заборы, церквушка, вывеска часовщика, а дальше, внизу — копошащиеся тени и наша грязная красавица, Золушка — Москва-река. Они стояли на углу Проточного переулка. Юзик возмутился:
— Здесь? Не говорите этого! Поверьте мне, в этих домиках живут недостойные ваших слов люди.
— Кто знает?.. Может быть, здесь живут люди, о которых я недостоин говорить? А улыбка? Разве вы не видели здесь улыбки?..
— Обождите! Вы меня совсем расстроили вашими разговорами. Если б вы знали, на что способны эти люди... Здесь нет никакой истины. Ее нигде нет, даже у ваших бургомистров и кондитеров. Слушайте, я расскажу вам одну историю. Я слыхал ее в Гомеле, когда я был еще маленьким мальчиком. Я любил тогда слушать истории. Рассказывал ее старый шамес Ицох. Этот Ицох так прыгал на животе покойника, прежде чем закрыть его глаза, что мертвые кости хрустели, выл он ужасно, все гомельские собаки поджимали хвосты. Когда он умер, ему было восемьдесят шесть лет. Перед самой смертью этот Ицох созвал всех добрых евреев Гомеля, засмеялся неприличным смехом и рассказал им такое, что Коган-старший, убегая, потерял зонтик. Вы знаете, что он рассказал им? «Каждый год в иом-кипур я ел свиные котлеты с горошком. Это — раз. Я украл у вдовы Шиманович брошку. Это — два. Если вы думаете, что Мотька испоганил племянницу госпожи Зибель, так вы ошибаетесь, это я ее испоганил. Это — три... В синагоге я тихонечко напевал самые бесстыдные куплеты, а когда я проказничал с Ривкой, я нарочно надевал на себя священный тфилим. Это — четыре, и это — пять, и это — сто пять. Вы думали, что я хороший еврей, так знайте, что это вовсе не так, мне восемьдесят шесть лет, и я самым спокойным образом умираю, а вы все дураки». Кто в Гомеле тогда не отплевывался, вспоминая покойного шамеса! А я думаю, что этот шамес был неплохим человеком. Может быть, он и свои грехи придумал, чтобы напугать Когана-старшего или других «праведников»? Ему, наверное, было скучно взять себе и тихо умереть. Вот этот Ицох незадолго до своей смерти рассказал мне замечательную историю о Луцком раввине.
В городе Луцке жил раввин. Я прошу вас, вообразите все самое необыкновенное — красоту, ум, богатство, молодую жену,— и вот все это было у луцкого раввина. И сам он был тоже молодой. Ну, скажем, ему было двадцать пять лет, как мне. Но не забывайте, вместо горба — стройная фигура, как на картинке, а вместо «Электры» — такая голова, что за советами к нему приезжали умники из десяти губерний. Он знал все книги, какие только может знать еврей. Если он и не знал латыни, то, наверное, знал что-нибудь такое же непонятное. Он мог бы наслаждаться жизнью, как грешник и как праведник. Он мог бы сиять. И вдруг он просыпается, встает, чувствует, что все не так, не радует его красота жены, не веселят почтительные вздохи евреев, приехавших из десяти губерний, его не утешают даже книги. Он чувствует, что у него болит вот здесь, как у меня. Тогда он говорит жене: «Прощай, жена!» Он говорит евреям: «Прощайте, евреи!» Он вовсе никуда не уезжает, он уходит к себе в комнату, он запирает дверь. Что такое? Луцкий раввин решил не видеть больше живых людей, чтобы увидеть истину. Он решил просидеть у себя двадцать пять лет, чтобы узнать, где справедливость. И он просидел ровным счетом двадцать пять лет. Ему подавали в окошечко еду, чтобы он не умер до того, как он найдет истину. Об этом узнали не только в Луцке, но и во всех десяти губерниях. Все евреи только и говорили что о луцком раввине, который ищет истину.
Двадцать пять лет, вы понимаете, сколько это? Но прошли двадцать пять лет, и в доме луцкого раввина собрались набожные евреи, чтобы узнать, где же она, эта «истина»? Вы знаете, что такое сейдер? Это пасхальный ужин. Горят свечи. На столе всякие вкусные вещи, и вино, и водка — пейсаховка. Все ждут, сейчас выйдет он. Гости садятся за стол. Они едят и пьют, хоть у них застревает кусок в горле: что-то сейчас они услышат?.. Но не есть нельзя, раз это сейдер — ведь собрались сюда самые благочестивые евреи. Они ждут и ждут, а его все нет. Сначала они еще пробуют улыбаться. Они говорят друг другу приятные вещи. Потом им становится страшно. Почему он не приходит? До какой истины он там дошел? Уж догорели все свечи, только один огарок еще подпрыгивает, как зарезанная курица. Тогда открывается дверь, и входит он. Если свечи догорели — значит, темно. Что можно увидеть при свете одного огарка? Они видят только седую бороду. Двадцать пять лет не шутка. Луцкий раввин успел поседеть. А он идет к последней свече — и что, вы думаете, он делает? Он гасит ладонью свечу. Боже мой! Вы не понимаете, что это такое? Даже самый плохой еврей постыдится в такой вечер погасить свечу, а ведь это сделал раввин, и перед всеми праведниками десяти губерний. Дрожат от ужаса евреи. В темноте они больше ничего не видят. Тогда раздается его голос, такой печальный, что сердце разрывается на части, и говорит он, луцкий раввин, всем евреям: «Нет истины, нет справедливости, нет судий!..»
Преподаватель латыни, скажите мне, как вам нравится эта история? Я никогда не вспоминал ее. Разве можно вспоминать такие вещи, да еще когда на спине хорошенькая шишка? Но сегодня я своими глазами увидел то, что увидел луцкий умник, и мне не пришлось для этого двадцать пять лет думать. Я увидел это сразу, как только вошел в комнату одной девушки. Я тоже погасил свечу, и я сошел с ума. Я не хочу больше слушать о какой-то улыбке...
Освальд Сигизмундович сохранял спокойствие, величавость:
— Луцкий раввин ошибался. Он хотел найти общее правило. Он нашел его. А найдя, увидел, что ничего не нашел. Жизнь, мой юный друг, только в исключениях. Вы не хотите мне верить? Вы сомневаетесь в улыбке Прозерпины? Что же, я не стану вам рассказывать о древних происшествиях. Я забыл и летопись Рима, и стихи Вергилия. Я расскажу вам нечто более близкое, а вы поймете, что я прав. Но обождите... Нас никто не услышит? Я не хочу, чтобы кто-нибудь, кроме вас, услышал меня. Это было зимой. Я жил тогда с беспризорными в подвале. Не спрашивайте меня, где это было. Я не хочу никому мстить. Представьте себе маленький домик, с виду похожий на тот, что перед нами. И вот хозяин этого домика, ночью, когда мы спали...
Юзик вскрикнул.
11. ДВЕРЬ НАСТЕЖЬ
Происшествие немало взбудоражило даже видавший виды Проточный, хотя, если взглянуть философически, ничего не произошло, разве что освободилось несколько аршин вожделенной жилплощади. Но следует рассказать все по порядку. Было часов шесть утра, когда наконец-то расстались наши собеседники, вдоволь поговорив обо всем — о сугробах, об истине, даже о мифологии. Ключ потыкался неуклюже, как щенок. Юзик на цыпочках пошел по коридору. Тогда-то он заметил, что дверь комнаты, в которой жила Таня, открыта настежь. Тани не было. Юзик пометался, пошаркал, повздыхал и, наконец, не выдержав, разбудил Лойтера:
— Она бросилась в воду, я чувствую, что она бросилась в воду!
Сначала решили, что это выдумки Юзика: попросту человек рехнулся. Почему в воду? Почему не у подруги? Почему не на даче? Юзик обыскал комнату Тани, но, видимо, она сожгла и тетрадку, и клочки бумаги (ведь писала, писала), ничего он не нашел, кроме знакомых вещей: сшитого для Сахарова платья, книжек, губной помады, всего, что так раздирает любящее сердце, присужденное к разлуке. Он настолько растерялся, что даже бегал на берег Москвы-реки и там окликал: «Танечка, милая, не нужно!..» К вечеру и Лойтеры заразились его тревогой. Началось обсуждение. Почему бы такой молодой девушке кончать с собой? Здоровая, служба у нее была, характер веселый. Нет ли здесь чего-нибудь пострашнее? От Юзика трудно было добиться толку. Он сидел в темном углу и сам с собой разговаривал, как горячечный: «Преподаватель латыни, почему вы меня обманули?..» Лойтер попробовал поделиться с ним догадками:
— Юзик, а не убили ее?
— Убили.
— Что вы говорите, Юзик?.. Кто же мог ее убить?
— Не знаю. Все! Одним словом, Проточный переулок.
Окончательно изверились в Юзике, когда он схватил вышедшего наконец из своей комнаты заспанного Прахова:
— Вот посмотрите на него — это он ее убил!
Юзик так страшно хрипел и ворочал глазами, что даже Лойтеры замерли: нет ли здесь впрямь какой-либо тайны?.. Прахов, однако, не растерялся. С Юзиком он и разговаривать не стал, Лойтеру же толково разъяснил, что все это, разумеется, бред, логика сумасшедшего, которому место не здесь, а на Канатчиковой, что он провел ночь в Богородске, у своей приятельницы, секретарши «Женского вестника», домой вернулся поздно, часов в пять, и тогда же заметил, что дверь соседней комнаты была раскрыта настежь, но ничего дурного не предположил и лег спать. На Юзика все это не произвело, впрочем, никакого впечатления; он еще раз сурово сказал:
— А все-таки вы ее убили!..
Но здесь и Лойтеры поняли, что Юзик не в своем уме. Решили подождать до утра — не вернется ли Таня. Юзик всю ночь бормотал, приговаривал, плакал. Не спал и Прахов. Даже к столу не подходил, хоть следовало ему накатать строк двести. Стороннему наблюдателю его поведение могло бы показаться подозрительным: с чего это он? Ну, побаловался с девушкой. Мало ли таких похождений у Прахова? Он бегал из угла в угол, тяжело дышал, пил залпом воду, а посередине ночи вдруг сам с собой заговорил, как будто он не Прахов, но сумасшедший Юзик: «При чем тут я?..» — словом, вел он себя как совестливый преступник, хоть и схоронивший улики, однако наедине с собой жалкий, растерянный, замученный страхами.
За Праховым, однако, никто не следил, к утру он опомнился, умылся и преспокойно сказал, уходя, что по дороге в редакцию забежит куда следует — заявить о таинственном исчезновении жилицы.
Проточный гудел, был полон догадок и пересудов. Здесь-то обнаружилось, как сведущи его обитательницы во всей подноготной. Только и говорили, что о баронессе. Вспоминали и шмыгания к молдаванке, и как Сахаров по ночам пробирался в квартиру Лойтеров, и скандальчик, когда Наталья Генриховна на людях обложила свою соперницу. Были, правда, голоса не в лад: «Может, это проделки горбатого жиденка? Говорят, он теперь без памяти лежит...» — «А не утопилась ли?..» Но все это казалось неубедительным: у горбуна руки коротки, в воду кто же зря кинется, ежели кинут — это другая статья... Зачем придумывать, когда дело ясное: баронесса.
Проточный не осуждал Наталью Генриховну, он скорее радовался — было в этом темном деле некоторое выражение окаянных его фантазий. Не раз здесь показывалась кровь. Полуночные драки только растравляли душу. Проточный ждал добротного, серьезного убийства. На абрикосовый домик теперь поглядывали хоть с опаской, но любовно. Наиболее храбрые заглядывали внутрь, якобы насчет заказов. В мастерской все было в порядке, как будто и не слышал здесь никто о загадочном происшествии: шляпки, раскрытый рот Поленьки, «комильфотность». Кумушки, выбегая, задыхались не то от возмущения, не то от восторга: «Глаза у баронессы бесстыжие, не моргнет...»
Только Сахарова никто не видал. Где он был? Что делал? Да, впрочем, им не очень-то занимались, все понимали, что человек он маленький, и дело его — сторона.
Так прошел день. Из района заявили о происшествии в угрозыск, и стало на свете одной исходящей больше. Уж Лойтеры подумывали, как бы им завладеть освободившейся комнатой. В агентстве «Связь», узнав об исчезновении Тани, товарки повздыхали, потом начали гадать, удастся ли заведующему Воронину устроить на место Тани свою пятую или шестую племянницу. Вечером явились какие-то люди, допросили Лойтеров, Юзика, Прахова, тщательно осмотрели комнату Тани. Один из них, увидев вложенный в книгу Бухарина листок, прочитал его и усмехнулся. «Грубым дается радость, нежным дается печаль...» Прахов, тот сидел у себя запершись: будто бы работа спешная. К ночи все успокоилось: наговорились люди, нарадовались, насуетились. Хоть беспокойна летняя ночь, не дает она сна, пропустил час, и уж душу мутит непрошеный рассвет, но уснул кое-как Проточный.
Конечно, не ко всем сошел благодатный сон. В коридоре квартиры №6 сидел неподвижно Юзик, сидел прямо на полу, голову пригнув к коленям, так что горб казался огромным колпаком, под которым похоронены и блеск глаз и дыхание. Для него не было в этой белой ночи делений, судороги двух зорь, усталости или упования. Он видел одно: раскрытую настежь дверь, уход, не смерть (ведь могла же Таня умереть от тифа) — нечто сугубо страшное, отказ, «спасибо, нет», приговор ему, Юзику, Проточному, всем улицам мира. Куда она ушла? Что значит улыбка, выдуманная улыбка, не Тани, другой девушки, о которой так красиво говорил бывший преподаватель латыни? Юзик дрожал, будто распахнутая дверь образовывала сквозняк, и воздушные течения трепали его слабую душу. Бедный конек-горбунок, он все хотел понять, как легендарный раввин, где же истина, а умел он только горевать и плакать по-простецки: «Я-то еще обиделся, когда она попросила переменить книги!..» Он целовал половицы, по которым ходила Таня. Он вспоминал ее растерянную улыбку: «Что же мне остается?» Он хоронил живую любовь, невольно повторяя движения и слова своих предков; так хоронят евреи в Гомеле, завывая, причитая, раскачиваясь, не веря ни в радость прожитой жизни, ни в грядущее воскресение. Уж светло было, когда он забылся, прижимая к губам оброненный следователем листок: «Грубым дается радость...» О какой радости говорите вы, сумасшедшие люди? Нет никакой радости — только пустая комната, учебник, губная помада, раскрытая дверь, а перед ней горбун,— на часах у ненайденной истины и у потерянного счастья.
Но и грубым не всегда дается радость: уж на что огрубел в жизненных передрягах Прахов, ему было не до радости. Листы бумаги он разложил для отвода глаз. Какая тут работа! Что же он делал всю ночь напролет? Здесь придется употребить слово, вышедшее из моды, ничего не поделаешь — только оно определит состояние журналиста: Прахов трепетал. Это не было страхом. В чем угодно, но в трусости упрекнуть его нельзя. Спросите аткарцев — они вам расскажут и как Прахов отстреливался, окруженный бандой повстанцев, и как с небольшим отрядом прикрывал эвакуацию, и как лез в огонь напропалую. Да и чего ему было бояться? К исчезновению соседки он не имел никакого отношения. Совесть его была чиста. Если и наложила она на себя руки, то при чем тут он? Был он с нею мил, обходителен, даже на подарок разорился. Это, граждане, просто эпидемия самоубийств, волна упадничества, захлестнувшая часть нашей молодежи: романсы, гитары — словом, «есенинщина»... (Так Прахов в мыслях нагонял бескорыстно строки.) Но не помогало это. Вторая ночь оказалась еще страшнее первой. Глупая выходка Юзика не давала ему покоя. Почему он назвал Прахова убийцей? Разве так убивают? Убивают пулей, ну, может быть, жестокостью, изуверством, травлей. Но ни с одной женщиной Прахов не говорил так задушевно, так ласково, как с Таней. Кто смеет всовывать в его руку вместо хорошенького колечка револьвер? Горбуна не мешало бы посадить в сумасшедший дом. Нужно взять себя в руки. Конечно, жаль Таню. Хорошая была девушка. Встреть он ее раньше, в Аткарске, может быть, все было бы иначе. Ведь женятся люди, живут, кажется, счастливо. Теперь поздно. Слабые погибают. Прахов жив,— значит, он должен работать, выигрывать червонцы, писать. Он принудил себя взять в руки перо, долго и яростно тыкал он его в чернильницу. Но вместо статьи выходили глупые черточки, несвязные слова: «ювелир Гуревич», «эпидемия самоубийств», «при чем тут я?..». С опаской он поглядывал на дверь. Он знал, что Юзик рядом. Он ненавидел его. Этот горбун отнял у Прахова спокойствие. Что за наваждение? Неужели стоит человеку назвать тебя убийцей, и впрямь ты им становишься? Вздор! Наконец, горбуна можно уничтожить. Его легко раздавить, как огромное насекомое. Вот сейчас выйти, накинуть пальто, чтобы не верещал, и придушить. Тогда все будет кончено. Прахов перестанет быть убийцей. Он сможет снова жить, работать, играть в казино, ездить к секретарше.
Прахов приоткрыл дверь. Юзик сидел в коридоре, уронив на колени свою взъерошенную голову. Не видит... Ну, Прахов, решайся!.. Но тогда, вглядевшись в лицо горбуна, он увидел ребячливую, попросту говоря, глупенькую улыбку: Юзик задремал. Кто знает, что ему снилось: может быть, Таня, обмененные книги из библиотеки, радость не бог весть какая, от которой сердце горбуна во сне разрывалось на части... Улыбка эта потрясла Прахова. Опустились руки. Он начал тихо говорить:
— Юзик, почему же я?.. Это не я... Скажите мне, что это не я... Я ведь от всего сердца... Там на «Крыше»... колечко... Еще в стихах — «до грубых шуток»...
Но Юзик не слыхал этих слов. Он только раскрыл глаза и взглянул на Прахова. Был этот взгляд далеким, ничего, кроме недоумения, не выражающим, взглядом человека, еще полного сновидений. Суеверный страх охватил Прахова. Он бросился прочь — на улицу, дальше от этих пустых глаз и распахнутой двери. Он бежал, а в голове, как кровь, стучало: «Я! я! я!»
12. «ЯВИЛ ТАКУЮ МИЛОСТЬ»
Сахаровым мало занимались в тот день, а не мешало бы им заняться. Как-никак он был связан с Таней первым ее большим горем. Неловко же говорить о разных там Лойтерах, когда неизвестно, что происходит в сердце героя! Ах, если бы вовсе не говорить об этом сердце! Если б можно было обойти его, как обходят прохожие зловонные развалины на углу Панфиловского переулка. Но что делать — мы не выбираем жизнь по себе. Залез я в этот Проточный, и брезгать здесь не приходится. Сахарова со счетов не скинешь. Но как же мне не пожаловаться?.. Всем нам в жизни приходится встречаться с такими жалкими людишками, разговаривать о том и о сем, часто и зависеть от них, однако, смотрю я, другие придут к себе домой, вымоют руки, раскроют какое-нибудь увлекательное повествование, и не помнят больше об этих паскудных встречах, умеют стряхивать с себя жалкие воспоминания, как дорожную пыль. А я никак не могу избавиться от Назойливой памяти. Даже в тишине моей комнаты они мне досаждают, все эти Панкратовы и Сахаровы, требуют понимания, чуть ли не участия. Черт бы вас взял, унылые видения моих ночей! Доколе мне суждено жить с вами? Вот встретилась Таня, только успел я ей улыбнуться, вспомнить для нее Хорошие слова, пусть и старомодные, не ко двору, но чистые, благородные слова, как уже нет Тани. К абрикосовому домику подходят жизнерадостные усики. Что же мне остается? Как Юзик, я глупо бормочу возле раскрытой двери: «Она вернется...»
О загадочном исчезновении Тани Сахаров узнал позже всех: его не было в Проточном — он продавал колечко, мало давали, жулики! На лестнице его остановила Поленька, неживая от страха.
— Что-то теперь будет, Иван Игнатьевич?..
— Что будет? Ничего не будет! Шиш с маслом. Надоела ты мне до смерти!
— Да я не о себе, Иван Игнатьевич. Разве вы не слыхали? Ваша-то милаша пропала.
Сахаров ответил равнодушно:
— Вот что!..
Мысли его были заняты другим: как бы помириться с Натальей Генриховной? Видно, без нее этих двадцати червонцев не выколотишь. Таня пропала? Ну и шут с ней! Все равно после последнего объяснения Сахаров о ней и не думал: дрянная девчонка, развратная, наглая.
— И потом, что значит «пропала»? Нашла, верно, какого-нибудь гуся и закатилась с ним...
Хладнокровие его не передавалось Поленьке. Ее по-прежнему знобило. Показывая рукой наверх, еле-еле она пролепетала:
— А не она ли это, Иван Игнатьевич?..
Сахарова всего передернуло. Дурак! Как он раньше не подумал? Вот так переплет! Что, если вправду она? Ведь это значит скандал, тюрьма, конец всему. На Поленьку он только прикрикнул:
— Ты что болтаешь? Совсем обалдела, идиотка!
Но в комнату Натальи Генриховны Сахаров вошел запинаясь, он принудил себя войти, поджилки тряслись, как будто лежал там труп зарезанной Тани. Увидав спокойную улыбку жены, он совсем растерялся: что это все значит? Сидит и шьет. Ведь за ней могут сейчас прийти. Нет, не она это! Просто Поленька мелет вздор. И как он поверил?! Понемногу Сахаров успокаивался, он уже закурил папиросу и начал прикидывать, как бы заговорить о двадцати червонцах, но вдруг Наталья Генриховна, до этого не проронившая ни одного слова, кинулась к нему, обняла его и разразилась буйным истерическим смехом.
Сахаров ее оттолкнул. Он забился в угол. Никогда прежде не видел он Наталью Генриховну такой возбужденной.
— Ванечка, заживем мы теперь с тобой!.. Милый мой!..
И, думая подкупить его, как избалованного ребенка:
— Знаешь, я сегодня получила с двух заказчиц, так что теперь выкупим твой костюм. Пофрантишь ты у меня, Ванечка!
Еще четверть часа тому назад эти слова сделали бы Сахарова счастливым. Но сейчас он даже не обрадовался каштановому костюму. Каждое слово Натальи Генриховны подтверждало правильность догадок Поленьки. С чего это она смеется? С чего, скажите, радуется? С чего раскошелилась? Нечисто здесь! Пронюхала, что он вчера утром заходил к Тане, и сдержала слово. Могла заманить куда-нибудь и — колуном. Или в Москву-реку кинуть. Как та, в Ленинграде... Конечно, она! Но тогда сейчас — конец. Раз дура Поленька догадалась, значит, все знают. Припутают и его. Объясняй потом. Вот уже, кажется, стучат внизу...
Сахаров, ни слова не говоря, выбежал из дому. Опасливо оглядел он переулок. Как будто никого... Бежать! Но тотчас он сдержал себя: увидят! Нужно принять беспечный вид, как будто он прогуливается. Улыбаясь, даже насвистывая «Кирпичики», он медленно пошел к Смоленскому. Мысли его мчались взапуски, трусливые, ерундовские мысли. Вчера ее прикончила. Где он был вчера? На службе, потом в «Мосэкусте». Потом? Потом в «Кино-Арсе». Это легко установить. Да, но с пяти до семи — пропуск. Просто он шлялся по бульварам. Вдруг Таня исчезла именно в это время? Тогда у него нет никаких доказательств невиновности. Правда, можно ответить: она — из ревности! Я, наоборот, пострадавший, я — жертва, я так любил покойницу! Я... И вдруг Сахаров вспомнил: кольцо! Страшная улика у него в кармане. Как странно, что его еще не схватили. Схватят сейчас...
Он стоял на углу Смоленского. Он больше не напевал, не улыбался, он готов был упасть на мостовую и завизжать: «Все равно, вяжите скорей, только не пытайте!..» Через минуту он, однако, собрался с мыслями. Выкинуть. Но как? Вдруг заметят? Кто знает — вдруг у какого-нибудь из раскрытых окошек стоит человек и наблюдает? Мало ли шалопаев? Крикнет: «Гражданин, обронили...» Или, еще хуже, выбежит, подберет, доставит в милицию.
На углу Проточного, прислонившись к забору, спал старенький нищий. Рядом с ним лежал картуз — для подаяния,— разумеется, пустой: кто же ночью кинет копеечку, да еще если спит нищий, не напоминая торопливым пешеходам: «Явите такую милость»? Опустить в картуз. Старик дрыхнет. А со стороны — кладет самым милосердным образом копеечку. И Сахаров решился. Новые судьбы открывались перед колечком «гранфасон».
Разделавшись с опасной уликой, Сахаров несколько воспрянул духом, он вытер мокрый лоб, облизал усики, усмехнулся: спит, старина, какое же предстоит ему сказочное пробуждение! Вот что значит — «явить такую»...
13. «ДУШЕГУБКА»
После беседы с Юзиком («морфий») следователь считал наиболее вероятной версией самоубийство. Однако Лойтеры упомянули о баронессе, и он счел долгом вызвать Сахаровых. Первой допросили Наталью Генриховну. Отвечала она подробно и вразумительно: да, ревновала, грозилась: «убью» — это верно. Какая же женщина не говорит такого в сердцах? Может быть, и вправду убила бы — не знает. Но судьба смилостивилась. Болтают пустое. После той встречи на улице Наталья Генриховна больше с ней не встречалась. В ночь, когда исчезла девушка, она работала до двух вместе с Поленькой — были срочные заказы,— потом легла спать. Голос Натальи Генриховны звучал искренне, некоторое волнение легко объяснялось как обстановкой, так и тяжестью посвящать постороннего не только в свою семейную жизнь, но и в тайные чувства. Особенно подействовали на следователя слова: «Могла бы убить», произнесенные с жаром и с горечью испепеленного сердца. Он сострадательно промычал: «Это, собственно говоря, к делу не относится...»
Пока допрашивали Наталью Генриховну, Сахаров переживал в мрачной прихожей неподдельные муки. Он вел себя, как вор-новичок, пойманный с поличным: обдумывал план защиты, даже помышлял о бегстве. Хорошо, что хоть от кольца избавился! Следователю Сахаров первым долгом заявил:
— Я здесь ни при чем. Я — жертва. Если и сделала жена такую пакость, то зачем же меня пытать? Я, наконец, могу развестись с ней.
Следователь насторожился, но никаких данных Сахаров ему не сообщил. Все же, если еще раза три вызывали и Наталью Генриховну, и Поленьку, и Юзика, если несколько раздобрело тощее «дело о пропаже Евдокимовой», то это его, Сахарова, вина. В словах его ясно чувствовалось, что он не сомневается в виновности своей жены. Говорил он не в злобе, напротив, с Натальей Генриховной он теперь помирился и щеголял наконец-то в знаменитом каштановом, нет, просто хотел себя застраховать.
Допросы ни к чему не привели. Прошло три недели. Пыль начала оседать на папку с «делом», да и на воспоминания о Тане. Другие события волновали Проточный — хотя бы кража у Сидурчика,— выкрали у человека среди бела дня новую «тройку» и часы. О баронессе вспоминали редко, но с гордостью: «Бой-баба, выкрутилась». Так думал и Сахаров: «Вот ведьма, все ей с рук сходит!» По-прежнему он был уверен, что исчезновение Тани на ее совести. Как же чисто она все обставила! Иногда разбирало его любопытство: куда она припрятала Таню? Закопала? Утопила? Заговорить с Натальей Генриховной о происшедшем он не решался. Он боялся, что она откроется, тогда поневоле Сахаров станет соучастником. Ведь кто знает — могут еще донюхаться, труп выудят или выползет откуда-нибудь запоздалый очевидец. Вернее всего молчать, не спрашивать, не знать.
Страх переменил весь склад жизни Сахарова. Куда делась его верткость?! Может, года это, обленился он, но вот место Тани так и осталось незанятым. Правда, прошмыгивал он время от времени в комнатушку Поленьки, но по привычке это, да и близко — почему бы не зайти? Стал он чуть ли не домоседом. Попьет вечером чаю и, вместо того чтобы нестись куда-нибудь в «Эрмитаж» или просто на Тверской бульвар, сядет у окошка, глядит, как чешутся собаки Проточного, как жмут местные хваты заказчиц баронессы, как помаленьку идет жизнь. Иногда вспоминал прошлое и вытаскивал балалайку, осыпая переулочек кудреватыми жалобами: «Погиб я, мальчишка...»
Казалось, не нарадоваться Наталье Генриховне: уничтожена соперница, отвоеван Ванечка, поглядеть со стороны — семья семьей, чем не Панкратовы? Но еще угрюмей стало ее лицо. Молчала и она, молчала оскорбленно, через силу, прикусывая губы, от напряжения ломая пальцы. Радость, так напугавшая Сахарова, быстро прошла, да и была эта радость от недодуманности, от той детскости, которая остается в нас, кажется, до самого гроба. Кругом тогда только и говорили что об убийстве, пальцем тыкали — «она!». А Наталья Генриховна, услышав шепот Поленьки: «Пропала»,— решила: чудо, волшебная палочка, было горе и сплыло. Кажется, она одна не видала ни крови, ни смерти. Сдавалось ей — поняла та чужая женщина слезы Натальи Генриховны, устыдилась, отступила. Может, и не злая она, так только, ветреница. Молодая, вся жизнь у нее впереди, найдет другое, не краденое счастье, а ведь Наталье Генриховне никуда уже не «пропасть», никуда не уйти от Ванечки, от Проточного. Да, в первый день Наталья Генриховна радовалась, она взволнованно встретила Сахарова, как возвращенного ей судьбой, пыталась сказать ему о своем умилении. Когда же увидала его перепуганные глазки, все в ней оборвалось. Начался искус невыносимого подчас молчания, и уж ничто не могло теперь ее обрадовать — ни конец ревности, колючей и неотвязной, как чахотка, ни улыбочки мужа. Лучше бы шел к той, чем так!..
Наконец Наталья Генриховна не выдержала, попробовала объясниться. Сдерживая себя, она тихо спросила:
— Ваня, ты что — о ней все думаешь?
Сахаров насторожился. У него хотят выкрасть спокойствие!
— Вот еще!.. Мало, что ли, девочек на свете?.. Она, говоря откровенно, страшная дрянь была. С кем только не путалась! Ну, да это дело прошлое. Я о ней и говорить не хочу. Гляди-ка, Панкратов индюшку тащит. Должно быть, к именинам.
— Нет, Ваня, ты мне одно скажи... Ты на меня думаешь?..
Здесь Сахаров вскочил, завизжал:
— Молчи! Слушать не хочу! Я тебе не судья! Но никаких объяснений. Скажешь слово — разведусь.
Не дожидаясь, что ответит Наталья Генриховна, он выбежал из комнаты. Весь вечер пропадал он — с горя дул пиво. А вернувшись под утро, опасливо взглянул на жену, как и в первый вечер, готовый сейчас же дать тягу. Но Наталья Генриховна не продолжала трагического объяснения. Чуть усмехнувшись, сказала она:
— Ты был прав, завтра именины Петра Алексеевича.
Уж больше она не сомневалась: муж считает ее убийцей. Он боится ее. Все произошло, как она сказала: «Убью, но тебя не отдам». Той нет больше, Ваня с ней. Что неповинна она — это случайность, и Сахаров в случайность не верит. Ведь она сказала следователю: «Могла бы убить...» В чем же дело? Почему невыносимы ей подозрения мужа? Почему лучше ревность, обиды, «мамахен», одиночество, нежели это семейное счастье, оплаченное даже не кровью, только мыслью о крови, выдуманным преступлением? На эти вопросы Наталья Генриховна не могла ответить. Она сама себя не понимала. С удивлением и отчаянием она чувствовала, что и Ваня для нее теперь не Ваня.
Тогда она кидалась к сыну. Но Петька вовсе отбился от рук. Где он только пропадает весь день? С матерью он разговаривать не хочет, даже «Бубика» теперь от него не добьешься. Пробовала Наталья Генриховна наказывать его, запирала в чуланчик, драла за уши, но тогда он рычал, как зверек, глазенки становились злыми и дикими, раз он укусил руку Натальи Генриховны. А отпустишь — только пятки мелькают. Видимо, завелись у него друзья, может быть, это они науськивали его на мать. «Нет у меня больше сына. Петька меня ненавидит...» А дочка? Дочки не будет, хоть и сидит Сахаров дома, хоть лирически тренькает на балалайке: залегла между ними тень Тани.
Был июньский вечер, душный, тошнотный, люди обижались — хоть бы чуть посвежело, никаким квасом не остудишь распаленного нутра, пыль, вонь; счастливцы, те на дачах, а вот извольте, помайтесь-ка такой вечерок здесь, в Проточном. Дома сидеть — не высидишь: духовка, а на улице тоже не легче. Полураздетые все, кто в капоте, кто в одних портках, идут, томно пошатываясь, выругаться как следует и то нет сил — так только, отплевываются. Ну, разумеется, разжива всем, кто с «прохладительным». Чем только не торгуют — и фисташковым мороженым на гривенник, и ананасовой водой, и хлебным квасом, и клюквенным, и какой-то там «фиалкой», и черт знает чем.
Сахаров хандрил у окошка. Выйти, что ли, погулять? Лень одолела. Поленька? Скучно. Уж очень рот у нее страшный: кажется, вот-вот проглотит. Тогда-то попалась ему на глаза Наталья Генриховна, именно «попалась на глаза», потому что давно он перестал замечать ее присутствие. Ну чем не баба?.. Эта мысль рассмешила Сахарова. Он игриво потянулся, встал и обнял жену, обнял бесстыдно, вкрадчиво, как отпетый ловелас. Сначала Наталье Генриховне показалось, что он над ней насмехается. Но Сахарову затея понравилась, он перемежал сальные шуточки комплиментами, как будто не жена это, а барышня, которую надлежит заговорить. Наталья Генриховна отвыкла от всего этого, она теряла дыхание, не могла выговорить слова. Но когда Сахаров, среди прочих ласкательных — и «кисонька» здесь была, и «солнышко» — дунул ей в ухо: «Тусенька»,— она оттолкнула его и строго сказала:
— Не я это. Слышишь — не я... Отвечай — веришь?
Как Сахаров сразу не задал стрекача? Был он, видимо, чересчур увлечен придуманной игрой. На вопрос Натальи Генриховны он и не думал отвечать, он только ловил руками ее плечи: «Стой...» Но она не давалась. Отбежав в угол, так что между ней и Сахаровым оказался стол, она еще раз спросила:
— Не веришь? Если на меня думаешь — я тебе больше не жена...
Сахаров, возбужденный, осовелый, с трудом соображал, о чем это она говорит. Ах, вот как!.. Он с ней по-хорошему, а она воспользовалась минутой, чтобы прикрутить его! В ярости он хотел ударить жену, но зацепился за край стола и упал. Он барахтался на полу, как жук. Хоть и неосторожно это было, он завизжал:
— Ух ты!.. И чего ты кривляешься? Просто скажи — заколола или в реку кинула?
Но тотчас же спохватился: «Что я говорю?» Поспешно встал, оправился, хлопнул дверью.
Наталья Генриховна осталась одна. По-прежнему она стояла в углу, сложив на груди руки. Долго она так стояла; уж Сахаров добежал до Арбата, лил в себя теплое, кислое пиво, проклиная свою падкость на баб, а Наталья Генриховна все еще не могла собраться с мыслями — окаменела. Не от обид: давно к ним привыкла. Нет, она почувствовала сейчас, что мертво ее сердце, нет в нем больше любви к мужу, которая одна поддерживала ее эти годы, пусто стало, ненужно жить. Вот он обнимал ее, а ей было от этого стыдно и гадко. Как же он может, если думает, что она убила?.. Ведь будь так, нельзя шить шляпки, тогда — муки, огонь, может быть, тюрьма, может быть, жестокое счастье — взяла на себя, но только не шуточки: «кисонька»...
Она подошла к окну: грязные тротуары, грязные люди, грязная жизнь. От жары у нее пошла кровь из носа. Увидев на платье красное пятнышко, она задрожала, как будто поднялась с мостовой Проточного кровь и затопила ее. Здесь же она подумала: «Хорошо, что он ушел!» Да, впервые она обрадовалась, что Сахарова нет с ней рядом. «Чужой он мне! Темный! Страшный! Вот как эти, под окнами... Надо приложить к носу мокрое полотенце. Они все думают, что я убила. Хотят меня потопить в крови. Зачем я забралась в этот проклятый переулок? Он посмел назвать меня «Тусенькой»! Он помнит, наверное, лестницу на Мойке. Но разве понимает он, о чем мечтала та девушка, которую звал он тогда вслед за другими «Тусей»? Почему в романах жизнь другая, другие страдания — высокая любовь, каторга, монастырь, баррикады, жертвы, подвиги, а Тусе, хоть было у нее горячее сердце, дали только жиденькие усики и шляпы «комильфо»? Ответьте, вы, с фисташковым!.. А впрочем, все равно — не только романы прочитаны — прожита жизнь. Поздно начинать ее сызнова. У окна стоит старая, одинокая женщина. Жарко! Парит! Лето-то сухое — давно дождя не было. Ну, все равно... Пора спать. Завтра — шляпы. А сердце? Сердце — насмарку!..»
И вдруг она вспомнила — Петька! Скорей прижать его к себе, увидеть, что он жив, услышать это слово «мама». Мальчик крепко спал. Наталья Генриховна разбудила его. Как безумная, она покрывала поцелуями его руки. Она шептала: «Петенька, не гони ты меня! Один ты у меня остался!..» Спросонья Петька брыкался и плакал, а проснувшись как следует, сердито сказал:
— Уходи!
— Петенька! Пожалей меня! Мы с тобой уедем отсюда...
— Не хочу с тобой. Не люблю тебя.
— Что ты, Петенька?.. Ведь я твоя мама...
— Не мама ты. Ты...
Петька запнулся, видимо, забыл кем-то сказанное слово, морщась, все хотел его припомнить. Как приговора ждала этого слова Наталья Генриховна; рукой прикрыла лицо, горели щеки, слышно было, как тяжело она дышит.
— Да, ты не мама. Я знаю, кто ты. Ты — душегубка!
И, выговорив это непонятное, страшное слово, Петька горько расплакался. Наталья Генриховна не плакала, она глядела перед собой мертвыми, невидящими глазами. Впервые как бы разверзся под ней пол, и увидела она детские личики, раскрытые жадно рты, задыхание, судорогу, смерть. Да, она убийца! Прав Петька, прав Сахаров, все правы. Она в крови. Отойдите от нее! Вот те тянутся, растут, хватают...
В беспамятстве свалилась она на пол.
14. ДАЕТСЯ ИЛИ ЗАВОЕВЫВАЕТСЯ?
Успокоился кое-как Прахов. Больше он не кричал по ночам, не помышлял об уничтожении Юзика. Соседи помирились, подружились. Юзик видел, что Прахову скверно, колечко «гранфасон» не сошло ему с рук. Он сумел простить этого никчемного человека, который разбил сдуру чужую жизнь — так вот чашку разбивают. Никогда не заговаривали они о прошлом, а так как горбуну нужно было с кем-нибудь нянчиться, он теперь нянчился с Праховым: отвлекал от черных мыслей своим комичным философствованием, играл различные «кусочки», поил чаем. Кто знает, на что человек способен? Если уж раскрыта дверь, кто поручится, что и этот не уйдет?..
Жилось туго обоим: Юзика выставили из «Электры», приходилось теперь играть за рубль-другой на дачах. Прахов тоже почти ничего не зарабатывал. Посудив, они продали за десять червонцев комнату Прахова, тот переехал к горбуну.
Пробовал было Прахов наладить жизнь. Видали его в редакциях, заглянул он как-то в «кружок». Но делал он это нехотя, по привычке. Прошел страх, прошло и раскаяние, едкие, однако, эти чувства, они вытравили из сердца Прахова вкус к жизни.
Какой же это Прахов, если он не рыщет весь день, где бы перехватить червонец, если не смотрит завидущими глазами на щеголей с Петровки, если ему не нужны ни актрисы «Студии», ни почет? Да, это уж не Прахов, нельзя его показывать провинциалам, утеряна одна из достопримечательностей Москвы. Завсегдатаи «кружка», увидав его, нахмурились: болен? или дурака валяет? Некоторые даже перестали раскланиваться. То, что Прахов начал походить на обыкновенного человека, оскорбляло всех: живописно уродство, скучно без него.
Впрочем, Прахов не обращал никакого внимания на шушуканья. Все реже и реже заходил он в редакции. Правда, завалил он комнатушку Юзика замаранными листами, но проку от этого не было. Как возврат болезни, проснулась в нем юношеская страсть к стихотворству. Писал он мучительно, не доверяя ни своим чувствам, ни словам, стихи получались тяжелые, угрюмые, без мелодии, без радости, немые стихи. Сам он чувствовал, что пишет плохо, хуже, чем в Аткарске, не дописав стихотворения, начинал другое. Никому он написанного не показывал, но когда становилось невмоготу, начинал читать свои стихи Юзику. Тот слушал насупившись: не понимал он ни этих слов, ни звуков. Чтобы утешить Прахова, Юзик все же говорил:
— Вы хорошо пишете. Боря. Это куда лучше ваших статеек. Я, конечно, ничего не понимаю, но это моя вина. Если бы вы прочли ваши стихи преподавателю латыни, он, наверное, понял бы. Пишите всегда стихи. Вот я получу место в кино, и мы заживем припеваючи. Только не пишите ваших «ста строк». Лучше, чтобы никто не понимал вас, чем чтобы понимал какой-нибудь Сахаров...
Зачем писал Прахов? Скорей всего, чтобы не думать. Рифмы заменяли водку, когда водки не было. Он пил теперь много, жестоко, запоем. О Тане Прахов вспоминал редко, боялся вспоминать, а чувствуя, что подступает — по внезапной грусти, по равнодушию к окружающему, по холодку в пальцах и нервной зевоте,— добывал рубль и напивался до бесчувствия.
Не кровь, не глупая уголовщина, не раскаянье мучили его, а сожаленье. Он видел младенческую, слабую, им же задушенную любовь. Он повторял слова Тани: «Что это? Грубая шутка?..» Как он тогда не понял? Как не понял, что и вся ночь, и мысли о Тане, и сквернота усмешек, и «Крыша», и колечко были только «грубой шуткой», потому что он любил ее, да, да, любил!..
А надеяться не на что. Месяц прошел. Умерла. Он уговаривал себя: «Слышишь, умерла...» Но это не помогало. Сначала с недоверием, потом со страхом, он наблюдал за ростом в сердце посмертной любви. Нелепое чувство, смешное вдовство! Вот она жила рядом, он преспокойно ездил к секретарше, волочился между прочим за Таней, закидывал удочку — еще одна, получил, обнимал, здесь же жевал севрюжку, наслаждаясь про себя — «шик какой», считал кредитки, балагурил, ценил ее в восемь червонцев — столько-то строк, и все тут. Ушел, завалился спать. А теперь, когда ее нет, ни синих глаз, ни вздернутого носика, ни взволнованного голоса, когда все это разлагается где-то на дне скверной речушки, он только и говорит о ней, для нее пишет бездарные стихи, бродит по жалким воспоминаниям одной коротенькой ночи, как по развалинам дивного города, что ни час, заново влюбляется в тень, в имя, в ничто.
В тот вечер, когда произошло решительное объяснение между Сахаровыми, а может, и не в тот — весь месяц стояла жаркая погода,— в вечер душный и нудный Прахов шел домой пьяный, мрачный. По дороге зашел он в лавку, купил еще бутылочку — боялся ночи, чувствовал, не уйти от Тани. Бред какой-то, вдруг кажется ему, что девушка жива, сейчас, за углом увидит ее. Что же здесь остается, как не тянуть горькую?..
Дома Прахов застал непрошеного гостя: сидел у него какой-то старикашка и читал. Это был Освальд Сигизмундович. После памятной ночи он водился с Юзиком, вместе они философствовали на бульварах, иногда и сюда заходил старик, хоть ворчали Лойтеры: «Юзик жулье к дому приучает». Прахов столкнулся с ним впервые.
— Вы, собственно говоря, гражданин, что здесь делаете?
— Вашего сожителя ожидаю. Его вызвали на экстренную работу. Если стесняю вас, могу удалиться.
Прахов угрюмо буркнул:
— Нет... чего там... Сидите... Хоть с виду вы вроде Сократа, можно и клюкнуть вместе. Кто это сказал, что Сократ водки не пил? Вы на меня с высоты не поглядывайте, пейте лучше. За здоровье всех мамаш!..
Освальд Сигизмундович церемонно поблагодарил и выпил одну рюмку.
— Благодарствую. Больше лета не позволяют.
— Что лета? Вздор! Мне вот только тридцать, а я вдвое больше вашего пережил. Разве вы жили? Так, чаепитие одно. Я хоть и нализался сегодня, но все понимаю. У нас один год — за десять ваших. Революция — это вам не кот наплакал. Вот и ничего от вас не осталось. Как в загадке — дыра от бублика. Вы, например, чем занимаетесь? Вот что. Ну, а до катавасии? Латынь? Детей, значит, мучили? Допустим. Теперь позвольте спросить вас — в Бога не верите?
Прахов был неприятен Освальду Сигизмундовичу, но все же старик серьезно ответил:
— Нет. В красоту Олимпа. И еще в исключения.
— Так. Теперь позвольте спросить вас, что же вы делали, когда дело дошло до пулеметиков? Фалды мундира задрали? Почему вы за этот самый Олимп не вступились? Ну, а проще говоря, если «подайте копеечку», так нечего на меня свысока смотреть. Пейте и помалкивайте.
Так всегда бывало с Праховым: тяжелый хмель, хочет сорвать на ком-нибудь сердце, унизить, оскорбить. Освальд Сигизмундович был приучен к попрекам прохожих. Спокойно отсел он в сторону и вновь принялся за чтение. Это еще больше раздражало Прахова: что здесь, библиотека? Задается Сократ! Он начал его задевать:
— Читаете? Думаете — пьяный пристает, а я, мол, знаток античных красот, пренебрегаю. Так... Но вот не противно ли вам собственное ремесло? Признайтесь — противно? Могли бы вы удрать за границу. Вы чех, что ли? Там у вас все на своем месте. Вместо паршивой водки нечто благоуханное. Бенедиктинчик. Стояли бы вы на кафедре. Оно, знаете, лестно, не то что руку протягивать. Вот я вас прошу — ответьте мне искренне, как же вы можете так жить?
Освальд Сигизмундович пожал плечами, грустно улыбнулся:
— Я мог бы вам вовсе не отвечать. Прежде всего, вы пьяны. Однако не в том суть. Вы, наверное, и в трезвом виде лишены благородства. У вас уклончивые глаза. Я пришел к вашему сожителю. Вас я не знаю. Но я привык говорить с тупыми и заносчивыми детьми. Вместо ответа я прочту вам цитату из этой книги. Это не учебник латыни и не жизнеописание Сократа. Это перевод с французского. Некто аббат Дюкло описывает путешествия по Центральной Африке. Книга эта старая, подобрал я ее на Смоленском, да и по правде сказать — глупая книга. Но редко мне приходится теперь читать, поэтому каждая строка останавливает внимание. Перед тем как вы пришли, я прочел следующее:
«Области, лежащие по ту сторону этой реки, заселены племенем, которого еще не коснулось благотворное влияние нашей цивилизации. Заблуждения туземцев способны вызвать у просвещенного читателя снисходительную улыбку. Так, например, они утверждают, что человек, разоряясь, обогащается. Год падежа скота почитается у них за праздничный, и они поздравляют погорельцев, как существ, отмеченных милостью судьбы...»
Читал Освальд Сигизмундович медленно, назидательно, а кончив чтение, будто это в гимназии, спросил Прахова:
— Поняли? Тот опешил:
— Как будто... Вы что же... сектант?
— Я уже сказал вам, я — нищий, самый вульгарный нищий. А прочитанного мною вы не поняли. Пьяны или не доросли.
Здесь Прахов обиделся:
— То есть как это «не понял»? Тут и понимать нечего. Болтовня! И потом, то вы под Сократа работаете, то под Толстого. Не годится! Граф, конечно, хорошо писал. Но устарело это. Для Толстого у вас и борода мала. Я вам прямо скажу — мне противно такую белиберду слушать. Вы не сердитесь, если я вас обидел. Это не я — сорок градусов в ней. Но вот, говоря серьезно, борются люди за свое счастье, побеждают, проигрывают, а вы губами шевелите. Ведь я не злой человек — спросите Юзика, а от вашего спокойствия у меня все внутри закипает...
— И вы на меня не сердитесь,— примирительно ответил старик,— я не хотел осудить вас. Просто стар я, за вами мне не угнаться. Если это успокоит вас, я с вами выпью еще одну рюмку. А насчет счастья, увольте, не верю. Вы вот бегаете, суетитесь, а может быть, счастье у вас под ногами валяется. Иногда оно дается, но уж никогда не завоевывается.
Сам того не зная, Освальд Сигизмундович попал в точку. Ведь это он о Тане!.. Прахов подбежал к окну. Духота какая! «Валяется под ногами»!.. Из белесоватой мглы выступило лицо Тани, горестное и нежное, такой видел ее Прахов утром, когда она спросила о колечке.
Внизу барахтались обитатели Проточного. Странно дышат люди в такую жару, как рыбы, и глаза у них становятся рыбьими — маленькие, мутненькие, не жизнь — живорыбный садок. Прахов разомлел, осовел, приткнулся в углу. Жарища! И захотелось ему лирики, жалоб, участия. Он уже не нападал, а хныкал:
— Мне-то что делать? Вам хорошо, старику! А я жить должен. Кидаюсь туда-сюда. В казино играл. Выиграл — прокутил. Даже не заметил. Скучно! Мне вот одна женщина нравилась. Кривляться нечего — я, кажется, не скопец. И что же? Прозевал. Перехватил ее какой-то фрукт. Сунулся — поздно. Я с ней до стихов дошел. А она взяла и сбежала. Просто, как шоколад. Вот и пью водку. А вы мне еще о счастье говорите. Нет никакого счастья! Так только — слово в лексиконе, для детей дошкольного возраста.
— Жалко мне вас, молодой человек. Спорить с вами я не стану. Знаете, что такое притча? Так вот я расскажу вам поучительную притчу. Ночь. На улице сидит бездомный старик. Никто не дал ему даже пятака на хлеб. Он голоден и очень печален. Он готов усомниться в человеческом сердце. Он засыпает, и ему снятся нехорошие сны: попреки, облава, тюрьма, одиночество, грубая, торопливая смерть. И вот мимо него проходит молоденькая женщина. Она останавливается. Нищий спит. Состраданье, большое, как звездное небо, в ее глазах. Она смотрит в сумочку — у нее нет ничего. Женщина эта тоже бедна. Тогда она снимает с руки кольцо. Может быть, это память о ее покойной матери или подарок возлюбленного. Тихо кладет она кольцо в шапку нищего и тихо, боясь потревожить его сон, уходит. Никогда старик не узнает ни ее имени, ни черт ее лица. Он просыпается, он находит перед собой нечаянное богатство. Он голоден. Он может продать этот перстень и купить на него много хлеба. Но он не хочет расстаться с никчемной безделушкой. Он глядит на нее. Он больше не чувствует ни голода, ни старости, ни одиночества. Он знает, что не ошибался, когда верил в человеческое сердце. Вот, молодой человек, что случается с жалким нищим в темном переулке. От вас ушла любимая девушка. Вы не смогли завоевать счастье. Вы кричите, и вы клянете мир. Кто знает, быть может, это она дала старику последнюю его радость?..
Прахов усмехнулся:
— Совсем под Толстого работаете, а я думал — Сократ. Малиновый сироп! Только где вы видали таких сердобольных барышень и бескорыстных нищих?
Освальд Сигизмундович ничего не ответил. После едва заметного колебания он вынул из кармана маленькое колечко и показал его Прахову. Разыгралась немая сцена, полная неожиданного для обоих трагизма. Мог ли не узнать Прахов злополучного подношения? Он замер — перед ним стояла Таня: «Что это?..» Ему показывали страшную улику. Он крепко сжал руку старика, боясь, что тот попытается убежать.
— Ах, вот что!.. Обчистил ее!.. Убил!.. Отвечай, убил?
Спокойно глядел Освальд Сигизмундович на Прахова серыми печальными глазами, глядел и молчал. А Прахов ждал. Несмотря на ярость, он почувствовал вдруг освобождение. Мысль о том, что Таню убил какой-то нищий, была ему приятной. Это снимало вину с него. Это и уничтожало надежды: «А вдруг жива?» Это закрывало тревожную историю всего месяца.
— Ну?.. Убийца!
Тогда Освальд Сигизмундович резко встал, высвободил свою руку и высокомерно проговорил:
— Я не хочу с вами разговаривать. Вы можете позвать милицию, арестовать меня, вы можете меня убить на месте, но разговаривать с вами я не стану. Человек, способный на столь подлое подозрение, низок и недостоин человеческой речи. Я не ошибся, увидев ваши глаза. Такие глаза бывают только у преступников.
Прахов сидел согнувшись. Когда старик упомянул о его глазах, он инстинктивно закрыл глаза ладонью. Обладал ли голос Освальда Сигизмундовича непонятной силой над этим человеком, или он услышал вновь другой голос, своей совести? Не знаю. Только сидел он молча, не двигаясь, понурый, тусклый, ничтожный. А Освальд Сигизмундович ждал:
— Что же вы не зовете милицию?
Тогда Прахов осмелился взглянуть на старика. Он почувствовал острый стыд. До чего нелепо обвинение! Зачем бы убийца стал хранить кольцо, да еще показывать его чуть ли не первому встречному? То, что он называл «притчей»,— правда. Таня ушла из дома ночью, она решила покончить с собой, И последнее, что она сделала,— это вот нечаянный подарок спавшему нищему. Прощальная улыбка... Робко, заплетающимся голосом Прахов проговорил:
— Это вам Таня дала... Перед смертью... Я ее убил!..
Освальд Сигизмундович не позвал милицейского. Он не схватил Прахова. Он даже не отвернулся с вполне естественной брезгливостью. Нет, проведя рукой по своим слегка замутневшим глазам, он сказал:
— За всю мою жизнь только один раз, увидев в картузе это кольцо, я узнал, что значит женская нежность. Но возьмите его. Вы помните лицо этой девушки и руку, на которой был перстень. Вам остается еще долго жить, а мои дни сочтены. Вам эта память нужнее...
И, вложив в руку Прахова колечко, Освальд Сигизмундович вышел из комнаты.
15. НОЧЬЮ У МОСКВЫ РЕКИ
Горбат Проточный переулок. Наверху Смоленский, ларьки, чайные, воркотня папиросников, милицейские — жизнь наверху, а внизу Москва-река, значит, свежесть, отдых, спокойствие. Конечно, река у нас не бог весть какая, приезжие посмеиваются: «Море, берега не видать»,— и действительно, летом скудеет речонка, кажется, что ребята, засучив штанишки, добегут вброд до Дорогомилова, не пышное это зрелище. Однако, для Проточного здесь и красота, и умиление, и по-модному — «гигиена». На «гигиене» все помешались: живут кучей, некоторые не меняют рубахи от Рождества до Пасхи, так что рубаха копошится, а гигиену уважают. Даже закусочная, где в котле угрюмо ворочаются рубцы или щи, где тянут из чайников горькую, а дерутся до крови, но тихо, даже эта обжорка гордо именуется «Закусочная «Гигиена».
В воскресенье Проточный катится вниз к речке. Делопроизводитель принимает солнечные ванны, стараясь загореть всюду, даже под мышкой, а Панкратов, перекрестясь, степенно влезает в воду, окунается, фыркает, сплевывает, чешет спину; долго стоит он в воде, багровый, массивный, блистающий, как медный монумент. Вокруг пескарями вьются персюки, гражданка Лойтер кормит не то Осеньку, не то Илика крутыми яйцами, жулье, распустившись веером, картежничает, передергивает, бранится, но, защекоченное нежным ветерком, умолкает. Благодать! Сядешь здесь и задумаешься: над чем, дорогие друзья, вы смеетесь? Чем хуже эта мирная картина всяких Гурзуфов? Конечно, ни роз, ни магнолий здесь нет, если и цвел в церковном дворике курослеп, давно оборвали его ребятишки, но ведь это Проточный, своя дача, своя красота; подумайте только: после «Ивановки» — река с лодочкой! Не в богатстве ландшафта суть, в чувствах... Впрочем, не додумав, лезешь в воду: соблазнительно полощутся персюки.
А в будни здесь тихо. Ругается перевозчик — ему подсунули царский гривенник: хоть красивая птица орел, не летает он больше. Ребята прибегут, пошумят, выкупаются и — назад, на Смоленский, там веселей. Дрыхнет какой-нибудь гражданин, не добравшись с именин домой. Пусто, грустно. Плохие у лодочника дела: редко кто с того берега переедет сюда, спеша на рынок, идут мостом — «копейка рубль бережет». А к ночи и последние фигуры исчезают. Жулики — народ трусливый, своих же боятся: хоть ничего на человеке нет, кроме рваных портков, а вдруг с пьяных глаз пырнут... В безлунные ночи здесь темно, как будто это не Москва, а глушь. Только страсть иногда побеждает страх — женщины приводят сюда своих клиентов и, за неимением местечка поукромней, располагаются возле глухих заборов, на самом берегу. Дело это дешевое, скорое — «гости» не задерживаются, женщины тоже: получив полтинник, спешат наверх в «Гигиену» — пропить его. Так что никто здесь ночью не любуется Москвой-рекой. А жаль, вот когда бы ею любоваться!
Чего только с нами не делает ночь! Задумчиво мерцает вода, и кажется Москва-река большущей рекой, широкой, глубокой. Таинственно маячат огни Дорогомилова, не окраина это, где пыль, пивоваренный завод, сапожники, кладбище, а неведомый город. Может быть, там шумная жизнь, веселье, свет, музыка? А здесь только вода и звезды; каждый звук здесь неожидан и трогает сердце: торопливый шаг запоздавшего пешехода напоминает — «вот так и ты, застигнут ночью, далеко от крова и от счастья»,— а занесенный ветром визг гармошки доводит до слез: как умеют люди любить, как умеют они в трущобах Проточного находить для своих чувств такие пронзительные звуки! Но сильней всего волнует тишина. Всякий раз, приходя сюда, я забывал о своих невзгодах, об ущемленном самолюбии, о близкой старости, о соседях, о том, что живу в Проточном, обо всем забывал — открывалась простая правда: хорошо жить на земле, замечательно это выдумано — и река, и огни, и то, что дышишь!
Впрочем, не о своих вдоволь избитых чувствованиях я хочу сейчас рассказать. В тот вечер меня здесь и не было. Освальд Сигизмундович, искавший спокойного ночлега, удовлетворенно подумал: сегодня никого нет. Он поглядел на далекие огни, и тогда охватил его легкий испуг: огоньки удалялись, они как бы убегали от его глаз, один пропал, другой — темень. Старик прикрыл глаза рукой: вот и зрение ослабевает, сердце пошаливает, глуховат, совсем сносился бывший преподаватель латыни. Сколько ему еще жить? Год? Два? Все равно: он свое увидел. Тяжело умирать, когда тебя манит жизнь, корда все в ней внове, как в первом акте комедии. Завязывается интрига, неизвестно, кого полюбит героиня, как сложится судьба симпатичного героя. Но вот уже пятое действие — под шарканье нетерпеливых зрителей, спешащих в гардеробную, любимец автора, резонерствующий дядюшка, договаривает последний монолог. Смолоду кажется — как это можно жить, если знаешь, что умрешь, обязательно умрешь? А приближаясь к смерти, видишь — нестрашно. Редеет жизнь — нет больше друзей, сверстников. Другие зрители смотрят другие пьесы, твоя доиграна. Безразличие охватывает: кто там кого — все равно! Освальд Сигизмундович лег, потянулся.
Но не спалось ему: переутомился, весь день провел на ногах, болела рука,— верно, погода меняется — ревматизм. Если завтра будет дождь — беда, некуда укрыться. Противная боль в плече тянет, и сердце замирает. Спать привык он на боку, подложив руку под щеку, а пришлось лечь на спину: задыхался. Сон не шел. Он лежал и глядел на звезды. Звезды не убегали, как огни за речкой, но светлели, множились, обращая весь небосвод в одно печальное сияние. «Заманивают,— равнодушно подумал Освальд Сигизмундович,— а не все ли равно, здесь или там?.. Надо попытаться уснуть на спине...»
С детьми было легче. Как смешно прыгал Журавка, когда стащил окорок. Почему здесь нет Журавки?.. И тот, маленький — «Футурум». Он, наверное, будет разбойником. Или гением Когорты. При чем тут когорты?
Никогда Освальд Сигизмундович не тяготился так одиночеством, как в эту ночь. Подвал абрикосового домика казался ему уютной квартирой: была семья, детские голоса, смех. А сейчас никого. Только сердитые толчки сердца и звезды. Он хотел было встать, чтобы добраться до Смоленского — все же там люди,— но ноги отказывались идти. Хоть бы пришел сюда милицейский. Услышать крик, брань, все равно, только живой человеческий голос! Вот еще недавно он радовался безлюдью, а теперь все, кажется, отдал бы за трусливо озирающуюся парочку, из тех, кто ходит сюда «баловаться». Но нет, спят все — и гулящие женщины, и милицейские, и дети. Только звезды пристают к старику: «Это мы, светлые, вечные, непогасимые...»
Он начал, кажется, забываться, когда вдруг всего его передернуло, сердце забилось быстро, бестолково, то и дело останавливаясь, сильнее прежнего заныла рука. Он теперь громко стонал от боли и от страха. «Неужели я умираю? Нет, просто ревматизм. Теперь бы в тепло, и руку натереть бальзамом, все прошло бы. А может быть, это и есть смерть?.. Без торжественности, без высоких мыслей: как шелудивая собака. Не хочу!» Да, оказалось, что он еще не готов, еще не хочет он. Бывают ли готовы к этому люди? Немного бы, год, ну, три месяца — до зимы! Куда-нибудь за город. Лес. С Журавкой. «Кхе-кхе! Живем...» Зачем звезды? Если лежать не двигаясь, легче. Отложите!.. Слышите?..
Мысли путались. Не было в его голове ни сознания величественности часа, ни сожаления о былом, ни стройной картины прожитой жизни. Все мешалось. Почему мундир пахнет нафталином? Вы б его, Авдотья, проветрили. Поздно, голубчик! Теперь декреты. Старье! «Князь, свиное ухо видел?» Набавляй еще рубль. Глотков Сергей, вы не приготовили урока. «Игнис» на «ис», однако же мужского рода. Исключение. Вся суть в исключениях. Стыдно, гражданин, нищенствовать! Вот на Пречистенке хорошо подают. Возле Цекубу. Смотри, Журавка, не убережешь ты его! «Футурум». Стой! Необходима система...
Напрягаясь, старался Освальд Сигизмундович думать связно. Будь здесь горбатый скрипач, он сыграл бы реквием. В его комнате живет убийца. Значит, он простил убийцу. Да, самое главное — это уметь простить. Тогда-то слышишь музыку. А молодого человека жаль. У него не злые глаза. У него несчастные глаза. Он не похож на убийцу. Он знал ту девушку. Он ведь сказал, как ее звали. Ее звали Таня.
И, вспомнив о маленьком колечке, Освальд Сигизмундович собрал все свои силы, приподнялся, взглянул на Проточный — «вот там»,— улыбнулся. Огромная радость вошла в его сердце, и усталое сердце не выдержало. Оно просто остановилось. Не было здесь ни судороги, ни крика — только тихая улыбка, смягчившая суровость старческих черт, легкая, едва приметная улыбка. Никто этого не видел, кроме разве бесчувственных звезд. Спал Проточный, спали злодеи и дети, спала человеческая мелкота, и не догадывались люди, что покрыт теперь подлый переулок прекраснейшей улыбкой бывшего преподавателя Первой классической гимназии, старого нищего, «дедушки» беспризорных, Освальда Сигизмундовича Яншека.
16. ВАРЕНЬЕ НА СЛАВУ
Панкратова варила клубничное варенье. Жаль, не было при этом поэта: вот что воспеть бы — стародавнюю неторопливую работу хромой, но преуспевающей хозяйки, аромат ягод и жженого сахара, светло-алую окраску пенок, подобную фантастическому закату на далеком взморье. Браво, Панкратова! Не забыла ты высокого уменья сохранить цельной ягоду, чтобы она плавала в прозрачном сиропе, как звезды в небесах, не забыла его среди прочих житейских дел, среди засовывания кой-куда брошек перед обыском, среди раздобывания пшена на вокзалах (было и такое время), среди законопачивания похитителей окорока; да и тазик уцелел, не перелили его ни в пушку, ни в патриарший колокол, нет, остался тазик, осталась Панкратова, осталась даже вся премудрая иерархия: помельче — просто для повседневного употребления, а где сплошная каша — на кухню, в блинчики. Браво, Панкратова,— жива и живешь ты, добрый дух абрикосового домика, гордость Проточного переулка — ни у кого нет такого варенья! А без варенья — что же это за чай? А без чая — какая же это жизнь? Панкратовой — ура!
Шло все как по маслу в нижнем этаже благословенного домика: не только варенье удалось, «сам», слава богу, тоже преуспевал. Хотя писали собратья Прахова о каких-то «кризисах», помаленьку торговал Панкратов, приползали «червячки», знали свое место. Глупые страхи больше не тревожили почтенного сердца. А телеса цвели: купался, пил водочку, с Поленькой ездил в баню — бояться тут нечего, родственница, вроде как сестра.
Однако ревнива судьба, не может она вынести человеческого счастья. Чуть было не стряслась беда над бородой: ведь дойди дело до огласки, опозорили бы газетные пачкуны уважаемого всеми гражданина. Законы у нас шаткие — кто их знает, что теперь можно, а чего нельзя? Очень легко и в тюрьму попасть. Разве варила бы тогда варенье супруга? Словом, мог бы обратиться нежно-абрикосовый в юдоль стонов и слез.
Началось все преглупо: за кулебякой, причем кулебяка эта была вполне добротной — пышная, румяная, а фарш из свежей капусты с яйцами так и таял во рту... Ели, как всегда, сосредоточенно, молча. Вдруг вскочила Поленька и, бледная вся, выскочила в сени: ее вырвало. Конечно, не в кулебяке было дело. Прошло еще несколько дней, и хоть не отличалась Поленька догадливостью, поняла она, в чем дело. Еще шире распахнулся ее рот. Слезы не переставая лились из припухших глаз. Панкратова начала подозревать. Не знала только — кто.
— Слушай, Поля, ты думаешь, я не вижу? Все вижу. Дрянь ты, а не девушка! Комсомолка! Скажу я Алексеичу, он тебя поколотит, вот тебе слово мое, поколотит. Я бы выгнать тебя должна. А мне жалко. Сестры мы как-никак. Ты скажи мне, кто это постарался? Если хоть с деньгами человек, можно алименты ихние встребовать. А то ведь дура ты — с голоштанником могла спутаться. Ну, чего ты молчишь? Отвечай, чье это дело?..
Хоть настежь рот Поленьки, молчит она. Стыд какой!.. Что ей ответить сестрице? Ведь она сама не знает, чье это дело. Кто из двух? Головой — как-никак, у нее голова, хоть не первый сорт — понимает: скорей всего «сам». Ванечка говорил: «Ты не бойся, я как в Европе...», а «сам» ничего не говорил, только мычал. Скорей всего «сам». Но сердце пробует робко спорить: а может, от Ванечки?.. Вот счастье!.. Не знает она, как ответить. Если сказать на Панкратова, убьет ее сестрица. А на Сахарова — грех, скандалить начнут, попрекать его, вот еще алименты взыщут, а у Ванечки и так денег нет, ходит он грустный. Может, болен? Бедненький! Нет, на Ванечку ни за что не скажет. Тогда...
— Что же ты, дрянь этакая, молчишь?..
Поленька шлепает губами, но не может слова вымолвить.
— Ну?.. Да не бойся, не съем я тебя. Вместе обсудим. Две головы все-таки...
— Не скажу я, кто — духу не хватит.
— Это как же «не скажешь»? Не выпущу я тебя, пока толку не добьюсь.
— Я, сестрица, боюсь...
— Вот что! Поздно подумала. Отвечай, дрянь!
И она больно ударяет Поленьку по щеке. Поленька взвизгивает:
— Ой ты!.. Не дерись! Я скажу тебе... Только убьешь ты меня. Пожалей меня, Анечка! Силой это он... Разве я пошла бы? Заставил он меня. Не бей! Он это — Петр Алексеич...
Тогда вскакивает Панкратова, хоть маленькая, хромая, сгребает толстушку Поленьку и хлещет ее салфеткой по лицу, долго хлещет. Слезы и крики сестры понемногу успокаивают ее. Не ревнует Панкратова: что здесь поделаешь, Алексеич мужик хоть куда. Но чтобы в своем доме, да родная сестра!.. Вся злоба ее — на Поленьку. Мужа она и в душе не попрекает: занят весь день человек, где ему тут искать?.. А эта...
— Вот тебе, получай! Еще! Еще!
Наконец, уморившись, она садится. Поленька лежит на полу, вся растерзанная, волосы распустились, раскрылась, блузка, лежит и всхлипывает.
— Замолчи ты, дура!
Теперь слезы Поленьки мешают Панкратовой думать, а она должна поразмыслить — как здесь быть? Ну, отлупила. Это хорошо. От этого на душе легче. А дальше? С соседями не посоветуешься. Алексеичу тоже не скажешь — убьет. Отослать сестру в Серпухов, к матери? Но ведь и там не отстанут: «С кого алименты требовать?» Значит, надо втихомолку со всем покончить.
Опомнившись, Поленька, еще вся в слезах, мечтает: «Нет, не от «самого»... Ну вот и сказала... И сошло. А родить — это дело пустое. Назову его Ванечкой. Будет он блондин и ходить в «Эрмитаж», там — Мараскины. Миленький!..»
Мечты ее прервал злобный шепот сестры:
— Ты — молчок. Завтра я тебя к Шрамченко отведу. Мигом сварганит. А потом в Серпухов уедешь, к мамаше, чтобы снова чего не вышло. Поняла?
Поленька прикладывает руку к груди и, нащупав там подвешенное сердечко, снова плачет: «Ванечка, милый мой, сынок!..»
Так и не узнал о семейном скандале никто, кроме гражданки Шрамченко. У гражданки Шрамченко много сомнительных свойств: сварливый нрав, утри на носу, да и весь нос неопрятный — нюхает табак по старинке,— если кричат бабы, она шипит: «Киш, девушка, с ним не кричала, так и у меня нишкни»,— в нос — понюшку — «апчхи» — словом, поганая женщина, но — могила, слова из нее не вытянешь. Тайна Поленьки в надежном месте.
«Сам» ни о чем не подозревал. Узнав от супружницы, что уезжает Поленька в Серпухов, насупился,— «где же такую сыщешь»,— отлупил хромую зонтиком, а потом успокоился — видно, любовный сезон миновал.
Ну а Ванечка?.. Не до того было Сахарову. Печаль и запустенье овладели верхним этажом абрикосового. Даже заказчиц стало меньше — они чуяли неблагополучие и, хоть прилежно работала Наталья Генриховна, обижались: «Испортила баронесса шляпку, как-то не сидит на голове». Осела на Новинском мадам Шуконьяк; правда, у нее не было ни титула, ни «комильфо» — просто «шью и переделываю шляпы, а также из материала заказчиц», но франтихи Проточного шли к Шуконьяк, предпочитая веселую улыбочку угрюмым глазам баронессы. «Грызет ее,— говорили они о Наталье Генриховне,— не иначе как девушку по ночам видит...»
С Сахаровым Наталья Генриховна вовсе перестала разговаривать. Приходя, он кричал: «Обед, мамахен!» Молча приносила она миску. Слышно было, как глотают суп. Иногда, замечая на столе мелочь, сдачу с рубля,— Петька принес из лавки,— Сахаров раздраженно засовывал деньги в карман. Жена не возражала, но больше ему не давала. Как-то он попросил:
— Изволь выдать мне червонец... Ну, одолжи до конца месяца. Черт знает что! Пешком должен ходить, как мальчишка...
Она ответила:
— У меня теперь заказов мало. Петьке надо ботинки купить. Если я тебе дам, на жизнь не хватит.
Она не солгала: денег у нее не было. Но разве в былое время отказала бы она Ванечке? Как-нибудь выкрутилась бы. А теперь на нее нашла апатия. Если и продолжала она работать, то только ради Петьки, хоть чувствовала, что у нее нет сына. Петьку она потеряла. Работала она, может быть, и по привычке: так уж заведено, что кормит всех. О страшном видении она больше не вспоминала, о судьбе своей не думала. Дни проходили тихо и безразлично, как стежки, когда шьешь: еще один. Это спокойствие пугало Сахарова, он предпочел бы брань. С ума спятила? Или что-нибудь задумывает? Ах, если б деньги!.. Разве остался бы он здесь лишний час?.. Вся остановка за монетой. Он рыскал по городу и мечтал... Кто-то предложил ему продать привезенные из-за границы арифмометры. В последнюю минуту он струсил: поймают. Вот разве что с объявлениями «Госпароходства» выйдет. Тогда — двенадцать червонцев комиссии. Тогда он сейчас же переедет. Но куда?.. Верочка? Дура, влюблена в него во как, глядит и не дышит. Морда у нее, откровенно говоря, препротивная, вся в прыщах. Зато — комната. Все равно! На морду можно не глядеть. Лишь бы отсюда вырваться. Здесь, может быть, такая каша заваривается... Поверьте носу Сахарова, у него чуткий нос.
Ну как же здесь было думать Сахарову о том, почему у дурочки Поленьки припухшие глаза? Одной ногой он уже был не в Проточном, а на Полянке, где проживала Верочка Муравьева. Денег у Поленьки нет, а для прочего теперь не время. Он забыл дорогу в каморку, где повернуться трудно и от подушек и от восторженного оханья.
Панкратова снарядила сестру быстро, та после визита к гражданке Шрамченко и оправиться не успела: «Прыток Алексеич, ох, как прыток!..» (Это она с гордостью думала: муж.)
Накануне отъезда Поленька зашла к баронессе проститься. Наталья Генриховна не знала, что сказать своей поверенной, молчала, ведь этого, нового никому не выскажешь, а о пустяках говорить не хотелось. Молчала и Поленька. Сдавалось ей, выколупнули из нее душу, только скорлупа осталась — грудь, волосы, рот, да, разумеется, рот, раскрытый настежь. Помявшись немного, она предложила:
— Я вам помогу, Наталья Генриховна.
И взяла, по привычке, шляпу. Работа шла хорошо, быстро. Но присутствие Натальи Генриховны смущало ее — все же она была единственной душой, которая не цыкала на Поленьку: «Дура, рот закрой». Сестра, «сам», даже Ванечка — кому бы из них вздумалось поделиться с Поленькой своими горестями? А Наталья Генриховна говорила с ней как с равной, душу раскрывала. Вот если б сказать ей все!.. Про Ванечку, про серебряное сердечко, про то, что какая-то Шрамченко убила ее душу, взяла и убила, без долгих разговоров, с понюшкой в носу. Нет, не может она этого сказать. Не поверит Наталья Генриховна, чтобы Ваня, да с такой большеротой дурой... Никогда! А если поверит, еще хуже — возненавидит Поленьку. Господи, и как это в жизни устроено, что пожаловаться некому?..
Поленька заплакала. Отложила шляпку, чтобы не замочить ее слезами.
— Что с вами, Поленька?
Ласковый голос Натальи Генриховны еще сильнее потряс Поленьку. Она подбежала к баронессе и, приткнув голову к ее коленям, зашептала:
— Сон мне приснился, Наталья Генриховна, будто сыночек у меня от Ивана Игнатьевича. Красивый такой. Блондин, Ванечка. А вот проснулась, и нет ничего, никакого Ванечки, Страшно мне, Наталья Генриховна. Раскололи меня и сердце вынули. Как же я теперь жить буду?..
Внизу Панкратова варила варенье, и хоть год у нас безъягодный, хоть клубника скорее мелкая, даже виктория, не говоря уж о русской, на славу удалось варенье: важнее всего и в этом деле сноровка, терпение, душевный покой.
17. КОНЕЦ СЕМЬИ САХАРОВЫХ
Для иных Проточный переулок и впрямь проточный — не задерживаются они в нем. Панкратов здесь родился, здесь и умрет, а вот Петька ушел. Сказал: «Уйду с братвой»,— и ушел. Бегство свое он обставил толково: выкрал из буфетного ящика три рубля, взял оставленные на ужин оладьи и своего любимца, деревянного конягу, сказал матери, что идет на бульвар, гулять,— и поминай как звали. Были, видимо, у него старшие советчики. Ведь никто не знал толком, с кем водился Петька после того, как Панкратовы завалили подвал. Если встречали его соседи у Москвы-реки или на Смоленском, то уж обязательно с ватагой беспризорных. Вот и убежал.
Другие — сироты, а у Петьки и родители были, и уголок свой, и даже ласка. Как понять это? Водились ли в иных местах заветные «Бубики»? Или подвержено младенческое сердце магнетической силе свободы, живы в нем еще звуки той песни, которой внимают «и месяц, и звезды, и тучи»? Или просто соблазнительны в такие годы ослушание, жизнь без взрослых, похождения, где каждый двор — Америка, каждый снежок — Бородино. Трудно разобраться в детской душе: мнимо-простая, она сложна. Стащил три рубля и пропал.
Наталья Генриховна долго поджидала его к ужину, хоть вздрогнула, заметив пропажу денег: вдруг?.. Сахаров ворчал: «Выпорю, тогда узнает...» Стемнело. Вот и ночь. Петьки не было. Она не удивилась. Она помнила его «уйду», хоть и могло показаться это минутной обидой ребенка. Искать мальчика пошла Панкратова. Сахаров звонил куда-то по телефону. Кругом суетились. Наталья Генриховна сохраняла спокойствие. Она знала, что зря шумят, ходят, ищут. Ушел Петька, ушел с «теми». Она видела перед собой, как мертвые, задохшиеся, с большими выпученными глазами манят Петеньку, ласкают его, смеются — в ушах стоял лязг от этого смеха,— уводят его с собой.
— Ты чего сидишь как бревно? — прикрикнул на нее Сахаров.
— Все равно, ничего не поможет. Утащили его.
— Кто? Цыгане? (Сахаров вспомнил, что детей крадут почему-то цыгане.)
— Нет. Те. Из подвала. Убили мы их, вот они и мстят.
Тогда Сахаров побежал к Панкратовым; даже Петра Алексеевича, на что тот был стоек духом, напугал он:
— Сошла с ума! Мертвецов видит. Тех, из подвала... Опасно это! Для всех опасно. Услыхать могут. Не знаю, право, что с ней делать? Ведь у ней целая коллекция на совести. Начнет распространяться, тогда все мы сядем. Я пойду с одним спецом посоветуюсь — нельзя ли ее в клинику упрятать. А вы уже как-нибудь без меня. Главное, не пускайте ее никуда. Силой держите.
Панкратов выругался:
— Стерва! Вместе делали, а теперь болтать? Уж вы меня простите, Иван Игнатьевич, только я ее в случае чего уничтожу, как вошь раздавлю!..
Будто взвод целый, топотал он, подымаясь по лестнице.
— Я, дамочка моя, скандалов не потерплю, я...
И вдруг осекся: в комнате никого не было. Опоздал Панкратов. Пока внизу шло совещание, Наталья Генриховна успела уйти. Рукавом Панкратов вытер лоб. Сам над собой посмеялся:
— Что, скушал?..
Хромая супружница забыла про то, какая в этом году ягода, смешно подпрыгивая, квохтала:
— Конец нам, Алексеич! Как же ты их оттуда не выковырял?..
— «Выковыряешь»! Что это тебе, семечки лускать? Халда! Мало тебя драли, матушка!
И пошло в абрикосовом такое безобразие, что даже видавшим виды чертям Проточного и тем тошно стало.
По улице, не замечая ни блеска зарниц — стояла душная летняя ночь,— ни смеха прохожих, тихо шла Наталья Генриховна. Куда — этого она сама не знала. Пошла, чтобы не сидеть на месте. Она не искала Петьку, не вглядывалась в лица ребят. Зачем? Все равно не вернуть ей сына. Ушел, ушел совсем. Если даже в той ватаге увидит она милое личико, Петька оттолкнет ее, убежит. Не хочет он жить с убийцей. Все правы: бежать от нее надо, как от чумной. Девушки она не тронула, но в зимнюю ночь убила детей. Сколько их там было? Кто знает?.. Она сторожила, пока Панкратов снегом заваливал ход. Задохлись. Слабенькие. Как Петька. Смерти ей мало. Нет для нее пытки. Вот посадить в такой подвал и засыпать. Чтобы никто не пожалел. Чтобы Петька тоже кидал землю: «Получай, душегубка!» Она одна во всем виновата. Что Панкратовы? Разве это люди? Колбаса, монпансье, окорок... Скажи она тогда «нет», разве они посмели бы? А она сторожила. Вот и расплата. Нет больше Петьки. Жить незачем. Слишком цеплялась она за эту жизнь, чтобы Ванечка, чтобы Петенька, чтобы... Теперь — одна. Прохожие сторонятся, вся в крови она. Умереть? Еще раз сподличать? Нет, голубушка, нужно уметь расплачиваться! Пусть все знают, какая она преступница.
Ее шаги стали живей, глаза теперь поблескивали, как зарницы. Она знала, куда идти. Дежурного, сонного и мечтательного, который пил чай, она ошеломила прежде всего своим голосом, чересчур уж торжественным для этой комнатушки, пропахшей сапожной мазью и мелкими мордобоями. Недоверчиво он промычал:
— Вы, гражданка, успокойтесь, а то я вас и понять не могу. Какие дети? Откуда дети? Что за белиберда?..
Наталья Генриховна повторила:
— Я не волнуюсь. Я рассказываю вам все, как было. Беспризорные. Они водились с моим сыном. Тогда я решила убить их. Ночью, когда все в доме спали, я засыпала подвал снегом. Если вы не верите, пойдемте. Ведь они там. Это в Проточном, дом напротив Прогонного. Моя фамилия Сахарова, Сахарова Наталья Генриховна.
Дежурный почесал за ухом. Он никак не мог понять, что ему тут делать.
— Одна беда с этими беспризорными. По десяти протоколов в день. Вот вчера, например...
Наталья Генриховна строго оборвала его:
— Я повторяю вам: я — убийца. Я их убила. Понимаете?
— Так... Чего же вы, собственно говоря, хотите? — Я хочу, чтобы меня арестовали, судили, предали казни.
Окончательно сбитый с толку дежурный уныло пробормотал:
— Ну, в таком случае я по телефону позвоню...
Осмотр подвала начался часов в девять утра. «Идут»,— крикнула Панкратова, и «сам» не спросил, кто — знал. Даже торговать не пошел он. От бессонной ночи горели ладони, глаза кололо: до зари он ждал с Сахаровым, не вернется ли Наталья Генриховна. Мрачная это была ночь! Сахаров заполнил покойную обитель Панкратовых окурками, нервным позевыванием, подозрительным запахом фиксатуара. Разговаривал он скорее не с хозяевами, а с собой:
— Чепуха! Настоящая уголовщина! Если у человека нечистая совесть, он на все способен. Я — потерпевший. У меня она Таню отняла. Ясно? Дочь барона фон Майнорт с колуном! Так-с. А при чем тут я? Служу, работаю... Я, извиняюсь, потомственный мещанин. У меня таких баронских чувств вовсе нет. Детей закопали? Не знаю. Меня тогда и дома не было. Конечно, донести она способна. По совокупности. Кровь мучает. А мне эти детки не мешали. Я деток люблю...
Рассердившись, Панкратов прикрикнул на него:
— Нечего зубы заговаривать! Вместе делали, вместе и отвечать будем. А отпираться, сукин сын, начнешь, на меня валить, так я тебя живо засыплю. Как тех паршивцев засыплю. Мы и насчет девушки поговорим. Что значит «пропала»? Спал ты с ней? Спал. Жена милку колуном, а ты жену — «чмок», Так, что ли? Здесь, брат, дело нечистое. Уж если меня — под расстрел, так и тебя туда же.
Панкратов стоял разъяренный, густо-красный, огромный, как палач. Жилы на его лице вздулись, он разодрал ворот рубашки: задыхался он от бешенства. «Смерть моя!» — подумал Сахаров, вспомнил почему-то рапиры барона и красный циферблат дома на Лубянской площади. Быстро-быстро заверещал он:
— Что вы, Петр Алексеевич?.. Я ведь пошутил. Я со всеми. Она-то стерва. А я свой. Умру, а вас не выдам.
Панкратов быстро отошел:
— Давно бы так. А то зря время драгоценное теряем. Надо обсудить, как в случае, если она разболтает... Их-то оттуда не вытащишь.
— Исключительно, Петр Алексеич, крыть помешательством. Что же из того, что они в подвале? Могло их обыкновенной метелью занести. Замерзнуть могли. Мало, скажете, детей замерзает? А ей померещилось. То есть от безумья. Пусть доктора освидетельствуют. И причины ясны. Я уж следователю говорил. Я тут ни при чем. Я, во-первых, жертва. Отчего не бросил ее? А сын? Трагедия!
— Опять на себя?.. Здесь как быть с этими разбойниками, а вы все о своих чувствах. Там они? Там. Это вам не дур заговаривать. Отроют, и конец нам...
Так они совещались, вздыхали, переругивались, до той самой минуты, когда хромая крикнула: «Идут...» Здесь — бах! — блином распластался Панкратов перед иконами. А Сахаров — нервы это, исключительно нервы,— сам не понимая, что он делает, запел, как Мараскин: «Я потгясен, я погажен...»
Известие о том, что обыскивают подвал абрикосового, мигом облетело Проточный. В переулке стоял гул: «Сама привела!» — «Врешь?..» — «Там она и девушку припрятала, нашинковала, как капусту».— «А говорили, в Москву-реку кинула».— «Голову в воду, а туловище там...» — «Баронесса-то! Спятила...» — «Дети откуда? Ведь детей ищут...» — «Сахаровы ребят душили...» В чем дело, никто толком и не знал, но все повысыпали на улицу. Возле дома Панкратовых нельзя было протиснуться. Это не цыганские романсы. Ведь сейчас из дыры вытащат труп девушки, может быть, без головы, а может быть, не одной девушки, детишек, кто знает, только обязательно что-то вытащат...
Все ждали затаив дыханье, и персюки, и жулики, и гражданка Лойтер, хоть была она на сносях — не разрешиться бы ей с перепугу до времени. Ну, а «Фанертресту» пришлось в то утро обойтись без делопроизводителя. Кто же согласится прозевать подобный спектакль? Разве каждый день в Проточном находят трупы! «Эй вы, гражданин, уплотнитесь-ка!.. Раздался, будто, кроме него, людей нет. Всем, кажется, интересно. Зад подбери, пентюх!..» Но делопроизводитель ничего подобрать не мог. Вдохновенными глазами глядел он на узкую щель, откуда должно сейчас прорасти нечто замечательное, лучше золота, лучше диковинных цветов, лучше звезд — трухлявые кости, покрытые клочьями мяса.
Принудил себя и Панкратов сойти на улицу, он глядел, ахал, поддакивал: «Ну и штучка баронесса: говорят, девочку в рассол положила...» Только все он норовил свести к безумью: «Муженек у нее хуже скопца, телячья ножка, напомажен, а никуда, вот баба и взбесилась, по ночам на лестнице голосила: «Это я, царь-ирод, истреблю младенчиков...» Осторожно намекал Панкратов — не брехня ли это, не хвастовство ли? Мало ли что может такая баба наплести? Ну, и насчет метели, еще осторожней — в Дорогомилове беспризорных занесло. Говорил, а сам глаз не мог отвести от черного хода. Прикрыл он его весной, чтобы не завоняло. Разрыли. Залезли. Сейчас вот выволокут Журавку. И вдруг — от бессонной ночи ум у него за разум зашел,— вдруг Журавка, как тогда, после заутрени, синим язычищем присосется к шее? Панкратов судорожно глотал слюну, рукой прикрывал ворот.
Хромая так и не решилась выйти. В темном чуланчике она не то всхлипывала, не то икала от страха. Кот зашел. Обрадовавшись, она хотела его приласкать, пощекотать затылок, но кот, привыкший к издевке, нагнал горб, фыркнул и оцарапал нос хозяйке. Панкратова взвыла, не от боли — почудился ей в этом перст: найдут, видит Бог, найдут! Да и как не найти? Что это, булавки? Расстреляют всех! Икота росла, переходила теперь в корчи. Не поминала хромая царя Давида: лезли в голову суповые кости с мозгом, студень, лежалая телятина. Изо рта побежала слюна, голова отвисла набок, все покрыло беспамятство.
А Сахаров? Почему его не было видно среди зевак? Заблаговременно он удалился. На скамье бульвара он якобы читал газету, время от времени поглядывая — не идут ли? Был у него свой план. Ведь ту ночь он провел у Тани. Правда, Тани нет в живых (здесь впервые он пожалел о смерти своей, как Поленька говорила, «милаши»), но дверь открыл ему горбатый, открыл с многозначительной миной, следовательно, заметил. Если поведут сейчас жену и Панкратовых, он — бегом к следователю, к тому самому, и все ему выложит. В тюрьме у Панкратова руки коротки. Пусть ругается. Хорошо, а вдруг горбун подведет? Что тогда?..
Развернутый лист смешно подпрыгивал: в это горячее утро, предвещавшее каторжный зной, Сахарова знобило. Неужели все еще роются?.. Жадно он вглядывался в даль, но никто из Проточного не показывался. Испытание длилось.
Агенты угрозыска брюзжали. Ступая затея! Что они найдут в заваленном мусором подвале? Слова этой женщины вряд ли заслуживают доверия. С чего бы ей вздумалось душить каких-то беспризорных? Да и не могла она справиться с такой работой. (Ведь о Панкратовых Наталья Генриховна ничего не сказала: «Я одна».) Скорей всего, выдумала — истеричка...
Подрагивала, покрикивала толпа. Каждое слово проходило по ней, как ветер по лесу. «Тащат!» — «Нет, это милиционер».— «Кричат, слышишь?..» — «Это Панкратова с перепугу».— «Все разворотят...» — «Час, как сошли...» — «Гляди, рухнет, чего доброго, дом...» — «Ах ты!..» — «Ох ты!..»
Только виновница переполоха сохраняла спокойствие. Лицо Натальи Генриховны выражало угрюмую решимость. Этот огонь глаз, жестокий и прекрасный, видел однажды покойный барон, когда Туся ему сказала: «Прощайте». Пристально глядела она на открытый ход: вот оттуда сейчас покажется смерть. Вынесут первого, потом второго...
Наталья Генриховна стояла у всех на виду, пронизываемая глазами Проточного, но она не замечала ни любопытства, ни осуждения. Ее душа была глубоко под землей (хотела Наталья Генриховна сама сойти в подвал — не пустили), была она и высоко, как говорится, на небе, то есть над суетой догадок, над мыслями о близкой каре, над всем, что волновало и мужа, и Панкратовых, и праздных зевак. Со стороны обозревала Наталья Генриховна свою жизнь и дивилась: она ли это? Казались ей и радости, и скорби хлопотливой женщины, озабоченной домашним довольством, костюмом Ванечки, воспитанием сына, салфеточками на креслах, бюджетом, мужниными ласками, почетом соседок — смешными, а может быть, и завидными, как чужая биография, раскрытая нескромным сочинителем. «Глупо так жить...» И сейчас же вслед добавляла: «Но счастье тому, кто так живет, ни о чем другом не задумываясь, черства его душа, спокоен сон...» Так ли жила она? Она видела перед собой дни, вещи, лица, усики, пшено, шляпки, голенького Петьку, которого бабка поила ромашкой,— все видела, вплоть до кухонной утвари. Но воссоздать чувств она не могла, и ничто больше не одушевляло мелких ненужных лет, похожих на уютный дом, покинутый его обитателями. Почему эти выцветшие фотографии не сорваны со стен? Почему не выкинуты сентиментальной хозяйкой засохшие давно цветы?..
Да, это она жила здесь, в душных клетушках абрикосового, в душных годах, ревновала, суетилась, жадничала. Сейчас собравшиеся на чужой позор люди увидят ужасный итог ее жизни.
Прежде не раз Наталья Генриховна бранила себя за леность, за вялость чувств: мало печется о муже, мало занимается Петькой. А теперь все, что недавно она почитала за достоинства, казалось ей заблуждениями, ничтожеством, чуть ли не грехом. Что довело ее до убийства? Слишком сильно она любила своих, глупой любовью, вязкой, как болото. Вот и засосала ее эта любовь. Нежность к двум сделала черствым сердце. Хорошо, что она еще ту девушку не убила! Могла... Теперь все кончено. Камни, кости судят ее. Свои ушли, и правы — как с такой жить? На чужих она никогда не глядела. Одинокой остается ей встретить собачью смерть.
Бывают минуты, когда человеческие чувства требуют шумных происшествий, громких слов, пафоса, движения. Наталья Генриховна могла бы успокоиться на дыбе, на костре, под наведенным дулом. Но судьба готовила ей горшее. Увидав тени людей, выползающих наконец-то из подвала, толпа разочарованно охнула. Кто-то даже свистнул: «Дурачье!..» Помилуйте, всех обманули самым бессовестным манером. Ничего! Так-таки ничего! С пустыми руками! Представители власти раздосадованно морщились.
— Я же вам сразу сказал — истеричка. В прошлом году вот одна такая же...
Не знаю, что именно приключилось в прошлом году, но теперь ничего не приключилось. Трагедия закончилась глупо: накричали на Наталью Генриховну и ушли. Народ тоже разошелся, гадая, кто кого надул: баронесса «легавых» или они ее? Скорей всего, надули Проточный: обещали мертвецов, а показали автомобиль и четыре портфеля.
Вот только Сахаров радовался. Повезло! Нет, не шутя, действительно повезло. Трупики испарились, как будто это роса. Что за наваждение?.. Уж не выгреб ли их хитряга Панкратов? Главное, ничего не нашли. Зря, мамахен, старались! (Сахаров не вытерпел, здесь же на бульваре, хоть никого рядом не было, высунул он препротивный свой язычок, тоненький и юркий, вроде червячка.) Он спасен. Он может идти гулять, на службу или к Верочке, куда ему только вздумается, никто не пойдет за ним следом, чтобы зашипеть в глухом переулке: «Стоп, гражданин!» Кажется, слоненок выручил.
Последнее умозаключение счастливых усиков способно озадачить — при чем тут слоненок? Но Сахаров был на редкость суеверен, хуже баб Проточного, верил в любой чох, разбирался в мастях котов, в числах несчастных и даже полунесчастных,— словом, в сотнях диковинных примет. Слоненка он получил в подарок от Верочки, «чтобы любовь жила до гроба», носил амулет во внутреннем отделении кошелька, вместе с образком Сергия Радонежского и с китайской монеткой: авось все скопом вывезут. Помянул он сейчас новейшего, а следовательно, и главного, вынул, даже погладил целлулоидный хоботок: спасибо! Хотел было и Верочку поблагодарить, однако передумал: нужно сначала здесь все уладить. Конечно, противно возвращаться в Проточный, хуже Верочкиных прыщей, кажется, еще пахнет переулок сгинувшими без следа мертвецами и тюремной баландой, но как не заглянуть к Панкратову — и так, наверное, он на Сахарова в претензии: утек, трусишка, пока обыскивали. С Панкратовым шутить не стоит — борода на все способна. Вдруг он объединится с «мамахен» против Сахарова?.. Например, будто он, Сахаров, прикончил и Таню и детишек... Ведь их трое... Эта мысль, как ни была она вздорна, заставила Сахарова вновь захолодеть. Умоляюще он взглянул на бледное, слинявшее небо и на слоненка, повертелся, повздыхал, а потом направился в Проточный.
У Панкратовых, куда сразу прошел он, вместо недавнего переполоха стояло полное спокойствие. Супруги пили чай, а что же лучше чая в такую жарищу, горячего, с кисленькой смородиной, чтобы душу прошиб спасительный пот? Вот достоинство Панкратова — быстро успокаивается. Еще хромая лежала в чуланчике, мокрая, дохлая, а он уже покрикивал:
— Эй, самоварчик! Ушли, ослы этакие...
Сахарову очень хотелось разузнать — как же все обошлось? Неужто Панкратов успел очистить подвал? Но Петр Алексеевич цыкнул:
— Нечего, нечего!.. Ничего и не было. Охота вам языком трепать. Лучше о деле подумайте. Я, сами знаете, прежде не возражал... А если «их» припутываете — какое мне с вами житье? Насчет декретов я, конечно, не знаю, но вы уже лучше подобру-поздорову... Люди мы тихие, жизнь у нас тоже не газетная... Так что придется вам, Иван Игнатьевич, другое помещение подыскивать...
Сахаров растерялся: ко всему он был готов, к брани — «куда улизнул?», к бахвальству — «ловко мы их без тебя выжили»,— но только не к такому миролюбивому приглашению: извольте-ка убираться. Куда ему деться? К Верочке? Там тоже восемь червонцев надо внести, не то и ее выселят. Черт знает, как глупо вышло! Сколько Сахарову приходится страдать из-за паршивой «мамахен»!..
— Я с ней, Петр Алексеевич, разведусь, честное слово, разведусь. Да и проще — я ее безо всякого развода на улицу выкину. Я ведь великолепно понимаю — разве с такой стервой можно жить? Сегодня она этих привела, завтра, чего доброго, в Гепеу сунется. Все мы через нее погибнем...
Смягчившись, Панкратов промолвил:
— Я бы на вашем месте то же самое сделал. Только, ежели вы ее выставите, зачем вам, скажите, эта квартирка? Сынок ваш утек. Супругу — за шиворот. Вы человек молодой, предприимчивый. Здесь на Кудринской Мухин — галантерейщик — давно подыскивает две комнатки с кухней. Хотите, я вам это дельце состряпаю? Мухина впишу как родственника. А вам двадцать червонцев чистых. Половину сейчас же могу выложить — задаточек. И расстанемся мы с вами друзьями. А ее вы — коленкой... Идет?
Сахаров долго не раздумывал. Он ведь давно решил, что прыщи уж не так страшны, как с первого взгляда это кажется. Хромая налила ему стаканчик чая:
— Отдохните, Иван Игнатьевич, чаю напейтесь — утро-то у нас жаркое было.
Но Сахаров от чая отказался — спешил покончить с делом, пока еще пыл не спал. Страшно ведь с этой сумасшедшей встретиться. Вдруг убьет? Или снова за теми побежит. Только бы не показать ей, что он трусит. Этак размашисто: «Извольте, гражданка, получить развод в двадцать четыре секунды!» Лестница почудилась ему крутой, дверь не подавалась. Может, заперлась она? Нет, просто рука Сахарова ослабла. Вот и открыл...
Наталья Генриховна стояла, прислонившись к стенке, как будто дерево подрубили, но ствол зацепился, еще стоит, еще колышутся ветки, еще дышит грудь, еще она жива, но нет в ней больше сил, чтобы жить. Тщетно было бы искать на ее лице следов недавнего напряжения, душевной борьбы, высоких мыслей, за час до этого ее волновавших. Как постыдно закончилось ее стремление пострадать! Никто не верит, что в зимнюю вьюжную ночь она убила детей. У нее отняли все, даже право на покаяние. Что же дальше? Неужели шляпки, муж, благополучие? Умереть? Но как? Не могла она теперь решиться на что-либо. Почему вчера она не кинулась в реку? Впрочем, все равно. Пусть заказчицы. Пусть смешки и пустота. Она не достойна ни смерти, ни тюремной решетки, ни искупления. Вот нужно отделать шляпку Демидовой шелком беж...
Когда вошел в комнату Сахаров, ни один мускул ее лица не двинулся: как будто она и не заметила его прихода. Долго длилось молчание. Сахаров все набирался храбрости, прикидывал, как будет выразительней — официально или по-домашнему на «ты»? Наконец он запищал:
— Ты что же? Доносить? Меня погубить хотела? Это за всю мою любовь? Тварь! Развожусь. Поняла? И потом — отсюда убирайся. Здесь я — ответственный съемщик. Три дня даю тебе — найди другую комнату или уезжай из Москвы. Денег у тебя, кажется, достаточно: меня голодом морила. Словом — нам налево, вам направо. А добром не съедешь, я по всем инстанциям пойду, хуже будет. Да и Панкратовы подтвердят.
Тихая улыбка прошла по лицу Натальи Генриховны: вот кто-то за нее решает, кто-то говорит ей — «уходи», разрубает трудный узел.
— Хорошо, я уйду отсюда. Мне и трех дней не нужно. Я сейчас уйду. Вот только соберу вещи — и уйду.
Сборы оказались недолгими: Наталья Генриховна завязала в узелок свое белье, чашку с орлами, из которой пил утренний кофе покойный барон, и большую фотографию Петьки. Сахаров ликовал: просто как обошлось, двадцать червонцев в кармане, можно и на прыщавую Верочку наплевать. Притом дура все свои пожитки оставляет. Загнать можно. Здесь еще по меньшей мере на двадцать червонцев наскребешь.
Наталья Генриховна привычной рукой прибрала комнату, волосы пригладила, а недоделанную шляпку отдала Сахарову:
— Демидовой передай, в номере девятнадцатом. Скажи, что не смогла закончить. Не успела. А ключи на комоде. Вот и все. Прощай! Если обидела я тебя, прости. Скверная я женщина...
Сахаров даже расчувствовался: ведь уходит, действительно уходит! Примирительно заговорил:
— Что ты!.. Я тебе не судья. Насчет божественного — это вообще предрассудки. А с ними ты здорово придумала. Молодчина! Вот теперь кто же на тебя подумает?..
Наталья Генриховна приоткрыла уже дверь, ничего не отвечая на слова мужа, но тот остановил ее:
— Постой, ты куда же?.. Уезжаешь?..
— Не знаю. Все равно куда...
На лестнице стоял Панкратов — выжидал, чем кончится дело. И с ним попрощалась Наталья Генриховна, но «сам» только буркнул в бороду:
— Иди, иди, голубушка!
Выйдя на улицу, Наталья Генриховна как бы опомнилась: и вправду, куда она идет? Полдень был. Сухой, жесткий зной опустошил и город и голову. Ни души в переулке. Вместо мыслей тягучее томление. Что ей делать? Нет у нее ни друзей, ни денег. Как те, беспризорные. Но через минуту она вдруг улыбнулась. Это была улыбка освобождения. Она радовалась пустоте. Никого! Ничего! Радовалась свободе: одна как перст! Не будет теперь ни суеты, ни корысти, ни счастья. Только большие голые дни, как этот город, пронизываемый неистовым солнцем.
С чуть заметной грустью еще раз она взглянула на абрикосовый домик, где столько мучилась, где так любила. Все это ложь! Нужно жить со всеми и ни с кем, голо жить. Люди ушли, а вещи она сама оставила. Вот и хорошо...
Вверх по Проточному тихо шла сгорбленная женщина с узелком. Никто на нее не смотрел. Люди полудничали в темных комнатах. Дойдя до угла, она поколебалась, потом завернула направо. Больше ее не было видно.
18. КУКУШКИНО
Восемнадцатого июля на станции Скуратове Московско-Курской железной дороги случилось происшествие, несколько оживившее и обитателей поселка, и отсидевших всю душу пассажиров. Ускоренный Москва — Минеральные Воды стоит здесь четверть часа, времени много, не только можно кипятку набрать, но и напиться в чахленьком буфете, где с раннего утра чадят неизменные отбивные, чаю или кофе, прогуляться по платформе, пошутить с прыскающими от любого слова девками, которые толпятся за изгородью, соблазняя москвичей земляникой, топленым молоком, цыплятами. Приятно утром размять ноги, подышать воздухом полей. Все здесь радует глаз, особенно когда едешь на юг, отдыхать после всяческих заседаний, исходящих и отчетов, впереди горы, ландшафты, прогулки, мудрое ничегонеделание! Хочешь — пей целебную воду, хочешь — гуляй с томными машинистками среди поэтических скал, а хочешь — просто лежи и надувай щеки от восторга: «Выбрался!..» Это вам не пляж у Проточного.
Из Москвы поезд отходит вечером, так что у Скуратова — первая встреча с солнцем и раздольем. Даже чай, настоянный скорее всего на банном листе, и тот кажется ароматным. Словом, происходит на этой станции совершенное благорастворение сердец. Вчера вот тот почтенный гражданин наступал вам на ноги, да еще ругался при этом, а сегодня ни с того ни с сего вызвался он сбегать за молоком для обремененной ребятишками попутчицы. После Скуратова нравы в вагоне заметно меняются — соседи начинают справляться: «Не беспокою ли?» — даже потчевать коржиками или колбасой.
Так было бы и в то утро, если бы не нарушили обшей идиллии беспризорные. Прав был дежурный, говоря Наталье Генриховне: «Одно с ними беспокойство...» Едут граждане лечиться, едут прошедшие через медицинские комиссии и прочее, с сердцем, с печенью, с нервной астмой, и не угодно ли?..
Безобразие началось возле мягкого спального. Некая дамочка, высунувшись в окошко и обозревая окрестности, жевала при этом пирожок с рисом, принесенный ей из буфета предупредительным спутником; боясь запачкать салом свои пальцы, она премило гримасничала. Один из беспризорных привычно заскулил:
— Тетенька, дай копеечку!..
Дамочка не на шутку испугалась. Вид у мальчика был и впрямь аховый: весь в саже,— видимо, он добрался до Скуратова на буфере,— вместо портков клочья, рубашки вовсе не имелось, лоб низкий, запавшие щеки, грязь, пакость, а среди всего этого злыми огоньками посвечивали глаза. Такой все может!.. Она уронила с перепугу пирожок. Мальчик подхватил. Тогда она кинулась в купе:
— Николай Степанович! Беспризорный! Страшный какой!.. Пирожок чуть ли не из рук вырвал.
Ее спутник, приятный дородный мужчина, читавший «Экономическую жизнь», усмехнулся.
— Чего тут бояться?.. Ведь не в пустыне же мы...
Он лениво подошел к окну и выплеснул на мальчишку, все еще караулившего, не бросит ли дамочка копеечку, остаток чая из стакана, чтобы тот отошел: «Иди, брат, иди...» Сделал он это без злого умысла: чай был холодный, но мальчик злобно взвыл и швырнул в обидчика камнем. На шум прибежали его товарищи, промышлявшие возле жестких вагонов. Мигом ребят обступила толпа пассажиров, успевших уже напиться чаю и прогуливавшихся в ожидании звонка. Может быть, все обошлось бы, если бы снова не сказался мрачный нрав первого, того, что камнем кинул: вспомнив излюбленный свой прием, Чуб, ибо это был Чуб из Проточного, укусил руку кондуктора, схватившего его за шиворот. Произошла сумятица. Беспризорным удалось выскочить из кольца. За ними погнались. Особенно усердствовал рыжебородый мужчина, который бежал, помахивая чайником, и вопил:
— Ложечку у меня слизнули, свиньи собачьи!..
Как очутились друзья Юзика на станции Скуратове, спросите вы? Долго об этом рассказывать: ведь здесь что ни день, то похождение. Вот уж кому не нужно романов Майн Рида! Всей компанией они направились на юг, хоть и с опозданием: три месяца отсидели в «колонии», попав туда вскоре после памятной ночи. Это обстоятельство и спасло Панкратова: собирался Чуб отомстить бороде, поджечь абрикосовый; даже со спецами из своих совещался: как это поджигают?
Ну, а когда удалось удрать, не до этого было. Старое забывается, притом они спешили выбраться из Москвы. Журавка (был он «атаманом») объявил: на курорт. Разумеется, не целебные источники прельщали их, не красота Эльбруса, нет, как чайка за кораблем, следовали они повсюду за различными гражданами из трестов, да и не из трестов: что-нибудь перепадет. Зимой — возле «Крыши», возле театров или кондитерских, летом же — в путь-дорожку. Конечно, без плацкарт. Как придется, и под вагонами, и на буферах — от станции до станции. Лупили их изрядно, однако они не обижались: это вроде денег за билет. Так за неделю они покрыли триста верст, отделяющих Скуратове от Москвы. До этого дня все шло гладко, хоть возле Серпухова проводник грозился, что скинет на ходу, не скинул. А вот здесь из-за драчливого Чуба попали в переделку.
Бежали они что было духу и, наверное, удрали бы, но возле водокачки Кирюша поскользнулся — мокро было. Рыжебородый с чайником первый ударил его сапожищем: «Получай! Ложки красть!..» Ну, а за ним и другие. Как же — воруют, камни кидают, кусаются, житья от них нет! Забыли все и предстоящие ландшафты, и приятную свежесть утра. Как будто вымещали они на этом мальчике свои московские обиды.
Из носа Кирюши текла кровь: заслоняя руками лицо, размазал он ее; кровь смешалась с грязью. Он барахтался и визжал:
— Не я это, ей-богу, не я!..
Били его вкусно, как только что перед этим попивали чай, причмокивая: вот тебе!.. И дамочка прибежала сюда же — посмотреть: «Вот ведь какой звереныш!..»
Кто-то пустил в ход солидную палку, вывезенную для горных экскурсий. Кирюша уже больше не визжал, он лежал ничком, тихо вздрагивая. Белесые волосы его были в крови, а выпуклые белки ничего не выражали: он перестал, видимо, чувствовать боль. Быстро все это было сделано: до того, как подоспел Гепеу, до звонка; быстро и разошлись пассажиры по вагонам. Разложили купленную у девок снедь, закурили и начали обсуждать: чего милиция смотрит? Только-только перестали обыскивать, реквизировать, просто, без долгих разговоров отбирать, как говорили тогда, «излишки», а вот уже растут разбойники, готовые зубами вырвать свеженькое, еще не приевшееся добро. Этот ложку стянул, а вырастет — налетчиком станет. (Ложку, правда, рыжебородый нашел — она завалилась под диван, но дела это не меняло: все равно воришка.)
До Орла только и говорили, что о беспризорных. Хорошо, когда в дороге разговоришься,— скорее время проходит.
Кирюшу же подобрали, отнесли в приемный покой. Красноносый помлекарь, успевший, несмотря на ранний час, приложиться к целительной настойке, зачем-то постучал по груди мальчика, как по столу, и мрачно объявил начальнику станции:
— Что я вам, Господь Бог? Протокол пишите. А мне тут делать нечего. Сволочи люди, вот что! Я, помлекарь Скуратова, то есть самый что ни на есть паршивый фельдшер, я презираю людей. Поняли? Хоть пью спиртное, как скот, но людей презираю...
Он ушел за шкаф и там, угрюмо сморкаясь, опрокинул еще стаканчик.
Под мостом, на шоссе, товарищи долго ждали Кирюшу. Попался? Выкрутился? Влип! Хорошо, что Петьку не заметили, а то бы и ему крышка. Где же такому маленькому?.. Чуб об одном жалел: промахнулся. Эх, если бы метко кидать!.. И в того, и в рыжебородого, и в дамочку... Все бы, кажется, перебил. Что же с Кирюшей? На разведку отправился Журавка. Ходил он недолго: поселок был полон разговорами о приключившемся. Уныло объявил Журавка:
— Айда! Ждать-то нам нечего. Здесь не сядем — заметили. До Выполкова десять верст — я спрашивал, дойдем. А там — на товарный.
Печально оглядев Петьку, он добавил:
— Вот с тобой беда. И зачем ты только увязался, мальчик? Ну, не хнычь. Устанешь — донесем как-нибудь. Я теперь тебе вместо Кирюши.
— А Кирюша где?
Журавка ничего не ответил, только сплюнул.
Когда они выходили из поселка, им попался навстречу красноносый помлекарь. Чуб на всякий случай ощерился, сжимая в кулаке острый камешек: ну-ка, попробуй!.. Помлекарь остановился, внимательно осмотрел ребят.
— Эй вы, молодая гвардия, стоп!..
С трудом ворочал он языком: за шкафом осталась пустая бутыль. Чуб уж и прицелился — с чего это «стоп»? Заарестовать хочет? Но помлекарь вытащил из кармана пакетик:
— Вот вам. Закуска. Жрите. И еще гривенник. А больше у меня ничего нет, кроме печенки в спирту и величайшего презрения к человеческому роду. Сегодня все собаки Скуратова покраснели от стыда, увидев двуногую животину. Вырастете, и вы такими же будете. Я тоже не лучше. Однако прези-раю!..
Хлеб с колбасой съели. Вспомнив красноносого оратора, поделились впечатлениями:
— Пьян как стелька, а ничего. И гривенник дал.
— На «дедушку» похож с Проточного. Помнишь — как молился?..
Они шли по большой дороге среди пышных хлебов, среди чужого труда, чужого богатства, ничьи дети. Шли в этот щедрый ослепительный день, когда вызревала пшеница, когда пели бабы на покосе, несли старательные поезда членов тысячи коллегий к горам или же к лазоревому морю, когда оперялись птенцы, накоплялись в абрикосовом червонцы, когда тучнели и земные овощи и сердце. Жарко было им идти, горели пятки, в горле от зноя першило. Шли молча, каждый думал о своем. Журавка мечтал, как он будет носиться по этим полям на коне в яблоках и стрелять — трах-тарарах! — в ворон, в мужичье, в солнце. «Как это я промахнулся? — угрюмо попрекал себя Чуб.— Теперь бы того тащили в яму, а не Кирюшу. Эх, хорошая штучка «собачка» — чтобы бить сволоту наповал!..» А Петька фантазировал, хоть и заплетались его ножки: «Если бы коровам крылья, как у ворон, и сесть бы на такую корову...» Держался он молодцом, не хныкал, помнил: «Я ведь теперь беспризорный», это требовало мужества и гордости, как — «я ведь теперь герой». Но все же уж видны были избы Выполкова — дойти он не дошел, сел на горку горячей пыли и робко попросил:
— Передохнем...
Нельзя было отдыхать: скоро товарный. Журавка поднял Петьку на плечи: «Версты две осталось, донесу». Тихо спросил Петька:
— Журавка... А где же Кирюша?.. Журавка помялся:
— Ну, чего тебе?.. Несу ведь... А Кирюши нет... Вышел Кирюша.
Тогда Петька, хоть стыдно было это — не девчонка он,— разревелся. Не будет больше Кирюши, никогда не будет. А может, и не было его? Почудился он, как «Бубик», как корова с крыльями? Ведь говорила ему мама: «Ничего этого нет. Ты, Петька, все придумываешь...»
— А ведь был он, Журавка?
Журавка становился все мрачнее. Прикрикнул он:
— «Был»?.. Думаю, «был»! Убили его, мальчик, Убили? Да, как хотели те с мамой убить Журавку.
Убили бы, если бы не Петька. А Кирюшу никто не спас. Значит, большие убивают маленьких? Почему же тогда говорят: «Вырастешь, большим будешь»? А что теперь с Кирюшей? Его засыплют землей? Страшно как...
Петька плакал. Не доплакав, он задремал — устал ведь. Молча шагал Журавка. Вот и Выполково!
Не знаю, удалось ли им сесть на товарный, не знаю, добрались ли они до «Минеральных» или погибли в пути, попали под колеса, слегли от лишений, а может быть, проученные сердобольными пассажирами, как Кирюша, остались в том же Выполкове или на другой станции. Кто знает? Не проследить за каждой судьбой. Вот идут они — впереди чернявый Чуб, за ним Журавка, а на плечах его — любимец покойного Освальда Сигизмундовича — Петька-Футурум. И сдается мне, идет это наша Россия, такая же ребячливая и беспризорная, мечтательная и ожесточенная, без угла, без ласки, без попечений, идет от Скуратова до Выполкова, от Выполкова еще куда-нибудь, все дальше и дальше, по горячей пустой дороге, среди чужих колосьев, чужого богатства. Кто встретится ей — скуратовские пассажиры или добрый, сердобольный помлекарь, и — сердце здесь останавливается, сил нет спросить — дойдет ли она?..
19. ЧУДАЧИМ
Летом в Проточном, как пожар в джунглях, хоть и нет у нас тигров, разве что Панкратов — отрыгивает он, выпив кваску с хреном,— жестокое лето. Пробуют люди залить огонь, но горячий банный пар идет от обдаваемых водой камней. Чем ближе лето к концу, тем чернее и гуще ночи. Воздух становится вязким, как деготь. Стоны, вздохи, потягивания лишившихся сна обывателей выползают из раскрытых окон, кишат повсюду — это личинки, из которых не сегодня завтра выйдут жуки-могильщики, «хроника происшествий», серная кислота или нож. Жарко!
Удостоился недавно наш переулок внимания. Несмотря на пекло, стали захаживать в Проточный различные инспекции. Говорю я не о фининспекторе (он и раньше знал сюда дорогу), не об угрозыске (здесь, можно сказать, его вотчина),— нет, о просветительных начинаниях. Решили в какой-то комиссии, что плохо живет Проточный, и принялись увещевать. Заборы покрылись всевозможными лозунгами. Каких только назиданий здесь не было: и «убей муху», и «береги золотое детство», даже и «покупай все в кооперации», и «не бросай газету», и даже «уважай в женщине работницу». Жулье гоготало: «Го! го! уважаем...» Персюки в восторге били мух. Рядом с абрикосовым, в доме №9, не то жил да съехал, не то предполагал только жить член коллегии, пользовавшийся машиной. Вспомнили теперь об этом и повесили дощечку «Берегись автомобиля». Фыркал Панкратов. Какие же в Проточном автомобили? В Проточном пыхтит и давит народ сам Петр Алексеевич. Берегитесь, овцы!.. Говорили, что «Гигиену» обратят в клуб. Секретарь «Союза ассирийцев» нацепил на толстовку значок «Я — безбожник». Старший сын делопроизводителя ошарашил приятелей — вместо «Кирпичиков» затянул: «Буденный наш братишка, с нами весь народ...» Это все в жару!..
Оживление, однако, быстро улеглось. Слиняли афиши. Секретарь значок снял, как новый картуз: буду носить по праздникам. А делопроизводитель сынка тихохонько выпорол, хоть и уверял тот, что состоит в пионерах. «Уважай в женщине...» художник из «Ивановки» снабдил такими иллюстрациями, что даже Панкратов обмер: «Вот тебе и монпансье!..» Может быть, время выбрали неудачное — какое же тут при тридцати градусах самообразование? Так или иначе, все осталось в Проточном по-прежнему: толстокожий переулок, его ничем не проберешь. Разве это часть государства? Это — Проточный, сток, тёка, мразь, родственник и Прогонного, и Самотеки,— словом, затон, где водятся романсы, тараканы, великая отечественная хандра.
Вот уже сливы появились, арбузы. Скоро осень. Скоро будет Панкратова мочить антоновку и варить варенье из райских яблочек. Прибирает она верхний этаж: Сахаров перебрался к Верочке. Вывеска «Комильфо» за ненадобностью валяется во дворе, на нее гадят коты. На новоселье — выпьем! У Мухина «червячки», иконы, супруга в теле, граммофон, а сам Мухин плешив и сух, как полено. Надо полагать, гражданка Мухина не откажется попариться с Петром Алексеевичем в «семейных банях».
У Лойтеров — прибавление (это к Раечке, к Осеньке, к Илику). Новая у Юзика забота: отчего кричит Розочка, красная и тернистая, как роза? Может быть, мало молока у гражданки Лойтер? Надо прикармливать!..
Посетовали Лойтеры и успокоились — с детьми веселей. Притом четверо — это чистые пустяки, если только подумать, что у матери Лойтера было ровным счетом одиннадцать.
— Юзик, дорогой, погремите этой погремушкой, чтобы Розочка не кричала...
Юзик гремит — что ж ему еще остается делать? Один он теперь: съехал Прахов, нашел комнату где-то в Замоскворечье и съехал. Сказал Юзику:
— Вы на меня не сердитесь. Здесь вспоминается разное... Жить мне здесь трудно.
Перед отъездом, усмехнувшись, он снес в кухню кипу рукописей — на растопку. Кое-как пристроился человек. Служит теперь в той же «Вечерке» младшим корректором. Писать перестал, пить тоже не пьет. В чем дело? Подействовала ли на него беседа с покойным преподавателем латыни? Или попросту перебесилась душа, захотела обычного, самого что ни на есть завалящего покоя? Этого и Юзик не знает. Часто он задумывается: что с Борей? Счастлив ли? Он расспрашивал Прахова, но тот отнекивался: «Ничего, живу»...
Юзик играет в «Кино-Арсе», развлекает пискливую Розочку и утешается речами неизвестного сочинителя.
Была ли здесь в Проточном девушка, которую звали Таней? Или только это приснилось? Ведь должны же сниться несчастному переулку замечательные сны. Ничем этот сон не кончился — ни свадьбой, ни могилой. Утром проснулся Проточный — нет Тани. А второй раз она не приснится. Легко сказать — «улыбайся». Как здесь улыбаться, среди темных, угрюмых людей? Умер преподаватель латыни, ушли дети, в церковном дворике давно отцвели глупые желтые цветочки. Юзик один, глаз на глаз с жизнью, и жизнь перетягивает его, как горб.
В тот вечер, о котором я хочу рассказать, горбун тосковал. С ненавистью поглядывал он на скрипку: скрипка хуже Панкратова. Она лжет. Зачем люди выдумывают какие-то необыкновенные звуки? Ведь после них еще тяжелее жить. Вот Таня любила стихи. Но разве спасли ее слова, нежные, как зеленая пыль в парке Паскевича? Лучше сразу сжечь все ноты, все книги, все скрипки, запретить сажать цветы, удушить ядовитыми газами соловьев, условиться: живем столько-то лет в Проточном или в другом переулке, должны жить безо всяких улыбок, просто, раз мы устроены, чтобы жить,— значит, ничего другого не остается. Но пусть не кричат какие-то струны, что была Таня и что ее больше нет, пусть не кричат они о счастье! Горб? Юзик теперь знает, у всего Проточного горб, у всего мира горб, и этот большой горб зовут горем. Нечего фантазировать...
Он сидел на табуретке, помахивая руками, как летучая мышь. В окно лилась горячая смола ночи. Не один Юзик задыхался в тот вечер. Жара выкуривала людишек из нор, гнала их на воспаленный, гнойный асфальт, сталкивала друг с другом. А что сказать Сидоренко, Петрову? «Съели?» — «Съел»...
Вот эта-то духота и привела Прахова к хорошо памятным ему местам. Разговор с Юзиком плохо клеился — обоим было не по себе. Юзик не думал сегодня улыбаться: был он в ссоре с «мифической девицей» Освальда Сигизмундовича и с самой жизнью. Вот пришел Прахов. Да, Прахов был. Был и Сахаров. Были книги из библиотеки — как же, он помнит — Сейфуллина и Бухарин. Но была ли Таня?.. Глупые сны! Гадкая скрипка! Выдумано, все выдумано, кроме бороды Панкратова, кроме тухлой колбасы и анилинового монпансье.
— Скажите, Боря, вы всегда знаете, что на самом деле и что только кажется?..
Прахов ничего не ответил. Вопрос Юзика раздражил его. Ведь Прахов налаживал теперь всамделишную жизнь — без помпезных рифм, без мечтаний о мировой славе, без призрачной, утомительной влюбленности, обыкновенную жизнь. Ревниво он ее берег, как обновку. И вот Юзик хочет разрушить кропотливо сложенный домик. Карточный? Пусть! Ему хотелось закричать, как прежде, когда ночью его будили вздохи скрипки: «Не сходите с ума — вас выселят!..» Да, за это могут выселить, не из квартиры №6, хуже — из жизни.
А Юзик продолжал (он спрашивал не Прахова — себя):
— Вот и Таня... Что, если только показалось это?..
Тогда Прахов вытащил из кармана бережно завернутое в папиросную бумагу колечко:
— Бросьте говорить глупости, Юзик!.. Видите это кольцо? Она дала его перед смертью старому нищему. Да вы его знали — вашему приятелю. Если я не рассказывал вам этого прежде, то только потому, что мне тяжело вспоминать... Умерла Таня, умер и старик. А нам, Юзик, нужно жить. Жить просто, без выкрутасов. Это колечко я дал от душевной скудности, а назад получил от щедрости, от настоящего богатства. Крез мне его дал, честное слово, Крез! Жил человечек тихо: сначала спряжения, а потом «подайте копеечку». Без претензий. О каких-то туземцах читал. Сгорел дом, и радуйся. Удивительно! Я вот эту штучку всегда на себе ношу, как узелок: смотри, Прахов, не забудь — жить надо.
Юзик не слушал его. Руки дрожали, дрожали ресницы, дрожал горб. Выдумано, все выдумано! Кольцо — не разнять его: Прахов — Таня — Сахаров — преподаватель латыни. И снова Прахов. Ложь! Фантазия! Приснилось это Освальду Сигизмундовичу? Или он соврал Прахову? Конечно, соврал! А если и преподаватель шел на ложь, тогда — где же правда? «Исключения»! Может быть, он и маленького «Футурума», который спас беспризорных, тоже выдумал? Зачем?.. Глупые вопросы — спросите скрипку, зачем она обещает невозможные веши?
Но вот Прахова он выручил этим колечком. Прахов носит колечко, как святыню. Значит, преподаватель латыни был прав? Но тогда и скрипка права, тогда все правы, тогда глупо спрашивать, существовала ли Таня на самом деле,— тогда Таня существует, хоть в ее комнате пищит маленькая Розочка, тогда все выдумано, и все правда...
Юзик как бы вырос. Руки его были вытянуты вперед, горели глаза, невидящие пламенные глаза визионера. Он обнял Прахова:
— Боря, дорогой!.. Пусть ложь, пусть выдумано, пусть колбаса Панкратова — я вижу теперь, где правда! Луцкий умник не увидал ее. Он посмел сказать: «Нет ее». Он был слеп, как самый последний крот! Если он и не нашел правды, он должен был выдумать что-нибудь подходящее. Он не смел погасить маленького огарка. Вот преподаватель латыни, тот выдумал. Мой сочинитель тоже выдумывает. Скрипка, даже паршивая скрипка из «Кино-Арса» — святая. Боря, пишите стихи! Пишите скорее стихи об этом сумасшедшем колечке!
Сердито высвободился из его объятий Прахов:
— Я не пишу больше стихов, я уж сказал вам, я просто живу. Я мелок и бездарен — в этом нет ничего унизительного. Должны быть на свете и вдохновенные поэты, и младшие корректоры. Каждому свое. Тридцать лет Прахов лез вперед, на первые места. Будет! Глупо это и гадко. Вся беда моя была от амбиции: и халтура, и стихи, и несчастный «роман» с Таней. Если веселиться, так обязательно — на «дутых» и в кабак. Если плакать, так не угодно ли в рифму. Довольно с меня! Расписываюсь в своей ординарности. Служу. В меру интересуюсь общественными вопросами. Читаю фельетоны Кольцова. Ходил встречать Дугласа. Отчисляю там в пользу... И так далее. Капитулировал — и счастлив. Что же вы меня снова расстраиваете? Разве легко мне далось это спокойствие? Вот пришел я. Душно — сил нет работать, сердце ноет. А здесь вы, с вашими выдумками...
Трудно было, однако, удержать Юзика. Охваченный вдохновением, он не видел перед собой Прахова. Он беседовал теперь со всеми умниками мира, со всеми поэтами, с покойным преподавателем латыни, он беседовал даже с той странной девицей, которая, улыбаясь, каждый год нисходит в ад, «чтобы цвели вербены». Вербены? Это, наверное, красивее курослепа в церковном дворике. Она улыбается. Ей не хочется сходить в ад, но она улыбается. Улыбка эта полна нежности. Обождите! Он где-то видел эту улыбку... «Что же мне остается, Юзик?..» Ведь это Таня! Таня спустилась в ад Проточного. Чтобы цвели вербены, ну да, вербены. Разве Прахов хуже какой-то вербены? Значит, Таня жива. Значит, она вернется.
— Боря, вы понимаете? Она жива! Я схожу с ума? Пусть, но я становлюсь от этого гораздо умнее. Она вернется. Все, решительно все выдумано. Она не только была. Она будет. Чтобы цвели вербены. Я это хорошо помню. Вы спросите, что такое вербены? Этого я не знаю. Может быть, цветы, а может быть, люди; может быть, это вы, Боря, или маленькая Розочка Лойтер. Не в этом дело — вы слышите, Таня вернется!
— Перестаньте! Сейчас же перестаньте! Вы меня заражаете вашим бредом. Зачем я только пришел сюда?.. Успокоился было. Забыл все это. Я не хочу больше слышать о Тане! Таня умерла. Нельзя любить мертвую. Это — дважды два. О вербенах — бред. Неужели я снова должен халтурить или сочинять бездарные стишки? Вы видали Маркову? Так слушайте, я хочу на ней жениться. Ясно? Не могу же я жениться на утопленнице. Я не отрицаю — это другое. Таню я, как в стихах пишут... «любил». И хамил с ней зато вовсю. Словом, «до грубых шуток». А здесь — тихо, спокойно. Дети, наверное, будут, как у Лойтеров. Ну, не Розочка, так Шурочка,— вот и вся разница. Но должен же я, черт побери, жить! Или убейте меня. Я не хочу больше фантазировать. Я — банальнейшее существо. Вы не смеете так меня мучить! Она умерла. В реку кинулась. И точка.
Юзик не мог больше уйти от этих судорожных речей. Перед ним была не воображаемая вербена, нет, Боря Прахов, младший корректор «Вечерки». Он хочет жениться на Марковой? Пусть женится. Ведь некому теперь присмотреть за Праховым, один он. Не верит Боря, что Таня жива? Пусть не верит. Ему легче не верить. Мало выдумывать сказки. Нужно выдумать и низкую быль.
В своей заботе о судьбе друга Юзик доходил до новых безумствований: да, да, нужно уметь отречься от речей преподавателя латыни, сжечь книжку неизвестного сочинителя!
— Не обращайте на меня внимания, Боря. У меня ум за разум заходит. Это от духоты: не сплю я но ночам. Вы хотите услышать, что Таня умерла? Я вам говорю — она умерла. Она утопилась. Три месяца прошло. Это поймет даже маленький ребенок. Вы должны скорее жениться на Марковой. У нее очень благородные глаза. Я вас поздравляю, Боря. А если я вас обидел, вы меня простите: ведь я глупый горбун, только одно мне остается — выдумывать сумасшедшие истории. Живите себе хорошо, Боря, и забудьте обо мне!
Кажется, Прахов понял, как трудно было Юзику выговорить все это. Ласково потрепал он руку горбуна. Это было единственным его ответом. Они молча расстались.
Юзика вскоре окликнула гражданка Лойтер: видите ли, такая жара, она весь день сидела взаперти, если Юзик согласится посидеть возле Розочки, она выйдет немного проветриться. Юзик загремел погремушкой, он улыбнулся девочке, весело улыбнулся, как будто не было у него никакого горя. Вот и у Прахова будет такая девочка. У Юзика никогда не будет детей. Юзик — урод. Но Юзик знает то, чего не знают ни Боря, ни Лойтеры. Он знает, что Таня жива. Он знает, почему сошла она в этот ужасный ад. Он сейчас расскажет об этом маленькой Розочке. Ведь у Розочки еще нет ни квартиры, ни жениха, ни идей. Ведь еще не за что бояться. У нее глаза светлые, пустые, как новый дом, в котором живут только солнечный свет и мечта архитектора. Розочка поймет его.
— Ты знаешь, как тебя зовут? Вербена. Это цветок. Это даже лучше чем роза...
Вот за окнами черный, душный ад. Горят сердца. Как в чане смола, бурлят в них ревность и зависть. Сюда сошла Таня.
Гражданка Лойтер, вернувшись с прогулки, обмерла. Над мирно спящей Розочкой в упоенье стоял горбун. Его волосы были всклокочены, одна рука носилась с погремушкой, как со смычком, другая крепко была прижата к сердцу, как будто Юзик пытался удержать готовую выпрыгнуть из клетки птицу, а глаза были полны слез.
Прахов не пошел ни домой, ни к Марковой. Слова Юзика разбередили забытую было тоску. Жарища не спадала. Люди шли неуверенно, пошатываясь, едва касаясь тротуара, как будто каждым шагом они отрекались от земли, учились летать, падать, умирать. Да и беседы слышались странные: о небесных туманностях, о последней любви, жестокой и нежной, о стихах. А ведь были они обыкновенными советскими гражданами, сослуживцами Прахова. Может быть, они сговорились и дразнят аткарского героя?
Вот идет простоволосый субъект с ломтем арбуза. Ему бы о ставках философствовать, а он, так и не выпуская из руки зеленой корочки, подвывает: «Ничего, голубка Эвридика, что у нас студеная, зима...» Постыдитесь, гражданин! Лето у нас, сухое, знойное лето. И нет у нас никаких Эвридик. Освальд Сигизмундович умер. А Прахов всего-навсего младший корректор. Он вот собирается жениться на Катюше Марковой...
Что за напасть? Кругом любовные вздохи, будто в опере или лягушки в болоте. «Ах!..»
Прахов шел скверами, возле храма Спасителя. Что ни скамейка, то воркующая парочка, и так как кончалось лето, тяжелели яблони, тяжелели сердца, этот воркот был угрюмым, трагическим: вязались и трещали различные судьбы. «Навек!» Или — «Прощай». Страшная голубятня! Вот и река...
Прахов остановился. Прекрасен здесь наш домашний, заспанный город. Пышность в нем и призрачность, подобающая столице. Наивно конфузится голубая церквушка Замоскворечья, дымят на нее косолапые заводы, как «козьей ножкой»: «Ничего, подыши»,— идет за рекой непонятная жизнь с иконостасами и с ячейками, со смесью, подлинно диковинной, тезисов и блинов. А здесь — Кремль, вся русская нежность, милование, скрытая гордыня северной души, Успенский, Двенадцати Апостолов, дивная слезинка, которую быстро смахнул пестрый рукав гулянок, ну и другой Кремль — держава, мощь, черная дворницкая нашего постоялого: гляди, друг мой, в оба — растащут, разнесут, расклюют. Широки здесь каменные ступени. Даже простенькая речка здесь величава. Гулок звон. Реверберы. Балюстрады. Одно слово — столица...
Взволнованно дышал Прахов: вот и Москва! Как тогда на «Крыше»... Скоплено. Налажено. Работай! Правь корректуру! Но откуда же эта тихая дымка? Или глаза Прахова туманятся? Мечта перед ним: мечта веков и сердец, мечта протопопов с косматыми ручищами и насильно постриженных девок, мечта скипетра и сермяги, мечта того, кто лежит возле кремлевской стены, белый как выдумка и живой как смерть, мечта поэтов и горбунов.
Кто это идет по лестнице, в светлой шали? Остановитесь, гражданка! Не смущайте бедного корректора! Скажите откровенно — вы ведь служите в нарпите? Но женщина ничего не отвечает. Кто же она?.. «Ничего, голубка Эвридика, что у нас студеная зима...» Да, конечно, у нас и летом зима, у нас не размечтаешься. Суров край! Жестока жизнь! Вот разве Юзик — тому можно мечтать... Но у Юзика горб. А Прахов должен жить. Увидите, он возьмет и женится на Марковой. Честное слово, женится!..
Только, скажу я вам откровенно, не развеет это легкой дымки. Выйдя из загса, он не перестанет верить в «выдумку» Юзика. Нельзя отделаться от такого томления. Таня была с ним одну только ночь, а останется навеки. Чтобы вздыхать и сомневаться, чтобы не осесть, не стать Панкратовым. Это — щепочка. Держись за нее, Прахов!
Хорошо, он будет жить спокойно. Он будет полезным гражданином отечества, заботливым мужем. Но от этого он никогда не отступится. Как же Юзик не понял, зачем он носит на себе колечко, что означает этот узелок? Родная Москва! Родная мечта! Чудачим мы все, чудачим...
20. ПИСЬМО ТАНИ
Юзик! Дорогой Юзик! Вот удивитесь Вы! Посмотрите на надпись и плечами дожмете — письмо с того света. А может быть, и забыли совсем, кто это? «Какая Таня? Ах да, соседка! Еще приставала ко мне — перемените книги»... Не сердитесь, Юзик! Я и вправду боюсь, не забыли ли Вы меня? Мне ведь кажется, что прошло с того вечера десять лет,— может, и все сто. А на самом деле — сейчас сосчитаю — только пять месяцев, Как я изменилась с тех пор! Помните, я просила Вас достать морфий? Ведь я серьезно тогда думала о смерти. Я и утром из дому вышла — топиться, только струсила. Постояла на мосту и ушла. Ну, а теперь все мои горести в Проточном кажутся мне детскими. Разве так умирают? Трудно мне жилось там: как слепой котенок, тыкалась я куда попало,— а вот все-таки вспоминаю я то время с сожалением: первая молодость. Милый наш домик, ворчливые бабы, персюки, Лойтеры!.. Знаете, даже к Прахову у меня нежность, хоть он чуть не погубил меня. Он в душе хороший, только сам себя не понимает — хочет быть обязательно грубым, как плакаты: «Время — деньги». Вы мне напишите обязательно, что с ним, разбогател? прославился? женился?
А Вас, Юзик, как вспомню, так захолонет все. Откуда бывают такие люди, скажите? С неба, что ли, падают, как метеоры? Иногда мне кажется, что все дело в людях. Это, правда, глубоко ненаучно, я сама понимаю, что главное — база. Но смотрю я на здешних каширских работников — и знание, и энергия, и линия выдержана, а в результате вот на прошлой неделе шесть комсомольцев изнасиловали Машу, нашу курьершу, и что же, никто из молодежи не возмущается. Старики, те все валят в одну кучу: «Вот вам и ваша революция». Опускаются руки. Вот если бы все были, как Вы, Юзик, тогда легче было бы сразу подойти к коммунизму. У мужа на все один ответ: «Это от нашей экономической отсталости». Он, конечно, прав. Но Вам я тихонько признаюсь: часто меня сомнения берут — пока не изменятся люди, ничего не изменится, кроме разве названий. Вы-то, наверное, поймете меня.
Вот и пишу Вам. Здесь поговорить мне решительно не с кем. Муж у меня умница, но очень чужой он. Да и времени у него нет, чтобы заниматься подобными глупостями. Он здесь один на себе выносит всю партработу, и по советской линии тоже перегружен. А с другими товарищами из Наробраза, где я теперь работаю, у меня нет ничего общего. Сплетничают, кляузничают друг на друга, рассказывают еврейские анекдоты. Ставили они в клубе пьесу Луначарского «Канцлер и слесарь», меня пригласили. Ничего они не понимают, зазубрили текст, и только. Все свелось к тому, что режиссер, пользуясь случаем, обнимал молоденьких женщин. Пошлость такая, что прямо слов нет! Недавно справляли девятую годовщину. Муж мой произнес серьезную речь, о ближайших наших задачах, хорошо очень говорил — сухо, без громких фраз, а потом другие перепились, и, конечно, танцевать будто бы «характерные танцы народностей», на самом деле обыкновенный фокстрот. Почему же не сказать прямо? Так во всем.
А сестра? — спросите Вы. Ну, с Шурой не разговоришься. Трое детей, муж больной, кухня, что ни день — постирушки. Переменилась она так, что не верится — Шура ли это? Только и знает, что цены на «огузок» или пересуды: кто сколько тратит на базаре, откуда деньги и так далее. Добрая она очень, меня встретила ласково — я ведь ей на голову свалилась со своими идиотскими трагедиями, а у нее как раз ребята корью хворали. Первые дни я еще пробовала ей рассказывать о своей московской жизни. И про то рассказала. Она расплакалась, стала умолять меня больше не говорить об этом никому: «Упаси Бог, узнает кто...» Подумайте, в двадцать шестом году! Ну, и все так: иконы, панихиды, вздохи — «когда-то они, окаянные, сдохнут». Меня жалела, и все на еду: «Ты, Танечка, еще пирога возьми»,— это в утешение. Когда она узнала, что я выхожу замуж за Соколовского,— в слезы. «Как? За большевика?..» Потом успокоилась: все-таки муж. Лучше, чем как в Москве (ведь она в душе убеждена, что там я просто занималась проституцией). Даже белье мне подарила. Только к нам не ходит, чтобы не встречаться с мужем.
Вот Вам моя жизнь. Как видите, Ваши пожелания исполнились: я замужем. Не знаю, что Вам еще сказать о муже. Он много старше меня — ему скоро сорок пять лет исполнится. Я бы могла быть, пожалуй, его дочкой. Большевиком он был до революции. Бритый. С проседью. Любит, когда выпадет свободный час, решать шахматные задачи (здесь для него нет подходящих партнеров). Прислали его сюда из центра. Мы с ним встретились в клубе: я в тот вечер была дежурной. Он начал расспрашивать о Москве. Я обрадовалась — ведь со здешними и говорить разучишься,— сразу ему рассказала обо всем: и о «Парижанке», и о том, что Мейерхольд сдал позиции, и о диспутах. Он засиделся. Неделю спустя снова пришел. Здесь начались сплетни: «роман» Соколовского! Я усмехалась — какой же это роман? Но говорить мне с ним правилось. Встречались мы у него. Вот он как-то и объявил мне: «Давайте, Таня, жить вместе...» Я растерялась: ведь перед этим ничего, ровно ничего не было. Спросила его: «Зачем вам это?» — «Понравились вы мне, а одному тоскливо». Вот уж три месяца прошло, а я и теперь готова спросить — зачем ему я? Он нежен очень, говорит, что рад: жена, ребенок будет. Но ведь у него даже порадоваться нет времени. Я — вначале еще это — рассказала про все московское: думала, если умолчу, нехорошо, обман. Он поморщился: «Зачем говорить о прошлом, это ведь со всяким может случиться. Теперь у тебя — я». И больше ни слова.
Как-то я все-таки спросила: «А если бы я теперь как в Москве?» — «Мне было бы очень больно». Я ему верю — он никогда не лжет. А все же не понимаю — почему больно? Ведь я совсем далеко — на десятом месте. Вот Прахов — решил купить меня на ночь за кольцо, но и тот, кажется, волновался. О стихах говорил. А Соколовский (знаете, Юзик, я мужа всегда по фамилии зову) никогда не выйдет из себя, ровен, спокоен. Человек ли?..
Впрочем, может быть, так и нужно. Я ведь теперь стала взрослой. Много работаю. Это успокаивает. Здесь я мужу если не друг, то товарищ. Хотела было с осени поехать в Москву на курсы социальной психологии. И муж настаивал. Но не вышло. Я жду ребенка. Значит, в лучшем случае, нужно отложить это на два года. И иногда я думаю, что вообще из этого ничего не выйдет. Через два года я буду, как Шура, с «огузком» и с компрессами. Что же, значит, не судьба...
Ребенку я радуюсь. И боюсь... Боюсь, что слишком много связываю с этим. А вдруг будет, как и с «любовью»?.. В стихах — одно, в жизни — совсем другое. Видите, я еще недостаточно поумнела.
Я пишу вам прямо классное сочинение: «Как живет Евдокимова». Дома сейчас тихо. Муж — на заседании. Вечера здесь очень длинные. На окнах иней — звездочки. А там дальше — темнота, снег. Красивый городишко Кашира — много церквей, садов. Одна только улица, а то все дворы, как в деревне. И собаки лают.
Юзик, я рассказала Вам все, и я еще ничего не сказала Вам. Если б Вы были сейчас здесь, Вы сыграли бы мне какой-нибудь «комический кусочек», и я бы тихонько поплакала. Но Вы не думайте, что я несчастна. Нет. Плакать можно и не от горя. Мне очень жалко всех: и мужа — какой он большой, умный, одинокий, и Шуру, и всех здешних с их «Канцлером», и Прахова (не догадался он, а ведь все могло быть иначе). Вас мне не жалко: Вы самый счастливый человек, какого я только встречала. Вы ведь счастливы не от чего-нибудь, а просто. Вот такой я хотела бы быть! Далеко мне еще до этого, но многое я теперь понимаю.
Я здесь устроила отряд пионеров, и каждый раз, когда я вожусь с ними, всю тоску как рукой снимает. Мне почему-то кажется, что они будут жить лучше нашего. Мы не смогли, а они смогут. Может быть, так же думали наши родители? Тогда это просто старость. Не знаю. Только, когда я слышу: «Будь готов» (это их пароль), все во мне смеется от радости. Как будто готовятся они к другой, настоящей жизни.
Юзик, теперь я Вам признаюсь откровенно: я жду его с такой радостью, что порой кажется, сердце не выдержит, остановится. Пусть моей жизни здесь конец — ведь это все внешнее. Зато будет кого любить, за кого отдать себя.
А еще большая радость от ничего, вероятно, просто оттого, что дышу. В первый раз я почувствовала это летом, вскоре после того, как приехала сюда. Вышла я вечером в сад, в голове все гадкое — та история с кольцом, наставления сестры и мысль: зачем это я забралась сюда? Вспомнила я мост, воду внизу — как топиться хотела. Холодно стало. Страшно. И вдруг рассмеялась — живу! Пахнет душистый табак, звезды светят, огоньки в домах. Звонят к вечерне. Девчата наши поют «За веселый гуд...». Разве не все равно, что со мной случилось? Хорошо!..
Я живу только такими минутами. Это острова. Между ними служба, разговоры, каширский сон, затонуть можно, но вот подходит — и снова выплываю. Вы не глядите, что я слезами перепачкала всю страницу. Это но глупости. На что мне жаловаться? Не вышло. Как муж говорит: «Детский мат в три хода». А все-таки — снег, звезды, Вы вот, Юзик... Я Вам теперь все рассказала. Вижу, как Вы читаете это письмо и трясете головой: «Так, Татьяна Алексеевна, так». Милый мой, неуклюжий Юзик! Я Вас крепко-крепко целую и всю мою нежность хочу передать Проточному,— да, да, ведь там я узнала и горе, и радость,— всем его домишкам, церковному двору с желтыми цветами, Москве-реке, Прахову (не сердитесь — он хороший, я теперь только это поняла), а больше всего Вам, дорогой мой, старый друг!
Вот я и улыбнулась...
21. ЦВЕТЕТ ПРОТОЧНЫЙ
Вот и снова пришла зима, наросли сугробы, распластался над кряхтящими домишками синеватый дым, и, справляя первый добрый морозец, скатывались ребята на своих собственных вниз, к Москве-реке. Были за это время две облавы, так что кой-кого из «Ивановки» и повыслали, но жулье не редело, объявились другие: сущевские, сухаревские. Новая прачечная открылась возле Смоленского — китайская — «Свой труд». У делопроизводителя «Фанертреста» умерла жена от крупозного воспаления легких, две недели он с горя пил, а потом привел к себе востроносую девчонку и такой шум учинил, что даже в Проточном рот раскрыли: оказывается, это уроки танцев. Обогатился переулок и двумя новыми личностями: Корольков из краснопресненского нарсуда и Сорокин, ученый секретарь какой-то «фотоакадемии». Королькова сторонились — коммунист, да к тому же судейский, недаром зубы у него торчат, как у крысы,— ну а Сорокина, наоборот, жаловали: он ходил по переулку с большущим аппаратом — выискивал «типаж». Говорили, будто для заграничных журналов, и получает он за каждую «проточную» физиономию по пяти целковых (думаю, врали: кто же за такое добро платить станет?). А сняться, разумеется, каждому лестно. Панкратов, тот, издали завидев Сорокина, сейчас же принимал соответствующую позу, оправлялся: «Валяй, щелкай — нам не жалко...» Ну, а помимо этого, никаких особых перемен в Проточном не произошло. Все так же копошились в «Гигиене» щи, и пели цыганки про свою цыганскую любовь.
Но беспокойным оказался этот год для героев моего повествования. Расшвыряла их судьба кого куда, двое только и остались в Проточном: Юзик да Панкратов. А то: Таня — в Кашире, Сахаров купил комнату в Лялином переулке и благоденствует там, Прахов женился на Марковой (у них квартирка в Замоскворечье), ребята, верно, бродяжат где-то, если не погибли, а о Наталье Генриховне ни слуху ни духу, как ушла тогда с узелочком, так и сгинула. Правда, Лойтеры по-прежнему живут в квартире №6, но что можно сказать о Лойтерах? Пятого, кажется, пока не предвидится, и на том спасибо.
Панкратов — ничего, существует. Пережил он и горькие минуты: говорили, летит червонец, будет как с «лимонами»,— хоть стены оклеивай. Хотел было он выменять заветные пачки на царские десятки, конечно, с потерей, но — дай Бог «им» здоровья — вывезли,
Черт возьми — не разберешь «их» — то жмут, масло давят, и налоги, и сборы, и «борьба с частным капиталом», и «руки прочь от Китая», и «мировая», словом — привычные жидовские штучки, а то за ум-разум берутся, выручают Панкратова. Зачем на углу Проточного стоит милицейский, спросите вы? Охраняет мировую? Дудки! Стережет он десять пачек под цветочным горшком (начата теперь одиннадцатая).
Красным вишневым соком наливаются щеки «самого». Хромая даже содрогается: «Ты бы, Алексеич, банки поставил...» Глупости! Кровь, как и «червячки», украшает наше красное купечество. Вот Мухина оценила колер, оценила она и комплекцию, жар Панкратова. Вместо тщедушного сюсюканья: «Ах, люблю»,— тот сразу зарычал, красноглазый, вспененный, лютый, как здоровенный бык на случке.
Хозяйским глазом оглядывал Панкратов Проточный: все здесь свое. Не тронет его добра жулье, почтительно оно заламывает шапки: «Доброго вам здоровьица...» Тишина под домом — не сунутся туда малолетние бандиты, устрашенные рассказом о каких-то припрятанных трупиках. Посветлело и в квартире №6,— нет больше там ни сомнительной девчонки, ни газетного пискуна. Вот только горбатый жиденок, торчит он как бельмо на глазу. С чего он так поглядывает на Панкратова? Хорошо бы и его выжить из Проточного. «Жиды редко бесятся, как коты, народ это сметливый, осторожный, зато бешеный жид — чума, всех перекусает». Готов был Панкратов даже с «ними» войти в стачку, даже с судейской крысой, с Корольковым из шестнадцатого, только бы извести горбуна, чтобы не глядел он на великолепную бороду окаянными своими глазелками.
Чувства Панкратова многие теперь разделяли. Вероятно, Юзик и вправду сошел с ума. Взгляды его, повадки, разговоры пугали народ. Косился на него весь Проточный: что ж еще он выкинет — кого сдуру обнимет (этого-то жулика из «Ивановки»), на кого зашипит «брысь», какого оборванца зазовет к себе «чай пить»? Даже Лойтеров восстановил он против себя — вот этими приводами грабителей, бессвязными речами, назиданиями. Больше гражданка Лойтер не подпускала его к маленькой Розочке — боялась, чего доброго, задушит: ведь как же он белками ворочает, хрипит. Ребята пели теперь новенькую песенку:
Жид наклал себе в штаны
Чертовы орешины.
У него горб в пять пудов —
Оттого он бешеный.
Как-то не вытерпел Юзик:
— Почему вы меня истребляете, дети? Мой горб весит не пять пудов, он весит тысячу пудов, и я не могу больше его носить. Я могу только упасть и умереть...
Оттого он бешеный!..
Высунув языки, ребята кружились и пели. Юзик вышел из себя:
— Камни вы, а не дети! Прах!
Но тотчас же устыдился: кого он обидел? Детей? «Футурум»? Конец Юзику. Если он с невинными сердцами враждует,— значит, нет больше в Проточном философа. Кончилось счастье горбуна. Вот и гонят его все. Лойтеры ворчат: «Вы бы себе другое место подыскали для свиданий с вашими воришками, здесь честная семейная квартира». Выставили его из «Кино-Арса»: как-то, подбирая аккомпанемент, пустил он под похоронный марш прием Чичериным английской делегации. Один. А против него весь переулок.
Нарядный был день, белый, солнечный. Сверкал Проточный и снегом, и светом, сверкал, как витрина ювелира Гуревича, как сны беспризорных, как выдумка.
Зайдите-ка в такой день сюда, и не поверите вы ни в Панкратова, ни в жулье, ни в насекомых, что копошатся под овчинами, скажете: «Чем хуже Проточный Мертвого, или Левшинского, или других благообразных переулков?» Великолепный покров опускает зима на людскую мизерность. По Москве-реке скользят коньки, и доносятся оттуда чистые серебристые голоса детворы: «Эх, эх!» Все вычищено, вылощено. Для кого же задумала природа такой праздник? Какой трибун, какой полководец, какая прекрасная девушка должны промчаться сейчас по этому пушистому пути? Кого, друзья мои, ждет Проточный? Или зря вся эта пышность, только напоминание она, что всюду одна жизнь, и в Проточном и в Левшинском, что всюду черны дела, но бела, но светла, но нестерпимо светла заложенная в человеческом сердце радость?..
С почтальоном, морозным и веселым — трещит, кряхтит, смеется,— Юзик столкнулся в дверях, шел он, скрипка под мышкой, в какой-то танцкласс.
Он шел и читал письмо, шел, не видя, куда идет, обдаваемый криками: «Горбун-то, в рабкоры заделался!..» Потом он остановился, снова перечитал. Он не кивал головой, как думала Таня. Он только улыбался, сначала робко, недоверчиво — «вдруг шутка?» — потом радостно, вовсю — «жива!». Улыбается ему... Откуда-то из Каширы — где это? близко? далеко? — все равно — она улыбается Юзику. Замужем. Муж — умник. Наверное, как гомельский секретарь. Жалко! Сумасшедшие сочинители лучше умников — они умеют и плакать и смеяться. А умники умеют только говорить умные вещи. О Боре — правда. Они могли бы пожениться... Как глупо все вышло!.. (Лицо Юзика стало теперь грустным.)
Поздно! У Прахова — Маркова. У Тани — умник. Дети из подвала Панкратовых пропали. Что может человек, если судьба против него? Они ведь любили друг друга. Юзик это знает. Теперь нельзя сказать Прахову, что Таня о нем вспоминает, нельзя даже сказать ему, что она жива. Чего доброго, он все бросит, уедет в Каширу. А что будет делать Маркова? Что будет делать этот умник? Разве можно из большого чужого горя выкроить себе маленькое счастье? Нет, Юзик не расскажет Прахову о письме. Пусть тихо живет на новой квартире. Пусть тащит свое. Сколько пудов в горбу человека? Пять? Тысяча? Миллион?
Но нет, не горевать должен Юзик,— радоваться. Таня теперь пишет, как неизвестный сочинитель. Она пишет об улыбке и роняет слезы на письмо. Она возносится и над Проточным, и над Каширой, она летает там, среди белых хлопьев и птиц. Она все знает. Это уж не Таня с Сейфуллиной и с губной помадой. Это та девушка, о которой говорил Юзику преподаватель латыни.
Почему она пишет, что Юзик мог забыть ее? Она ведь поняла теперь, что Прахов вовсе не злой человек. Почему же она не поняла, что Юзик ее любит? Разве горб мешает любить? Горб только мешает жить...
Юзик, опомнись! Мелкий, несчастный человек, как ты смеешь роптать? Это ты недавно обидел детей... Радуйся! Она жива. Она выходит из подземелья. Она улыбается.
И Юзик улыбается Тане. Он стоит теперь у ворот абрикосового и улыбается. Он хочет рассказать Проточному, что Таня с нежностью вспоминает этот переулок, что все ложь — и ссоры, и насмешки, и ночные драки, что светел и бел Проточный. Он вынимает из футляра скрипку. Он играет свой любимый «кусочек» — дорогое, самое благородное: Таня жива!
В пяти шагах от него застыл с кузовком в руках Панкратов. «Сам» не заходит в ворота. Злобно он глядит на горбуна. Наглость какая! У самого дома пиликает. Нет, здесь следует милицию позвать, пойти к Королькову, собрать подписи — пусть уберут прочь этого сумасшедшего! Не выдержав, он подходит к Юзику:
— Отходи отсюда, пакость этакая! Не то я милицию позову. Скандалист!
Юзик на минуту перестает играть.
— Почему вы злитесь, гражданин Панкратов? Лучше смейтесь, вот как я смеюсь. Она жива. И дети живы. И нельзя убить радости. Преподаватель латыни умер. Но он все рассказал мне перед смертью. Я знаю, вы хотели из-за какого-то дурацкого окорока убить их. Не бойтесь — я никому не расскажу об этом. Я только хочу вам сказать: они живы. Вы слышали звуки этой скрипки? Так радуйтесь со мной. Радуйтесь, что у вас ничего не вышло. Смейтесь! Танцуйте! Сойдите с ума! Или уйдите в ваш ужасный подвал, чтобы вас не было видно, потому что вся жизнь смеется, а вы умираете от вашей черной злобы...
И Юзик снова играет. Иззябшие пальцы весело водят смычком, и несутся нежные пронзительные звуки по Проточному, и расцветает переулок, распускаются золотые кочаны на вывеске «Закусочная «Гигиена», и распускаются желтые, сморщенные личики персюков, и горит снег, и бьются сердца женщин, и несется, подымая легкую пушистую пыль от Москвы-реки вверх к Смоленскому, как легкий ветерок, простая, большая, человеческая радость.
Сентябрь — ноябрь 1926
Париж

Проточный переулок, фото 2007 г.

Проточный переулок, дом 10, фото 2007 г.
"Наискось от абрикосового домика, на углу Проточного и Прогонного переулков [в настоящее время Прямой переулок] в настоящем и проточном, и прогонном дворе..."

Угол Проточного и Прямого (бывшего Прогонного) переулков, д.10/1. Третий этаж дома, скорее всего, надстроен после 1920-х гг. (фото 2006 г.)

Вид сверху. (фото 2006 г.)

"...Рядом с абрикосовым, в доме №9, не то жил да съехал, не то предполагал только жить член коллегии, пользовавшийся машиной..." (фото 2007 г.)

Церковь св. Николая на Щепах. (фото 2006 г.)


Дом начала 20 в. на углу Панфиловского и Проточного. На месте соседнего дома (который в 1926 г. был разрушен и "вонял вот уж который год") теперь расположен небольшой скверик.
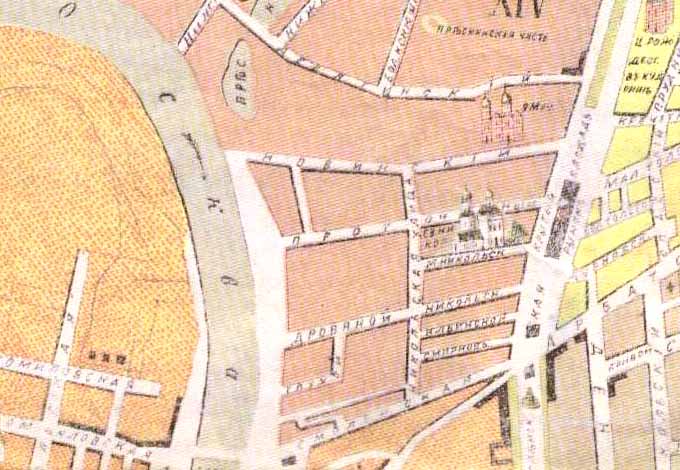
Фрагмент карты Москвы 1882 года.
------------------------------------------------------------
Москва, Художественная литература, 1991. Т.2, стр. 557—698
OCR Н. Цырлин, февраль 2007
nzyrlin.narod.ru