
ЛИТЕРАТУРНАЯ СЕРИЯ
▪ ЗАБЫТАЯ КНИГА ▪
ЛЕОНИД ГРОССМАН
ЗАПИСКИ Д’АРШИАКА
МОСКВА
Издательство «Федерация»
1931
*
ПУШКИН В ТЕАТРАЛЬНЫХ КРЕСЛАХ
Брокгауз-Ефрон 1926
*
КАРЬЕРА Д’АНТЕСА
Москва
Журнально-газетное объединение
1935
__________________
МОСКВА
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
1990
OCR и вычитка: Давид Титиевский, октябрь 2008 г.
Библиотека Александра Белоусенко
Вступительная статья Владимира Шацкова
Составление М. М. Френкель
Иллюстрации Н. Кузьмина
Оформление художника А. Семенова
МЕРА РОМАНА
«Разве хорошие произведения нуждаются в предисловии?» — спрашивает посол Великобритании в третьей главе «Записок д'Аршиака». Оброненная фраза остается без ответа — вполне очевидно, что граф Нессельроде, к которому она обращена (а вместе с ним и автор романа), молчаливо согласны со сказанным. Однако, вопреки собственному мнению, Леонид Гроссман дважды напишет предисловие к своему безусловно неплохому произведению — в 1930 и 1960 году. А между этими датами будут издания в Лондоне и Нью-Йорке, Варшаве и Праге, в буржуазной Риге, в Харькове, Москве. Наверное, ясно, что безынтересные романы не пользуются одинаковым успехом в столь разных местах. И все же... предисловия понадобились.
Внутренние посылы к писанию романов и предисловий различны. Писатель обрекает себя на долгий и тяжкий труд, чтобы поделиться с людьми частью чужой биографии, которая его удивила и потрясла. Автор предисловия заставил себя сесть за стол, чтобы ответить на длинный реестр еще не заданных, а только возможных вопросов то ли невежественного, то ли криводушного критика.
«Записки д'Аршиака» воспринимаются как подлинные мемуары. Многие остаются при убеждении, что пролистали неподдельную «петербургскую хронику». Придумав автора, Гроссман настолько вошел в его душу и плоть, что в 1960 году (через тридцать лет после первого издания!) нечаянно обмолвился в своем втором (ненапечатанном) предисловии: «...я ни в чем не изменил и формы этого м е м у а р а» (разрядка моя. — В. Ш.). Вспоминая за д'Аршиака, друга и родственника Дантеса, он не мог оставаться Леонидом Петровичем Гроссманом, родившимся в конце другого века, в 1888 году, в семье одесского врача. Не мог он и оставаться юристом, каким был по образованию, чтобы судить секунданта убийцы Пушкина по
5
законам иного общества. И то и другое было поставлено ему в вину.
Суд критики над романом Гроссмана напоминает костюмированные суды над Онегиным и Печориным, происходившие на рабфаках и ликбезах. Если бы он избрал «автором» не секунданта Дантеса, а секунданта Пушкина, роман был бы иным. Это понимали и обвинители, и праздная публика. Однако обвинения были произнесены, а формулировки заточены.
«Героизация» Дантеса (который был не более, но и не менее порядочен, чем светская «чернь»). Причисление Пушкина к латинской культуре (как будто он не был воспитан на классических образцах и служение музам — а не социальным классам — было ему в тягость). Искажение иконного лика (хотя Пушкин гримасничал и тем самым наверняка искажал свои «тропининские» черты, по признанию всех современников).
В итоге «Записки д'Аршиака» Гроссмана и книга Вересаева «Пушкин в жизни» (которая еще ждет своего полного переиздания) оказались на одной скамье подсудимых, а после этого в одной зоне нарочитого умолчания. Как на выставке ВДНХ мог быть только один образцовый ботинок (даже не пара!), так мог быть один выставочный философ, один выставочный художник, один выставочный поэт. В этом смысле Пушкину не повезло. Именно в России, где о нем написано больше, чем о ком бы то ни было, но чаще всего в жанре жития, а не исповеди, в порыве восхваления, а не сопереживания, не соучастия.
«Мера романа — человеческая биография или система биографий». В этой принадлежащей Мандельштаму формулировке хочется подчеркнуть слово «человеческая». Жизнеописание полубога или земного героя, обожествленного людьми, имеет равное право на существование, однако при любой, самой захватывающей фабуле оно не будет романом. Высвечивая основную идею личности¹, оно просто обязано отсекать все случайное, лишнее, привнесенное суетой, что нередко мешает проникнуться смыслом жизни другого человека даже его близким.
Тому, кто хочет понять идею личности Пушкина, лучше открыть книгу «Пушкин» из серии ЖЗЛ того же Леонида Гроссмана. Тому, кто хочет понять глубину личных переживаний поэта, стоит погрузиться в историческую детальность «Записок д'Аршиака». Ведь даже обращаясь к Евангелию, кто-то чаще перечитывает главы о воскресении Христа, а кто-то — о крестных муках.
_______________
¹ В платоновском смысле: как замысел Творца, полно или частично проявляемый в земном существовании.
6
Соблазнительно отнести непонимание очевидного различия жанров профессиональными литераторами (а вместе с тем и появление «защитных» авторских предисловий) единственно к условиям сталинского режима. Однако даты явно не совпадают: двадцать девятый — до, шестидесятый — после. Можно говорить о преддверии, можно рассуждать о последствиях, но ни то, ни другое не объясняет схожее возмущение по поводу статьи Владимира Соловьева, охватившее российскую публику задолго до «Д'Аршиака».
Исходя из принципов своей веры, Соловьев высказал соображение, что Пушкин убит собственным нехристианским, упорным и нераскаянным стремлением совершить убийство¹.
Требовать, чтобы религиозный философ рассматривал дуэль в других терминах, невозможно никакому сколько-нибудь объективному оппоненту. И все же требования были предъявлены, автор осужден (слава богу, лишь общественным мнением), а статья Соловьева «Судьба Пушкина» (1897) нашла своего издателя лишь спустя почти столетие.
В свои девять лет, которые ему исполнились к моменту выхода «Вестника Европы» со статьей Соловьева, Гроссман, разумеется, не мог иметь собственного мнения о нашумевшей работе. Но будь он и старше на целый гимназический курс, всей методикой преподавания российской словесности (по сути своей не изменившейся и теперь) он был обречен оказаться на стороне хулителей и ругателей великого философа. Житейское практически исключено из отечественных жизнеописаний, и дурная привычка единственно к «житийному», каноническому восприятию заставляет нас подозревать в святотатстве любой человеческий интерес к писательской биографии.
Передаваясь от поколения к поколению, этот единственный подход настолько укоренился, что, вспоминая ушедших современников, мы невольно следуем житийным образцам схоластических учебников. Такое ритуальное выхолащивание происходило с биографиями Сергея Есенина и Владимира Маяковского и продолжается нынче с Николаем Рубцовым, Александром Вампиловым, Владимиром Высоцким.
Чтобы прийти только к мысли о дозволенности документально проследить трагические метания Пушкина в последний год его жизни, Гроссману было мало освободиться от ученических представлений и стать самостоятельным исследователем (к работе над романом он приступил уже будучи автором пя-
_________________
¹ Ср. у Гроссмана: «Пушкин неожиданно встал перед нами, как беспощадный враг. Его воля к убийству рвалась из каждой строки его письма» («Записки д'Аршиака», гл. 6, часть 6).
7
титомного собрания сочинений, в которое вошли лишь историко-литературные произведения). Ему пришлось испытать подлинное потрясение, встретив в Дантесе не пустейшее «созвездие маневров и мазурок», не просто ловца «счастья и чинов», каким он хрестоматийно изображался, а весьма одаренного, многообещающего, подверженного сильным страстям человека, как о нем отзывались современники, и в том числе сам Пушкин. Оказалось, что ревность поэта не была беспричинной, хотя бы по отношению к несомненным достоинствам соперника, и трагическая развязка на Черной речке — не просто незатейливая ловушка сановных злопыхателей, в которую так легковерно и слепо попался один из умнейших людей своей эпохи.
«Философия начинается с удивления». Эта фраза произнесена Аристотелем в «Поэтике», и притом в те времена, когда понятие философии еще совпадало с понятием искусства. Роман Гроссмана начался с удивления исследователя, когда его прежние представления о лицах, замешанных в пушкинской дуэли, оказались развеянными непреложным свидетельством документов. Отсюда и выбор «автора» — д'Аршиака, — чья честность и порядочность подтверждены ближайшими друзьями Пушкина и чья примиренческая позиция позволяла общаться с обеими сторонами. Отсюда и ожидание столь же сильного потрясения у читателя, и попытка защитить свое право художника на отход от канона в первом предисловии 1930 года.
Нетрудно представить единодушное возмущение многопартийной (и все же традиционно политизированной) российской критики, появись роман Гроссмана в дореволюционное время. Насколько же более шумной и праведной должна была стать и стала реакция оскорбленной критики тридцатых годов, уже прошедшей начальную школу классовых чисток. «Когда борьба классов становится единственным и общепризнанным событием... акции личности в истории падают и вместе с ними падают влияние и сила романа» ¹. Обращение к роману, к человеческим биографиям, да еще в связи с именем Пушкина, было в то время не только смелым, но и наивным шагом, лишний раз говорящим о чистоте помыслов автора, если бы в этом сказалась нужда и сейчас, при четвертой попытке советского издания (которое намечалось еще при жизни Гроссмана, почти тридцать лет назад, в 1960 году). Именно ему было предпослано второе авторское предисловие, где Гроссман, по сути дела, соглашает-
_______________
¹ Примечательно, что это суждение Мандельштама, высказанное в 1922 г., обнародовано лишь в 1987 г., да и то в разделе «Примечаний» (О. Мандельштам. Слово и культура. М., Советский писатель, 1987, с. 285).
8
ся с критическими окриками, уверяет, что будто бы отказался от «портретирования Дантеса, поскольку иные из читателей усмотрели в этом героизацию убийцы Пушкина», и тем самым горько признается, что не очень верит в читателя «первой оттепели».
Более того, Гроссман взялся за редакторские ножницы, но они, по счастью, дрогнули в его руке, и правка оказалась минимальной. «Это был своеобразный и очень одаренный юноша», — говорит д'Аршиак в первой главе. Гроссман вычеркивает слово «очень». «Лицеисты обожали его», — упрямо продолжает двоюродный брат Дантеса. «Лицеисты любили его», всего лишь «любили», — пробует возразить Гроссман. И так далее, меняя «пленительный» на «находчивый», сравнения с северными богами на схожесть с тевтонскими рыцарями, выкидывая слова Жуковского¹ и даже цитату из последнего письма Пушкина о волнении его жены перед «великой и возвышенной страстью».
Гроссману не удалось окончательно испортить собственную рукопись, и поэтому роман не увидел света в 1960-м. Однако история первого издания имеет печатное продолжение. Следуя за Владимиром Соловьевым, Гроссман считал, что судьба Дантеса кончилась с его выстрелом в первого певца России. Блестящая одаренность не дала плодов, и долгая жизнь (он умер в 1893 году) оказалась разменянной на бессмысленные и не всегда чистоплотные политические интриги. Быть может, заглавие статьи Соловьева «Судьба Пушкина» подсказало Гроссману название его работы «Карьера д'Антеса», которая составляет неразрывное целое с «Записками д'Аршиака».
Представляя читателю этот официально «забытый» роман вместе с продолжающим его исследованием о Дантесе, издательство остановилось на первой, неискаженной редакции «Записок». В объяснение этого выбора, и только для этого, написано новое предисловие.
Владимир Шацков
_______________
¹ «Если бы его (Пушкина. — В. Ш.) вовремя отпустили в Европу, его гений достиг бы небывалых размеров и жизнь бы его была спасена».
9
ЗАПИСКИ Д'АРШИАКА
Петербургская хроника 1836 года
Посвящаю моей матери
ПРЕДИСЛОВИЕ
 Трагический эпилог жизни Пушкина — такова
главная тема исторического романа, названного автором «Записки д'Аршиака».
Рассказ здесь ведется от имени молодого французского дипломата, принимавшего
участие в знаменитом поединке 27 января 1837 года в качестве одного из
секундантов.
Трагический эпилог жизни Пушкина — такова
главная тема исторического романа, названного автором «Записки д'Аршиака».
Рассказ здесь ведется от имени молодого французского дипломата, принимавшего
участие в знаменитом поединке 27 января 1837 года в качестве одного из
секундантов.
Виконт д'Аршиак, атташе при французском посольстве в Петербурге, как друг и родственник Жоржа д'Антеса, убийцы Пушкина, был посвящен во все тайны дуэльной истории, а как дипломатический представитель Франции он тщательно изучал петербургские правительственные круги, высшее общество и двор Николая I. Это дает возможность автору развернуть обстоятельства последней дуэли Пушкина на фоне императорского Петербурга тридцатых годов, изображая события и нравы эпохи с точки зрения европейского политического деятеля, заинтересованного крупными государственными людьми и характерными общественными явлениями тогдашней самодержавной России.
Рассказ в предлагаемой хронике развертывается по линии подлинных событий тридцатых годов на основе актов, мемуаров, газет и писем эпохи. О самом д'Аршиаке до нас дошло немного свидетельств. Но в общей сложности они дают достаточно отчетливое представление о нем. Все знавшие д'Аршиака неизменно говорят о прямоте и благородстве его характера, о его уме и незаурядной образованности. Историки последней дуэли Пушкина не раз отмечали, что современники д'Аршиака отзывались о нем с величайшими похвалами, единодушно подтверждая, что он глубоко уважал и ценил Пушкина. Достаточно известно свидетельство В. А. Соллогуба, который в ноябре 1836 года, полу-
11
чив от Пушкина инструкцию насчет условий «самого беспощадного поединка», с замирающим сердцем отправился во французское посольство. «Каково же было мое удивление, — рассказывал он впоследствии, — когда с первых слов д'Аршиак объявил мне, что он сам всю ночь не спал: что он хотя не русский, но очень понимает, какое значение имеет Пушкин для русских, и что наша обязанность сперва просмотреть все документы, относящиеся до порученного нам дела»...
— Мы предотвратим, может быть, большое несчастье, — заключил свои соображения об отмене дуэли секундант д'Антеса, снова подчеркивая свое глубокое понимание значения Пушкина для России.
Соллогуб был живо тронут этой культурной чуткостью и душевным тактом своего собеседника. «Этот д'Аршиак был необыкновенно симпатичной личностью», — отмечает он в своих воспоминаниях.
Таковы и прочие свидетельства современников. Дочь историка Мещерская-Карамзина сообщает в своих письмах, что д'Аршиак воздавал высокую хвалу героическому облику Пушкина. Александр Тургенев заносит 30 января 1837 года в свой дневник запись о беседе с д'Аршиаком: «Поведение Пушкина на поле или на снегу битвы назвал он «parfait»1. Но слова его (Пушкина) о возобновлении дуэли по выздоровлении отняли у д'Аршиака возможность примирить их». Таким образом, до самого конца секундант д'Антеса не терял из виду возможности примирить противников. Наконец, свое письмо-протокол Вяземскому д'Аршиак заканчивает указанием: «В продолжение всего дела спокойствие, хладнокровие и достоинство обеих сторон были совершенны». Необходимо ответить, что ближайшие друзья Пушкина — Вяземский, Жуковский, Данзас, Александр Тургенев — не изменили после 27 января своего доброго отношения, к д'Аршиаку, как бы признавая этим безукоризненность всей его роли в дуэльной истории.
Таков общий моральный облик интересующего нас французского дипломата. Но из различных свидетельств выступает также и круг его разнообразных умственных интересов. Из записей Александра Тургенева видно, что он вел с д'Аршиаком беседы на серьезные политические и культурные темы. Различные государственные напра-
_________________________
1 безукоризненным (фр.).
12
вления в России — русская и немецкая партии, речи Гизо, французский театр и парижские салоны — все это проходит в их разговорах. Не лишено характерности, что в момент, когда потребовалась для выборов Баранта в Петербургскую Академию наук записка о его научной деятельности, Александр Тургенев обратился не к советнику или секретарям посольства, а к младшему сотруднику атташе д'Аршиаку. Он, очевидно, был наиболее близок к научным интересам посла Баранта, известного писателя, ученого, блестящего историка и видного литературного исследователя.
Значительно позже — через семь лет, в ноябре 1843 года — Ал. Тургенев, встретившись с д'Аршиаком в одном из ресторанов Парижа, вступил с ним в беседу о петербургских событиях 1836—1837 годов и в тот же вечер занес в свой дневник, очевидно со слов своего собеседника: государь не любил Пушкина1. Д'Аршиак, видимо, и в этом вопросе с безошибочной проницательностью определял подлинное положение вещей, столь тщательно скрытое от многих других свидетелей последней дуэли Пушкина.
На основе таких исторических свидетельств, но с необходимым развертыванием скудных фактических показаний современников воссоздана личность д'Аршиака в предлагаемой повести. На правах исторического романиста автор применил к этому второстепенному персонажу минувшей трагедии обычный прием свободной разработки прошлого. Но в ней он исходил из точных показаний источников и строго намечал границы воображению свидетельствами исторических документов.
Нам показалось заманчивым вести рассказ о смерти Пушкина устами европейского дипломата, который мог свежим и острым взглядом наблюдать ход тогдашних петербургских событий. Лучше других д'Аршиак мог понять и истолковать поединок на Черной речке как одно из отдаленных проявлений тогдашней общеевропейской политической жизни. Представитель либеральной Франции тридцатых годов, прошедшей через две революции, он должен был критически отнестись к главнейшему оплоту легитимизма и реакции — петербургскому
__________________________
1Щ е г о л е в П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. II, 1928, с. 470. Пользуемся случаем отметить, что в нашей работе мы весьма многим обязаны этому прекрасному исследованию.
13
двору, правительству и высшему классу, сыгравшим столь печальную роль в гибели первого русского писателя.
Путешественник-иностранец, в служебные обязанности которого входило изучение нравов и характеров чужой страны, должен был развернуть дуэльные событья на фоне петербургского общества тридцатых годов, а в качестве члена французского посольства он, естественно, стремился сочетать выводы своих наблюдений с общей картиной политического быта тогдашней Европы.
Это значительно углубляет и, думается, правильно расширяет значение знаменитой дуэли, вводя ее в круг тех западноевропейских событий, с которыми она была невидимо и явственно связана. Не одно только столкновение индивидуальных интересов и личных страстей служило стимулом катастрофы, но и сложное сплетение противоборствующих общественных, сословных и партийных сил, неожиданно прорвавшееся наружу благодаря независимой и непокорной личности вовлеченного в их ход великого поэта.
Свои петербургские мемуары д'Аршиак направляет, по замыслу автора, известному французскому писателю Просперу Мериме, высоко ценившему творчество Пушкина и живо интересовавшемуся его личностью и судьбою. Убежденный поклонник прозы и враг стиха, Мериме примирился с поэзией благодаря Пушкину. И. С. Тургенев свидетельствует, что автор «Кармен» решался признавать творца «Цыган» величайшим поэтом в присутствии самого Виктора Гюго. Лирические стихотворения Пушкина он считал «эллинскими по правде и чистоте» и в некоторых отношениях даже ставил нашего поэта выше Байрона. Как раз в конце сороковых годов Мериме приступает к серии своих переводов из Пушкина — в 1849 году он публикует французский текст «Пиковой дамы», в пятидесятые годы появляются в печати «Цыганы» и «Выстрел», затем «Анчар», «Пророк» и друг. В этом живом и творческом интересе Мериме к Пушкину находит себе оправдание наша гипотеза о беседе французского писателя с тем лицом, которое в Париже сороковых годов полнее всего могло осведомить его о трагической судьбе любимого русского поэта.
Обращение к Мериме служит, впрочем, только некоторым обрамлением к основному изложению. Эта во-
14
ображаемая установка повествования д'Аршиака определяет отчасти общий принцип композиции «Записок», сочетающих, согласно обычной формуле такого рода произведений, историческую правду с романическим вымыслом. Автор стремился на всем протяжении рассказа не жертвовать первою во имя второго, стараясь найти точную линию пересечения двух основных элементов исторического романа — Dichtung und Wahrheit1. В основу хроники положены подлинные события, воссозданные нередко по неизданным архивным материалам, но свободно разработанные в целях оживления одной из самых печальных страниц русской истории.
Декабрь 1929
______________________
1Поэзия и действительность (нем.).
15
ЗАПИСКИ Д'АРШИАКА
Господину Просперу Мериме, главному инспектору исторических памятников, члену Академии надписей и изящной словесности, литератору.
Париж, 3 февраля 1847 года.
Дорогой друг,
вы, вероятно, помните, что год тому назад за обедом у Тортони вы задали мне вопрос, как мог я принять участие в убийстве одного из величайших поэтов всемирной литературы? Мне вспоминаются ваши слова о строгом вкусе этого замечательного мастера, его неутомимом стремлении к совершенству и великолепной простоте его лирических строф. Я не забыл и прочитанный вами превосходный перевод одного из его стихотворных фрагментов на классическую латынь, единственно способную, по вашим словам, передать на драгоценном материале римских поэтов несравненную мощь подлинника:
At vir virum
Misit ad Antchar superbo vultu1.
Я затруднился тогда ответить непосредственно на ваш большой и трудный вопрос и, если помните, предложил изготовить особый мемуар, в котором памятные события моего петербургского пребывания были бы приведены в систему и могли бы пролить некоторый свет на таинственный эпилог вашего любимого поэта. Труд мой закончен, и я посылаю его на ваш суд.
_________________________
1 Но человека человек
Послал к Анчару властным взглядом.
16
Приступая к его чтению, вспомните, прошу вас, знаменитые слова, сказанные Наполеоном Гете, при их встрече в Эрфурте: «Политика — вот трагический рок наших дней». История столь прошумевшей дуэли останется непонятной, если мы оторвем ее от общего хода больших политических сил нашей сложной и бурной эпохи.
Пока это еще недостаточно понято людьми нашего поколения. За десять лет, прошедшие с этого печального события, мне приходилось неоднократно беседовать со многими русскими о причинах дуэли, участниках ее и различных обстоятельствах, вызвавших и сопровождавших знаменитое столкновение. Александр Тургенев, Андрей Карамзин, госпожа Смирнова, Яков Толстой, ваш друг Соболевский — все эти лица, близко знавшие и любившие Пушкина, передавали мне, вместе со своими личными мнениями, установившиеся на их родине суждения о январском поединке 1837 года.
Современники этой трагедии, естественно, ищут непосредственных виновников события и называют определенных лиц. Голландский посланник Геккерн и его приемный сын Жорж д'Антес, отмеченные обвинением самого Пушкина, вызывают единодушное осуждение. Их считают обычно единственными авторами разыгравшейся трагедии. Вокруг этих имен создается вполне понятная легенда, превращающая средних представителей своей среды в замаскированных извергов, неудачно прикрывших своими орденами и титулами преступные и кровавые замыслы.
Я не собираюсь ни защищать их, ни ослаблять долю их действительной вины и участья в событии. Но я хотел бы установить подлинное лицо убийцы Пушкина. И мне кажется, что, по некоторым обстоятельствам, мне это нетрудно будет сделать.
Я был послан в 1835 году в Россию с особым поручением изучать, в виду военной возможности, петербургское общество, верхний слой которого на моих глазах и сыграл столь плачевную роль в гибели своего знаменитого поэта. Не знаю, было ли ясно для его представителей, но это совершенно очевидно для меня, что весь этот круг, взятый в целом, выполнял при этом огромный план одной великой исторической борьбы. Отдельные лица явились только случайными, полусознательными и необходимыми исполнителями верховной воли обширного и замкнутого международного сословия, представленного в Петербурге лишь частью так называемой общеевропей-
17
ской аристократии. Петербургские Нессельроде, Строгановы, Уваровы, Голицыны, Орловы, а вместе с ними, конечно, и Геккерны, и фон Либерманы, и ди Бутера, как и возглавлявший всех их император Николай, представляли единую сплоченную силу, повсеместно стремившуюся к удержанию господства и власти в своих слабеющих руках.
В те дни европейская реакция, запуганная в свое время Великой французской революцией, была снова до полусмерти устрашена июльским переворотом в Париже. С начала тридцатых годов представители и служители тронов тесно смыкаются во всей Европе, собирая свои скудеющие силы для решительного сражения с новой вольницей, призванной повсеместно смести их. После Франции Бельгия, Польша, Португалия, Неаполь — все угрожает этой отмирающей власти мятежами, восстаниями, казнями и гибелью. И обреченное сословье, привыкшее раболепствовать перед Бурбонами, Габсбургами и Романовыми, по мановению своих венценосных повелителей в ужасе бросается душить всякое проявление независимой творческой мысли. В сущности, жертвой этой воинствующей ненависти и пал Пушкин.
Поединок 27 января 1837 года был одним из отдаленных проявлений этой великой всеевропейской борьбы.
В России, где все запаздывает на полстолетья, я еще застал в тридцатых годах картину дореволюционной Франции. Наверху — старый, вымирающий, но еще достаточно цепкий деспотический слой, уже получивший несколько грозных уроков от фрондирующей гвардии, внизу — подавленное, но уже поднимающее голову третье сословие, исполненное свежих нерастраченных сил, презирающее титулы и состояния, окрыленное мечтами о свободной, разумной и счастливой жизни всех.
Великий поэт нации, принадлежавший по рождению к высшему дворянству, в час борьбы не мог остаться в его рядах. Он стал выразителем идей молодого поколения и, как лорд Байрон, бросился в ряды защитников и завоевателей будущего.
И, несмотря на внутреннюю борьбу, обычно свойственную поэтическим натурам, он до конца остался заклятым врагом того придворного круга, который и отомстил ему казнью на Черной речке. Мне прекрасно известно, что в самый момент его смерти он был признан главарем русской оппозиции и возбудителем революционного движения.
18
Таков был голос правящих кругов, дипломатии и придворной знати. Сам император велел сжечь все рукописи поэта, отмеченные духом вольности, и сослал его труп в глухую ночь в далекий монастырь, боясь повторения в Петербурге знаменитых похорон генерала Ламарка, превратившихся в жестокую антиправительственную демонстрацию.
И власть в этом случае не ошиблась в оценке революционного облика Пушкина. Недаром она так настойчиво и упорно требовала от него выражений преданности и отречений от вольнодумства. Жестокие законы жизненной необходимости и повышенная впечатлительность художника заставляли подчас поэта идти на уступки. Но ему не удавалось выдерживать до конца эту роль верноподданного. Его мятежная природа и свободолюбивая мысль прорывались сквозь все оковы и бросали свой угрожающий вызов господствующим силам его эпохи. Они не оставались в долгу, и упорная борьба с этим опасным возбудителем умов длилась годами, пока наконец перед двумя барьерами смертельного боя не стали с одной стороны закоренелый легитимист, слуга Бурбонов, любимый паж герцогини Беррийской, международный роялист д'Антес, с другой — русский поэт, прославлявший всеевропейскую вольность и слагавший гимны всем революционным кинжалам Запада.
Кто не знал, что Пушкин восхищался в молодости жестом Лувеля, заколовшего герцога Беррийского, а д'Антес был обласкан в юности вдовою убитого — знаменитой Марией-Каролиной, принцессой Обеих Сицилий?
Таковы были подлинные соотношения сил в день дуэли в петербургском обществе, в европейских салонах, быть может, во всей текущей главе всемирной истории.
Говорю это как участник события и отчасти как государственный деятель. Мое родство с великим Сен-Симоном научило меня всматриваться в глубокие истоки исторических событий. Там, где хотели видеть только трагедию ревности, разыгрывалась великая драма столкнувшихся политических сил современности. История, как всегда, самовластно вершила судьбами и жизнью отдельных лиц.
Как турист и писатель, я сохранил у себя материалы для моей ненаписанной книги «Путешествие в Россию». Это — заметки, наброски, вырезки из газет и журналов. Как дипломат, я имею доступ к архивам французского посольства в Петербурге — его депешам, донесениям,
19
меморандумам и протоколам. Как близкий родственник д'Антеса, я могу свободно пользоваться обширным собранием его фамильных документов. Все это помогло мне восстановить во всей точности эту минувшую историю, в которой судьба заставила меня участвовать.
Я оказался случайным свидетелем гибели одного великого поэта, павшего жертвой скрытой и яростной борьбы сил в современном европейском обществе. Во всем сочувствуя ему, я волею обстоятельств был отброшен в стан его убийц.
Вот почему рукопись, которую я посылаю вам, является для меня отчасти исповедью. Но главная моя задача не в этом. Я хочу обстоятельно ответить на ваш вопрос и показать вам подлинное лицо многоглавого убийцы Пушкина. Это объяснит вам и степень моего участия в предсмертной истории поэта.
Вы простите меня, дорогой Мериме, если в дальнейшем я буду касаться известных вам международных фактов и борьбы партий в Европе. Это, повторяю, неизбежно, ибо трагическое событие, о котором я поведу рассказ, было следствием столкновения великих и неудержимых токов истории, вовлекавших в свое роковое течение отдельных лиц, целые сословия, общества и государства.
Примите же на свой беспристрастный суд этот правдивый исторический мемуар и разрешите его автору всемерно рассчитывать на вашу обычную благосклонность и неизменное снисхождение к нему.
Виконт д'Аршиак,
директор департамента Восточной Европы
министерства иностранных дел.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
С престола пал другой Бурбон...
Пушкин. 19 октября 1831
I
Летом 1835 года произошел крутой поворот в моей дипломатической карьере.
В этот год, как всегда, король отправился 28 июля на парад войск парижского гарнизона и Национальной
20

гвардии Сены в честь трехдневной революции, даровавшей ему престол старших Бурбонов.
Истекало пятилетие с момента его воцарения. Теперь он мог, наконец, считать свою власть упроченной и свою династию установленной во Франции. Правда, крайние партии еще глухо бурлили в редакциях и клубах и террористические покушения не прекращались. Но зато за границей авторитет новой власти необычайно возрос. Недавнее охлаждение иностранных дворов к парижскому правительству сменилось теперь всеобщим признаньем. Если не считать далекой и все еще упорствующей России, европейские державы единодушно приняли в сношениях с королевскими представителями обычный тон дипломатической вежливости. Сам Меттерних сменил надменный холод своих недавних нот на достаточную почтительность к преемнику Карла X.
О вооруженном вмешательстве северной коалиции уже не могло быть и речи. Сквозь дымку надвигающихся политических событий можно было предвидеть бракосочетание наследного принца французов с юной австрийской эрцгерцогиней. А этот кровный союз Орлеанов с Габсбургами мог бы обеспечить «королю баррикад», как его называли роялисты, полноправное вхождение в сонм помазанников божьей милостью. И тогда борьба мнений вокруг его трона улеглась бы, и сам непреклонный император Николай был бы вынужден склониться перед торжественным освящением новой парламентской монархии апостолическим величеством древнейшего европейского трона.
Так мыслили в Тюильри. И несмотря на некоторые тревожные сведения о возможных выступлениях республиканцев, празднества пятой годовщины воцарения Луи-Филиппа I протекали спокойно и стройно.
Нарядно и бодро протянулись вдоль разукрашенных бульваров живые изгороди парижских полков. Под прямыми лучами июльского солнца, окруженный сверкающим штабом маршалов, принцев крови, адъютантов и министров, сам король с театральным величием гарцевал вдоль развернутых легионов, поднося по временам свою белую перчатку к пернатой треуголке с трехцветной кокардой.
Обрамленное шелковистыми бакенбардами, его одутловатое лицо с неподвижной улыбкой и ярким румянцем приветливо склонялось к человеческим толпам,
22
встречавшим раззолоченных всадников гулкими криками: «Да здравствует король!»
А пока процессия неторопливо, как герольды в опере, двигалась по главным проездам Парижа, направляясь от площади Мадлен к Бастилии, — в одном из угловых домов бульвара Тампль, против самой решетки Турецкого сада, в жалкой квартирке на третьем этаже, какой-то смуглый силач с красным шарфом, обмотанным вокруг шеи, устанавливал на подоконнике перед спущенной шторой непонятный и грузный предмет.
То было сильное огнестрельное оружие невиданного типа. На дубовой наклонной подставке особым приспособлением были связаны в один смертоносный узел двадцать четыре ружейных ствола, плотно заряженных картечью. Эта небольшая адская машина, способная уместиться в дорожном чемодане, обладала боеспособностью целого взвода стрелков.
Канонир этого необычайного орудия с последней точностью наводил дула на свободное русло мостовой, по которой предстояло проехать королевскому кортежу. Он, очевидно, рассчитывал охватить процессию самым гибельным косым огнем сверху и с этой целью упорно и напряженно искал математически строгий угол линии прицела. Наконец он решительно и крепко завинтил свою комнатную батарею и начал сыпать мушкетный порох на полки стволов.
Момент приближался. Издалека уже доносился гул войск, подымавших по кварталам раскаты своих приветственных кликов. Приподняв край шторы, человек в красном шарфе уже мог заметить на углу улицы Шарло вспыхнувшую золотом шитья и орденов сплошную движущуюся группу военных; уже можно было явственно различить одиноко гарцующего впереди всадника под высокой шляпой с белым плюмажем. Смуглый механик метнулся в заднюю комнату, проверил морской канат, прикрепленный к окну в пустынный дворик, вернулся к своему орудию и решительным жестом опустил в карманы своей куртки кинжал и кастет. Затем он быстро зажег мохнатый фитиль и припал глазами к расщелине своей шторы,
«Да здравствует король!», «Да здравствует Луи-Филипп!» — гудело и росло, подкатываясь к завешенному окну, зловеще таившему за зеленой шторой неведомый аппарат смерти. И король, довольный приемом парижского населения, возбужденный своей верховой прогул-
23
кой, все радостнее и веселее кивал своим синим ротам, неутомимо расточая с высоты танцующего коня ласковые жесты, взгляды и улыбки.
Конная группа королевского штаба приближалась к углу улицы Фоссэ дю Тампль, когда резкий грохот оглушительной стрельбы внезапно разорвал воздух. С высоты невидимого редута неслась беспорядочная трескотня ружейной пальбы, словно прерываемая гулкими раскатами орудийных взрывов.
В одно мгновенье разукрашенный бульвар принял облик поля сражения. Картечь свистела в воздухе и прыгала по камням мостовой. Крики боли и вопли панического отчаяния поднялись невообразимым гулом со всех сторон. Испуганные лошади вздыбливались, пронзительно ржали, неслись и сбрасывали всадников. Со всех сторон падали окровавленные люди, и у самых копыт королевского иноходца несколько маршалов и флигель-адъютантов лежали бездыханными или умирающими.
Улица была усеяна трупами. На мостовой у самой обочины тротуара билась в предсмертных судорогах белокурая девушка, почти ребенок, с трагически искаженным лицом и расширенными от ужаса глазами.
Из-за оконной шторы на третьем этаже противоположного дома валили густые клубы черного дыма...
Через полчаса во всех концах Парижа с ужасом говорили о безвестном террористе, решившем одним выстрелом уничтожить королевскую фамилию.
Около пятидесяти человек было убито и ранено адской машиной Джузеппе Фиески (имя его вскоре было установлено). Но страшный корсиканец не рассчитал удара. Обрызганные кровью случайных жертв, головные всадники кортежа — Луи-Филипп с двумя сыновьями — пронеслись крупной рысью вдоль каштанов Турецкого сада.
II
В тот же день король созвал чрезвычайное заседание совета министров. Все юбилейные празднества были отменены. Палата пэров, превращенная в верховный трибунал, на другой же день открыла свои судебные действия.
Партии всколыхнулись и стали ожесточенно перебрасываться взаимными обвинениями в организации страшной бойни. Легитимисты утверждали, что Фиески — рес-
24
публиканец, выполнявший 28 июля указания революционного комитета. Недаром дом на бульваре Тампль был некогда занят одной из якобинских секций. Республиканцы, в свою очередь, распространяли слухи, что на стене комнаты с адской машиной были вычерчены лилии Бурбонов вокруг лозунгов «Да здравствует Генрих V!».
Официальный «Moniteur», стремясь внести спокойствие в общество, понизить разгар партийных страстей и предотвратить гражданские распри, опровергал эти обвинительные домыслы партий. Но весь политический мир Франции глубоко всколыхнулся от внезапного покушения, и яростные словесные битвы бросили друг на друга карлистов, орлеанистов, республиканцев, сенсимонистов и все их бесчисленные ответвления и органы.
Покушенье Фиески вызвало крутой перелом во внутреннем управлении страной. Палаты в спешном порядке провели реформу судов, усилив их полномочия по политическим делам. Знаменитые сентябрьские законы отменили свободу печати.
Одновременно сказался поворот и во внешней политике. Для обуздания крайних партий необходимо было во что бы то ни стало добиться окончательного признания королевского правительства северными державами — оплотами государственного порядка и врагами анархии. Сближение с Россией, по-прежнему отказывавшей в признании Луи-Филиппу, выступало как неотложная задача.
Уже в середине сентября стало известно, что старый друг нашей семьи, знаменитый историк барон Проспер де Барант, один из самых влиятельных пэров Франции, назначается послом в Санкт-Петербург. Секретари петербургской миссии были выбраны самим министром. Барант предложил мне сопровождать его в качестве атташе при посольстве.
Я всегда мечтал быть писателем-дипломатом. Образ Шатобриана, сумевшего так блистательно совместить литературную и политическую славу, прельщал меня, как и многих моих сверстников. Изучать по его следам неведомые племена и чудесную географию для дорожных писем и ученых путешествий представлялось мне самым завидным поприщем.
Вот почему привлечение к петербургскому посольству чрезвычайно обрадовало меня. В то время входили в моду дипломатические депеши нового типа. Вместо делового протокола полномочные посланники писали литера-
25
турные отчеты о нравах страны, быте высшего общества и характерах виднейших государственных деятелей. Европейские политические канцелярии гордились сотрудниками, блиставшими выдающимися литературными дарованиями и сообщавшими своим правительствам статистику или придворный календарь в остроумной и живописной форме путевого журнала.
Я чувствовал определенное призвание к этому жанру. Воспитанный на французских авторах восемнадцатого века, я рано увлекся красочной прозой романтиков. Две литературных манеры скрестились в моем сознании, чтобы выработать новый тип повествования. Мне хотелось совместить ясность и точность прозрачной прозы Вольтера с окрашенной взволнованностью романтических поэтов. Острота и отчетливость контуров не исключала, казалось мне, многоцветной искрометности всей картины. Я верил, что латинскую строгость очертаний можно совместить с пестрой колоритностью восточных сказочников.
Этим принципам стиля, казалось, вполне соответствовала наша новейшая политика с ее точными программами и бурным ходом событий. За последнее сорокалетие Франция видела дюжину политических смен. Можно ли верить в стойкость и прочность режимов? Не правильнее ли с мудрым спокойствием Монтеня погружаться в книги философов, забывая о битвах форума?
Я приходил понемногу к выводу, что важны не формы правления, а люди, их маски, их жесты, их интриги, их споры, их борьба за власть. Текущая история представлялась мне материалом для художественных воплощений, захватывающей драмой современного человечества.
Детали и неприглядная обстановка слагающихся международных событий менее занимали меня. Партии и программы, интриги и статистика, фантастическая принадлежность к определенному крылу палаты, безусловное согласие с передовой статьей известного листка — все это было мне мало свойственно. Мне были дороги широкие и большие течения современной истории — общий ход революционных волн, которые в течение полувека не переставали омывать и сотрясать Францию. Вот почему последняя революция не отбросила меня в эмиграцию, а обратила к служению нации, освобожденной от старой вымирающей династии.
Вопреки традициям моей семьи, отличавшейся всегда легитимистскими убеждениями, я решился служить но-
26
вой Франции, вышедшей из Июльской революции. По предложению Баранта я написал, в виде испытания, мемуар на тему «О значении ущерба, нанесенного Венским конгрессом Датскому королевству, за его приверженность Бонапарту». Вскоре затем я был принят в число младших сотрудников министерства иностранных дел.
После двух лет случайных и неопределенных поручений я неожиданно получил — двадцати четырех лет от роду — заметное дипломатическое положение при первом европейском дворе. В числе немногих лиц, предназначенных с осени 1835 года представлять «короля милостью революции» Луи-Филиппа I при дворе грозного северного самодержца, находился, по точному обозначению официального протокола, и младший архивариус отдела политических работ Лоран-Арнольф-Оливье-Демье де Сен-Симон виконт д'Аршиак.
Таково было мое полное наименование. Оно обозначало и земельные владения нашего рода на Нижней Шаранте в старом Аршиаке, и наше родство с двумя носителями прославленных имен Франции: пышным вельможей семнадцатого века — герцогом Луи де Сен-Симоном, оставившим свои знаменитые мемуары о придворной жизни Людовика XIV, и отважным мечтателем о новом устроении человечества на основе справедливости — графом Анри де Сен-Симоном, провозгласившим среди политического хаоса начала столетия великую необходимость создать для блага самого многочисленного и самого обездоленного класса современной Европы новую религию труда, науки и братской солидарности.
III
16 ноября официальный «Moniteur» сообщал:
Королевским приказом господин барон де Барант, пэр Франции, назначен посланником короля французов при его величестве императоре Российском.
На другой день мы были приглашены к председателю совета министров и министру иностранных дел герцогу Брольи на чрезвычайное совещание. Я впервые наблюдал руководителя внешней политики Франции в ответственном и трудном выступлении.
Наш премьер — философ и мечтатель. Герцог Брольи женат на дочери мадам де Сталь и, видимо, перенял от
27
своей тещи пристрастие к отвлеченному мышлению. В управлении страной он теоретик и систематик. Власть над людьми он считает величайшей безвкусицей и, кажется, охотно бы отказался от своего поста. Либерал в эпоху реставрации, он, как верный ученик доктринеров, стал теперь консерватором. Англоман, он хочет в Париже казаться вигом. К людям он относится с вежливым презрением, несмотря на христианский уклон своей философии. Он горд, спокоен и холоден. Такие люди всегда нравились мне, быть может потому, что сам я на них нисколько не похож.
Высокий, сухой и величественный, герцог Брольи обратился к нам с деловым напутствием:
— Ввиду исключительной важности миссии, возлагаемой обстоятельствами времени на санкт-петербургское посольство, — начал он, — я должен оттенить перед вами, господа, два основных момента в сложном вопросе о нашем отношении к России. Первое — необходимость для нас рассеять недоброжелательство императорского кабинета к новой либеральной Франции, рожденной двумя революциями. Задача огромной трудности, которую, впрочем, нельзя признать непреодолимой.
Он откашлялся, как перед большой речью в палате, и строгим тоном поученья продолжал:
— Мы прекрасно знаем, что император Николай считает Июльскую революцию величайшим оскорблением, какое когда-либо было нанесено наследственным династиям. Нам известно, что польская армия была в свое время мобилизована для военной экспедиции в Париж, что царь открыто заявил себя защитником Карла X, с которым Россия, как вам известно, была в союзе. Июльская революция, как мощная реакция против идей Священного союза, посягает на те основы политического могущества русского самодержца, которые в течение целого десятилетия облачали его страну неограниченной диктатурой в Европе. Отсюда нескрываемая враждебность к нам этого монарха и всего высшего слоя русского общества, беспрекословно принимающего в вопросах политики мнения своего суверена.
Герцог Брольи, как искусный оратор, сразу поставил перед нами свою тему под острым углом.
— Вы можете заключить отсюда, — продолжал он, — какие трудности стоят на вашем пути. Вам придется постоянно и упорно преодолевать их, отнюдь не стремясь к излишней интимности двух дворов, но неуклонно налаживая нормальные взаимоотношения двух правительств.
28
Премьер-министр сделал внушительную паузу, предвещавшую развитие главного тезиса его речи.
— Но такова только первая задача, стоящая перед французским посольством в Петербурге. Трудность ее чрезвычайно повышается вторым, и главным, нашим заданием — препятствовать успеху русской политики на Ближнем Востоке и не допускать захвата императором Николаем Константинополя и проливов. Стремление его повторить над Турцией эксперимент разделов Польши встретит с нашей стороны, как и со стороны Англии, энергичное сопротивление. Я затрагиваю очень сложную военную проблему, господа, и я вынужден напомнить вам беспримерную речь, которую царь только что произнес в Варшаве.
Заведующий отделом славянских земель сделал небольшое экспозэ октябрьской речи императора Николая к польским депутатам.
Оказывается, проездом через Варшаву царь наотрез отказался выслушать представителей города, под предлогом «избавить их от излишней лжи». Сам он обратился к делегатам польской нации лишь для того, чтобы заявить им, что всякая мечта о независимой Польше навлечет на них неслыханные бедствия.
— Я приказал воздвигнуть цитадель с пушками, обращенными на ваш город, — закончил он, — и я заявляю вам, что при малейшем признаке возмущения Варшава будет разгромлена до основания, и не я, поверьте, займусь ее восстановлением...
— Я перехожу к главнейшему пункту нашей беседы, господа, — провозгласил Брольи, слегка приподняв брови и руку, как бы призывая нас к сугубому вниманию. — Не будем тешиться иллюзиями: наше вооруженное столкновение с Россией совершенно неизбежно. Произойдет ли оно через год или через двадцать лет — к нему нужно готовиться сегодня же.
Мы насторожились. Все почувствовали, что деловое напутствие главы правительства затронуло какую-то большую историческую тему.
— Нам необходимо не только неутомимо собирать сведения о военном и гражданском быте русской империи, но иметь исчерпывающую и цельную картину современного состояния России во всех ее слоях и укладах. Нам нужны отчетливые и полные характеристики нравов, мнений и сословных взаимоотношений этой рабовладельческой страны. Вот почему для этой исключительно важ-
29
ной миссии король остановил свой выбор на вас, господин барон, — обратился он к Баранту, — высоко ценя ваше блистательное перо историка.
Барант с признательной улыбкой наклонил свою серебрящуюся голову.
— Мы приветствуем привлечение вами в свиту посольства молодого виконта д'Аршиака, — премьер приветливо взглянул на меня, — ибо старшим чиновникам нашего министерства известно его увлекательное «Путешествие в Голландию». Мы будем ждать из Петербурга обстоятельных депеш о самых разнообразных сторонах русской жизни во всех ее живых и характерных особенностях. Для вашей наблюдательности и литературного рвения открывается широкое поле деятельности, и мы надеемся, что с вашей помощью Российская империя, вечно угрожающая, далекая и неведомая, перестанет быть для нас тем сфинксом, пред взглядом которого до сих пор беспрекословно склоняется Европа.
Совещание наше было закончено. Барант, окруженный своей петербургской свитой, отдавал нам в соседнем зале последние распоряжения.
— Мы оставляем Париж через неделю. Будьте готовы, господа. Приведите в порядок все бумаги. Запаситесь шубами и меховыми сапогами. Перечтите путешествия в Московию Корба и Флетчера — они очень поучительны. Не забудьте Карамзина! Захватите рекомендательные письма к представителям русской знати. Вспомните всех своих родных и знакомых в Петербурге — это очень важно! Без этого нам не завоевать ни русского общества, ни его грозного повелителя.
Последнее указание Баранта заставило меня задуматься. Я невольно отдался воспоминаниям моей ранней юности.
IV
В Петербурге уже около трех лет жил мой кузен и школьный товарищ Жорж д'Антес.
Это был своеобразный и очень одаренный юноша. Мы были с ним почти однолетки, воспитывались вместе в старинном лицее Бурбонов, где я сблизился и подружил с ним.
Тонкий, с нежным, почти девичьим лицом, Жорж пленял не только изящным обликом, но еще более своим
30
веселым нравом. Он рано проявил особый дар непринужденной светской шутки, и разговоры с ним превращались обычно в забавный поток каламбуров, анекдотов и острот. Лицеисты обожали его, как прекрасного товарища, девицы нашего подрастающего круга были от него без ума.
Это рано сообщило ему черты какой-то детской избалованности, от которой он никогда не мог освободиться впоследствии. Он был очень способен, но немного ленив, отличался быстрой сообразительностью, живостью ума и прекрасней памятью. Свободно импровизируя свои ответы профессорам, он внешним блеском, непринужденностью речи, находчивостью и остроумием часто прикрывал отсутствие точных и верных знаний.
Он был первым по фехтованию, танцам и гимнастике, из наук же интересовался только историей и географией. Охотно мечтая о путешествиях, государственной службе и военных подвигах, он рано выказывал себя страстным роялистом, следуя, очевидно, каким-то фамильным преданиям: мой дядя Жозеф-Конрад, отец Жоржа, занимал в палате депутатов место среди крайне правых. Отражая, по-видимому, воззрения своих старших, мой сверстник с большим пренебрежением говорил о якобинцах и карбонарах, с восхищением заявляя о своей преданности трону и готовности положить жизнь за королей Франции.
Не удивительно, что по окончании лицея Жорж д'Антес сделал попытку вступить в пажеский корпус Карла X. Это могло сразу приблизить его ко двору и облегчить пути к военно-политической карьере. Недостаток вакансий в этом строго замкнутом питомнике вельмож заставил его удовлетвориться Сен-Сирской военной школой. Здесь, в соседстве Версаля с его королевскими преданиями и замке времен Людовика XIV, мой юный роялист впервые проявил себя. Я был свидетелем одного из его первых триумфов.
В июне 1830 года состоялся обычный инспекторский смотр сенсирцев. На этот раз годичному торжеству придавалось особенное значение. Только что открылись военные действия против алжирского бея.
Причины войны были, как всегда, многообразны и таинственны. Королевское правительство стремилось усилить свое влияние и мощь за счет контрибуций и постоянной добычи африканских шелков, кож, шерсти и металлов. Карлу X были необходимы также военные успехи, чтобы круто повернуть вправо курс внутренней поли-
31
тики. Лавры победоносной кампании могли позволить ему нарушить неприкосновенность хартии.
И вот, в конце мая, французский флот оставил Тулон! Огромная армия под общим командованием военного министра должна была высадиться на африканском побережьи.
Всюду только и было толков что о войне. Ускоренный выпуск Сен-Сирской школы носил характер правительственной демонстрации. После обычного парада предстояли разнообразные «олимпийские игры» — состязание сен-сирских воспитанников в различных военных упражнениях: фехтовании, стрельбе, гимнастике.
Ввиду особого значения этого смотра военной молодежи среди разгорающихся батальных действий, на празднестве присутствовали представители королевского дома — сам дофин Луи-Антуан, герцог Ангулемский, со своей сухопарой супругой, знаменитой дочерью Людовика XVI, и вдовствующая невестка наследника, молодая герцогиня Беррийская в сопровождении своего подростка-сына.
Принцесса Обеих Сицилий Мария-Каролина, ставшая женою герцога Беррийского, пользовалась в то время особенной известностью. Чуждая строгому этикету последних Бурбонов, она окружила себя молодой и веселой свитой, в которой находила полное утешение своему раннему вдовству. Ее празднества, поездки и приемы славились во всей Франции.
Всем было памятно, как в феврале 1820 года, при выходе из оперы, был заколот кинжалом рабочего Лувеля ее муж дюк де Берри, младший сын престарелого дофина и вернейший претендент на французскую корону. Через семь месяцев вдовствующая герцогиня в присутствии всех чинов гвардии рожала наследника французского престола, причем с изумительным самообладанием разрешила перерезать пуповину лишь после того, как принадлежность ей новорожденного была засвидетельствована двадцатью гренадерами и одним маршалом Франции.
Так родился герцог Бордоский, граф Шамборский, прозванный Генрихом V и ставший впоследствии знаменем французских легитимистов.
В те дни его имя еще не вызывало политических страстей. Толстый нарядный мальчик, весьма мало озабоченный вопросами престолонаследия, был чрезвычайно заинтересован турниром сенсирцев. Он, видимо, унаследо-
32
вал от матери ее вкус к различным упражнениям в силе и ловкости. Герцогиня, как известно, отлично скакала верхом, стреляла из ружья, фехтовала в мужском костюме, мастерски владела пистолетом. Она знала толк в лошадях и любила появляться в сопровождении крупных борзых, легавых или шотландских овчарок.
Не удивительно, что из королевской ложи внимательно следили за развертывающимся зрелищем.
Всеобщее внимание было захвачено своеобразным стрельбищным состязанием. Среди различных способов проявить свое искусство стрелкам было предложено также упражнение с живой мишенью. То был особый вид модной тогда голубиной охоты. Для каждого стрелка спугивалась большая стая голубей, с правом для состязающегося сделать двенадцать выстрелов в разлетающихся птиц. При быстроте прицела и действий это иногда удавалось. Но обычно пестрая голубиная гоньба, испуганная ружейными выстрелами, панически разлеталась и исчезала из поля зрения охотника задолго до его последнего выстрела. Трудность состязания заключалась и в разноцветном оперении каждой стаи, и в различьи пород, среди которых обязательно имелись турманы, т. е. кувыркающиеся в воздухе летуны, катящиеся с высоты, подобно шару, почти до самой земли, чтобы снова стремительно взлететь по вертикали на огромную высоту.
Эта беспрерывная подвижная пестрядь в воздухе не переставала рябить в глазах охотника и сильно понижала шансы попаданий.
Уже почти весь отряд отборных стрелков прошел перед барьером открытого тира, но даже счастливцы имели пока не больше двух-трех подстреленных птиц.
Таково было состояние турнира, когда к барьеру подошел Жорж д'Антес. В толпе товарищей прошел ропот сочувствия: он уже успел завоевать себе репутацию одного из лучших стрелков Сен-Сира.
Все насторожились. Раздался громкий хлопнувший звук спугивания стаи, и огромный, живой и разноцветный букет, словно трепеща бесчисленными лепестками, всплыл из-за заслона посреди лужайки и начал растворяться в воздухе. Шелковистое оперенье гонных голубей отливало на солнце своими белоснежными, сизыми, алыми и фиолетовыми тонами. Безрассудные катуны уже начинали низвергаться с высоты, кувыркаясь через голову и сливая в сплошное пестрое пятно свое центробежно вращавшееся оперенье, когда почти без перерыва разда-
33
лись первые выстрелы Жоржа. Медленно расплывавшаяся стая словно вздрогнула, шарахнулась, взметнулась и в торопливом ужасе смертельной опасности устремилась в стороны и ввысь.
И вот белая птица, быстро трепетавшая своими крыльями по зеленому фону дальних лесов, словно рассыпалась целым облаком серебристых перьев и мертвым комком свалилась в траву. Вот вслед за нею ярко-красный шар вращающегося турмана остановился, и птица, пылавшая на солнце своей безумной и закономерной игрой, низверглась в поросли лужайки. Вот свалился матовый черный грач, вот под острым углом неожиданно преломился стремительный полет сверкающей свинцово-синей птицы.
Я оглянулся. Ефрейтор едва успевал передавать Жоржу заряженные ружья, с такой быстротой он разряжал их и протягивал руку за следующим. Еще два-три удара, и Жорж спокойно оперся о свой карабин. Все двенадцать зарядов были выпущены. Егерь уже нес с поля трофей победы, целую связку убитых голубей, под дружные аплодисменты юнкеров, офицеров и зрителей.
Жорж с торжествующим видом протянул руку за своим трофеем и, высоко подняв свою пернатую связку, понес ее к королевской ложе. Здесь, преклонив колено, он опустил еще теплую добычу к ногам герцогини Беррийской. Через несколько минут начальник школы генерал Менуар провозглашал, что первый приз по труднейшему стрельбищному состязанию завоевал ученик младшего курса Сен-Сирской школы Жорж-Шарль д'Антес. Герцогиня с улыбкой, полной восхищения, протягивала победителю большой чеканный кубок — награду за победу — и, явно любуясь красавцем стрелком, произносила ему какие-то ласковые слова.
Затем, обернувшись к генералу Менуару, она громко сказала:
— Вот какие воины нам нужны для борьбы с Гуссейном-пашой.
Это была красивая человеческая группа. Седеющий начальник сенсирцев, высокий и плотный в своем парадном мундире, стройный и юный Жорж, радостно возбужденный своей победой, и между ними маленькая хрупкая женщина с загорелым лицом неаполитанки, раскосыми глазами, небрежно вздернутой верхней губкой и великолепными рыжими волосами венецианского отлива, заколотыми большим золотым гребнем.
34
По всей ее маленькой фигуре была разлита раздражающая чувственность южанки и какая-то капризная страстность, кружившая головы всем придворным ее свиты. Недаром Шатобриан назвал ее впоследствии итальянской канатной плясуньей. Она действительно широким жестом актрисы или фокусника раздавала с высоты своей ложи призы победителям.
Жорж с горящими глазами и радостным лицом возвращался к своим товарищам, высоко поднимая над головой сверкающий на солнце кубок. В ореоле своих белокурых волос, колеблющихся от ходьбы под открытым небом, он шел опьяненный одержанной победой, полученной наградой, кликами юнкеров, рукоплесканьями трибун и улыбкой восхищенной герцогини. Это был триумфатор и завоеватель, уверенно и бодро шагающий вперед к новым трофеям и победам. И только рукава его белоснежного мундира были местами покрыты свежими пятнами и влажными брызгами крови. Темные струйки еще сбегали с его нарукавных отворотов, словно предсказывая этому будущему конквистадору земных успехов, что все наши победы или завоевания — славы, денег, власти, женщин — это только безостановочное шествие сквозь прерванные жизни к новым бестрепетным и смертельным ударам.
Это хищное празднество смутило меня. Свежая кровь обладает свойством притягивать к себе взгляды и словно держать их в своей власти. Я долго не мог отвести глаз от этих белых обшлагов с тонкими позументами и блестящими пуговицами, обильно залитыми кровью вольных и прекрасных птиц, так беспечно и бессмысленно убитых...
На другой день в приказе по Сен-Сирской школе, после извещения о результатах состязаний, сообщалось, что получившие накануне три королевских приза удостоились особой милости герцогини Беррийской: они зачислялись в состав ее личных пажей.
Так начиналась придворная карьера Жоржа-Шарля д'Антеса.
* * *
Он вступил на политическое поприще в трудное время. Победы в Африке готовили бурю в Париже. Д'Антесу недолго пришлось присутствовать в почетной свите герцогини, сопровождая ее на охоту и прогулки. Через
35
два месяца Тюильри было оцеплено баррикадами, и сен-сирские юнкера выступили на защиту белого знамени.
Наступила та бурная пора жизни д'Антеса, которая рано выработала из него политического деятеля особого типа, какие создаются обычно в смутные эпохи государственных переворотов, заговоров и мятежей. Это те отважные, решительные и самонадеянные люди, которые непреклонно верят в успех и стремительно идут к намеченной цели, опрокидывая по пути все препятствия. Они любят риск, крупную игру, опасные комбинации, возбуждающую атмосферу необычайных и угрожающих приключений. Они бывают пленительны и беспощадны. Окружающие служат им только средством для достижения их целей, и ко всем людям они одинаково подходят с непроницаемой бронзовой маской.
Через несколько недель после сен-сирского празднества королевская власть во Франции зашаталась. Жорж д'Антес отважно ринулся в свое первое боевое крещение на защиту бурбонских лилий. От веселых состязаний и упражнений в ловкости ему предстояло теперь перейти к настоящей смертельной борьбе. Уже не связку подстреленных турманов, а мятежные трехцветные знамена восставшего Парижа нужно было сложить пажу герцогини Беррийской к ногам его королевы.
V
Я хорошо помню эти дни. На пятницу 30 июля были назначены мои первые экзамены. Уже две недели, как я усиленно готовился к моей первой встрече с профессорами. Мы сидели по целым часам с моим товарищем по факультету Жюлем Дюверье, читая сборники старинных законодательных актов или же рассказывая поочередно историю политических конгрессов от Мюнстера до Вероны.
Мой школьный товарищ был необычайно привлекателен и своеобразен. Он принадлежал к так называемой «церкви сенсимонистов». С большим увлечением излагая доктрину учителя, он утверждал, что вся политика есть наука о производстве, что общество нужно организовать научно, что власть должна принадлежать ученым, художникам и работникам.
В нем самом, несмотря на тяжелую костную бо-
36
лезнь, сделавшую его с детства инвалидом, было много артистически изящного. Костыли не нарушали своеобразной прелести его внешнего облика. Он носил костюм сенсимонистов: бархатную шапочку, белый шарф, небрежно падающий концами на плечи, короткий синий редингот, сильно вырезанный книзу, белый жилет, черный пояс и узкие белые брюки.
Этот живописный наряд напоминал костюм эпохи Возрождения. И сам Жюль Дюверье, с его большими сияющими глазами и гладкими падающими волосами, подстриженными почти у плеч, сильно походил на известный флорентийский портрет молодого Рафаэля.
Он принадлежал к новой республиканской молодежи, и все воззрения его были смелы и неожиданны. Помнится, за три дня до назначенного экзамена, в понедельник 26 июля, мы изучали декреты Национального собрания. В бурной истории этого учреждения мне понравилось одно из первых заявлений жирондистов, смело потребовавших, еще в монархическую эпоху, чтобы титулы «государя» и «величества» были заменены более конституционным званием «короля французов»...
— Это пустой либерализм,— с ноткой холодного осуждения произнес Жюль.
— Не должны ли все мы стремиться к вольнолюбивости? — удивился я.
— Мы все должны служить новой силе — индустриализму, — с глубокой убежденностью произнес мой друг. — Необходимо противопоставить политическим фразам либералистов всю энергию действующего и производящего общества...
Эта была одна из тех поражающих мыслей, которые излагал подчас Дюверье, исходя из какой-то неведомой мне обширной и всеобъемлющей системы.
— Но кто же тогда будет управлять обществом? Не короли же? И не парламент?
Но Жюля нельзя было сбить или смутить такими вопросами.
— Вся светская власть — производителям, вся духовная — ученым, — отвечал он. — Ты хочешь знать, как будет устроено будущее общество? Оно будет индустриализовано, то есть охватывать всех производящих работников. Этот класс был до сих пор на последнем плане в нашем феодальном обществе, — он займет теперь первое место, отбросив назад военных, законоведов и собственников. Власть в новом мире будет при-
37
надлежать только разуму и труду. Мыслители и ученые заменят прежнюю религию отречения новым учением о жизни и ее творческих силах. Деизм уступит место физицизму, религии точных знаний, объединенных завоеваниями физики. Отрицательная и бездеятельная заповедь христианства: «не причиняй зла другому» — будет заменена положительным и действенным принципом; «каждый должен работать». И соединенные усилия трудящегося человечества, направляемые великими вождями точной науки, преобразят нашу планету и откроют новую историческую эру...
Мой маленький флорентиец, произнося свою проповедь, был прекрасен. Казалось, говорил не экономист и не историк, а поэт, доводящий смелый замысел социального реформатора до степени образного видения.
— Будущее человечество, — продолжал он, встряхивая свои шелковистые пряди и устремляя на меня глубокие пылающие взгляды, — будущее человечество, организованное для разумного труда, пророет каналы и туннели, воздвигнет мосты и арки, скует земной шар стальными путями, доведет технику до сказочной мощи, соединит материки и превратит всю нашу несчастную, скорбящую и болеющую землю в райский сад с волшебными чертогами. И все люди, населяющие эти подлинные поля блаженных, будут объединены великой взаимной любовью, чувством глубокого сострадания, ощущеньем всемирного братства...
Меня невольно увлекали эти вдохновенные и стройные мысли, которые отец мой выслушивал подчас с чувством снисходительного скептицизма, называя их пустыми утопиями. Философские прения Жюля с отцом представляли для меня особый интерес по странному контрасту их взаимной личной привязанности и резкой противоположности их политических воззрений. В этот день неожиданные события должны были открыть между ними ряд особенно напряженных дебатов.
VI
Из-за нашей системы усиленных занятий Дюверье оставался у меня обедать, а иногда и ночевать. В тот день, выйдя к столу, мы застали за ним отца вместе с его старым другом, известным роялистом маркизом Фуассак ла Туром. Оба они были взволнованны и с
38
большим оживлением обсуждали последние известия «Moniteur».
Я с детства знал Фуассака и привык к нему. Это был старичок с высоким блестящим лбом и длинными пушистыми волосами, покрывавшими своими серебрящимися прядями высокий ворот его синего фрака. Верный старинным модам, он перевязывал у колен тонкими шелковыми ленточками свои короткие панталоны, никогда не изменяя белому цвету чулок и серебру больших квадратных пряжек на лакированных башмаках. Яшмовая овальная табакерка с миниатюрой Марии-Антуанетты стала неизбежной принадлежностью его беседы, постоянно вращаясь средь его пальцев, неожиданно раскрываясь перед лицом его собеседника или же с треском захлопываясь в заключение гневной фразы о бонапартистах, республиканцах или дурных советниках короля.
В последнем пункте маркиз Фуассак нередко расходился с моим отцом, который был «ультра», то есть крайним роялистом, и не допускал никакой критики ни короля, ни его министров. Принадлежность к партии трона предполагала, по его мнению, безусловное одобрение всех действий верховной власти. «Только такое совершенное и беспрекословное подчинение еще может спасти Францию», — постоянно повторял он.
Маркиз же, любя политику во всех ее разнообразных проявлениях, не мог отказать себе в удовольствии критически разбираться в мероприятиях правительства. Он считал, что дурные министры были причиной наших «несчастий восемьдесят девятого года», и отстаивал право королей на личную систему правления и неограниченные полномочия.
Вот почему каждое выдающееся событие текущей политики неизменно вызывало между ними живой обмен мнений. Так было и на этот раз.
— Это неслыханно! — негодующе восклицал Фуассак, комкая газету и снова заглядывая в нее, — свобода периодической печати отменяется, палата депутатов распускается, избирательные законы недействительны... Ведь это намеренный вызов революции!
— Король знает, что он делает, мой дорогой маркиз, и, поверьте, знает это получше нас с вами. Неужели вы думаете, что у него недостаточно войск, чтобы подавить уличные беспорядки в Париже?
— Король знает, но этого не знает Полиньяк, подсказывающий ему эти опаснейшие меры. Знаете ли вы,
39
что журналисты подписали сегодня возмутительное воззвание, в котором осмеливаются оспаривать законность королевского правительства?
— Маршал Мармон одной батареей успокоит все парижские редакции, — невозмутимо отвечал мой отец.
— Вы шутите, виконт? Вы хотите братоубийственной бойни на улицах Парижа? Вы успели позабыть девяносто третий год?
— Это меры необходимой защиты против врагов алтаря и трона. В минуту угрозы государственному порядку они должны быть применены.
Мы с Дюверье заинтересовались этой беседой и подняли скомканный «Moniteur». Официальный отдел газеты открывался манифестом:
Мы, Карл, милостью божьей король Франции и Наварры, — всем, кто увидит настоящее, шлем поклон.
По докладу нашего совета министров мы приказали и приказываем следующее...
Мы быстро пробежали знаменитые ордонансы. Конституционная хартия действительно была грубо попрана. Старый Фуассак был прав: это звучало вызовом революции.
— Да здравствует республика! — восторженно воскликнул Дюверье.
— Ну, до республики еще далеко, — с нескрываемой строгостью заметил мой отец.
— Увы, — вздохнул Фуассак, — кажется, не так далеко, как вы полагаете. Снова повторяются непоправимые ошибки короны...
— Вы решаетесь осуждать короля, маркиз?
— Я осуждаю дурных советников монарха. Увы! Король повторяет ошибки своего несчастного брата...
И старый роялист меланхолически раскрыл свою табакерку с миниатюрой последней французской королевы...
— Напротив, — с жаром заявил отец, — я нахожу, что сегодня он начинает по-настоящему царствовать! Мы наконец слышим голос власти...
— Он призывает к государственному перевороту, к гражданской войне, к резне в Париже, — не унимался Фуассак. — Вы увидите, что все мы будем висеть на фонарях...
И портрет Марии-Антуанетты с сухим треском защелкнул табакерку.
40
На другой день события разрастались. Мы забросили книги и решили пройтись по революционному Парижу.
Маневрирование войск еще не препятствовало свободному движению пешеходов. Огромная толпа скоплялась на бульваре Капюсин у здания министерства иностранных дел, требуя выдачи Полиньяка. В нескольких местах были разбиты и разграблены лавки оружейников.
Первым был очищен известный магазин на улице Ришелье под вывеской:
ЛЕ-ПАЖ
Оружейник короля
Кто не знает этой подписи знаменитого мастера по гладким стволам охотничьих карабинов и граненым дулам дуэльных пистолетов? Толпа ринулась в его лавку. И вот восьмидесятилетний старец снова, как сорок лет назад, в дни первого великого восстания на Бурбонов, добровольно отдает мятежным парижанам свое оружие и заряды...
На улице Нев-Сен-Марк перед редакцией республиканского «National» выстроились отряды жандармов и взвод солдат.
Толпа густой массой окружала здание редакции, подняв головы к балкону, у перил которого с холодным и спокойным лицом стоял молодой оратор, поразивший меня своим изысканным костюмом — черным рединготом, белым жилетом и лакированными сапогами.
— Это главный редактор газеты, Арман Каррель, — шепнул мне Жюль. — Любопытный характер: он республиканец из гордости и не любит уличной черни...
У Армана Карреля энергичная мужественная фигура. Он служил в войсках и сохранил военную выправку. С черным хлыстиком в руке, он напоминает молодого кавалериста. Лицо его отважно и надменно. Целая волна густых вьющихся волос поднимается над его чеканным лбом. Брови сурово сдвинуты, глаза глядят прямо и дерзко. Он напомнил мне римские бюсты в вестибюле Бурбонского лицея — Муция Сцеволу или Кая Гракха.
— Граждане! — раздавалось с балкона, — агенты умирающего правительства, преступно нарушившего хартию, потребовали от нас сдачи наборов и типографских машин. Мы решительно отказали. Жандармы ре-
41
шили взломать двери редакции. Ни один ремесленник не согласился пойти на эту гнусную работу. И вот представители короля приводят к народной редакции взломщиков и воров из тюрем, с помощью которых они хотят надеть намордник на свободное мнение свободной французской нации. Ответим же им баррикадами, граждане, дадим отпор неслыханному насилию над мыслью и словом!
А пока он говорил, двери взламывались, и через широкие окна первого этажа можно было видеть, как жандармы рылись в ящиках редакции, а в соседнем типографском помещении опечатывали прессы, опустошали наборные кассы и разбрасывали свинцовые тексты.
Часть толпы ринулась на защиту республиканской редакции, другая человеческая волна хлынула вниз к площади Пале-Рояля, где слышна была перестрелка.
Мы устремились туда же. Здесь группа рабочих остановила омнибус и опрокинула его. Образовалась первая баррикада. Откуда-то тащили мешки и бочонки для укрепления этого революционного форта. Из мостовой извлекались булыжники.
Навстречу нам двигался революционный отряд в странном вооружении. Только что артиллерийский музей на площади Фомы Аквинского был занят восставшими. И вот аркебузы Карла IX и копья Франциска I, мушкеты с фитилем эпохи кардинала Ришелье, алебарды, щиты и даже шлемы Готфрида Бульонского — все виды французского оружия, накопленные старой династией, были пущены в ход для ее свержения.
Смеркалось. Где-то запылало казенное здание. В дальних улицах раздавались раскаты одиноких выстрелов.
Мимо нас кучка людей с гневными призывами к свержению Бурбонов пронесла труп старика, с беспомощно болтавшимися конечностями. Он только что был убит в одной из перестрелок с отрядом правительственных войск.
Необычен был весь облик чинного королевского Парижа, взъерошенного пикетами и баррикадами. Но все это были только подготовительные действия, прелюдия к нарастающей революции.
Ночь прошла в глубоких потемках. Часть фонарей была разбита, фонарщики не вышли со своими факелами на вечернюю работу. Париж, погруженный в глубокий сумрак, молча готовился к решительной битве.
42
VII
В среду 28 июля мы действительно воочию увидели революцию. По мостовым двигались рабочие и студенты с криками: «Долой Бурбонов! Да здравствует свобода!» С памятников, казенных вывесок и дилижансов срывали знаки королевских лилий. Над городской думой и башнями Нотр-Дам тревожным и призывным вестником новой эры развевались трехцветные знамена революционных армий. Из окон и с балкона мы могли видеть перспективу бульваров и отдаленные проемы площадей, кипящих толпами. «Долой министров! Долой королевские ордонансы! Да здравствует хартия!» — раздавалось целый день по улицам и площадям Парижа.
В этот день маршал Мармон, которому король поручил защиту столицы, вызвал вспомогательные войска из Сен-Дени и Версаля. Сен-сирские юнкера, узнав о революции в Париже, присоединились к версальскому гарнизону.
Вечером на площади Людовика XV, где расположились бивуаком сенсирцы с колонной отступающего генерала Сен-Шамана, я разыскал Жоржа. Верный паж герцогини Беррийской готов был положить жизнь за свою даму. Он верил в конечную победу белого знамени и не придавал значения частичным поражениям. В этот день две колонны маршала Мармона были разбиты инсургентами. Только одной удалось прорваться к думе и занять здание. Правительственные войска потеряли свыше двух с половиной тысяч. Весь запад Парижа был в руках восставших.
На другой день все было решено. Так как Париж представлял собой почти сплошное поле сражения, мы с Жюлем покорились уговорам отца и следили с балкона за передвижением двух противоборствующих сил.
Победа явно доставалась восставшим. Уже к полудню на часовой башне Лувра развевалось революционное знамя. Вскоре, совершенно измученный невыносимой жарой, битвами, событиями и преследованием толпы, к нам ворвался Жорж д'Антес, каким-то чудом избежавший народного гнева. Он пробрался к нам в чужом плаще, прикрывшем его военную форму.
Оказывается, армия Мармона в паническом беспорядке отступила к Елисейским полям после того, как Казимиру Перье удалось возмутить часть королевских войск. Старик Фуассак с негодованием и горечью пере-
43
давал прозвучавшие сегодня в думе слова Лафайета о низложении королевской фамилии. И действительно, под нашими окнами проходили народные колонны с криками: «Да здравствует республика!»
— Дело короля еще не проиграно, — взволнованно говорил Жорж. — Правительство переедет в Тур, соберет верные войска и двинет их на Париж. Пора якобинства безвозвратно прошла для Франции. Потомки Генриха IV сумеют привести нашу родину к счастью и новой славе. Мы высоко взовьем поникшую орифламму Франциска I и Жанны д'Арк!
Старики рукоплескали Жоржу.
— Он будет замечательным оратором, — говорил отец, — мне нравится убежденность и воинствующая непрерывность его пафоса.
Жюль отважно спорил с Жоржем, горячо доказывая ему, что новое человечество охотно отдаст всех королей и дворян за одного ученого или рабочего.
Фуассак возмущенно разводил руками. Отец с сокрушением покачивал головой...
Наше маленькое общество отражало различные политические оттенки, разделявшие в то время взволнованное общественное мнение Франции. Оба старика, при некоторых различиях в их убеждениях, ждали полного поражения революции и укрепления на престоле Карла X. Друг мой, Жюль Дюверье, разделял мнения левых партий и ждал падения ненавистной монархии для установления республики трудящихся. Считая, как и он, что Бурбоны покрывают Францию бесславием, я все же верил в молодые силы третьего сословия, из рядов которого выдвинулось за последние десятилетия столько выдающихся адвокатов, ученых, публицистов, поэтов и драматургов. Я увлекался речами Тьера, Гизо, Одилона Барро, стихами и театром романтиков.
Наконец, как бы смыкая наш тесный круг, из рядов младшего поколения выступал юный сенсирец, неожиданно связанный с поколением стариков своей безусловной приверженностью к «скипетру Людовика Святого». Он, кажется, действительно готов был в те дни пролить кровь за воцарение Генриха V и особенно за «регентшу Франции» — Марию-Каролину, герцогиню Беррийскую.
Так в политических дебатах, под аккомпанемент гулких выстрелов, разносившихся по улицам Парижа, протекал этот памятный вечер.
44
* * *
Когда в самый полдень, под палящими лучами июльского солнца, королевские солдаты в панике бежали от Лувра к Триумфальной арке, у одного из окон на углу улиц Риволи и Сен-Флорентен появилось бесстрастное лицо сухого и величественного старца.
Это был умнейший из европейских дипломатов, слуга пяти режимов, герой Венского конгресса, восьмидесятилетний Талейран.
Долгим взглядом проводил он бегущие в беспорядке войска. Затем, повернувшись к своему секретарю, отчетливо произнес:
— Запишите, что 29 июля 1830 года в двенадцать часов пять минут пополудни Бурбоны перестали царствовать во Франции.
VIII
Утром 30 июля народ толпился на всех перекрестках, читая огромные плакаты.
Я вышел, чтобы узнать последние известия.
Афиша, никем не подписанная, начиналась заявлением, что Карл X не может вернуться в Париж: он пролил кровь народа. Затем в коротких повелительных фразах перечислялись заслуги герцога Орлеанского, который всегда стоял за дело революции, отважно сражался в рядах республиканских армий под Жемаппом и победоносно носил в огне трехцветную кокарду. Воззвание заканчивалось заявлением, что герцог присягнет хартии, защищающей права всех граждан, и получит корону из рук самого народа.
Афиша прочитывалась прохожими с молчаливым удивлением. Герцога Орлеанского, видимо, мало знали и совсем не ценили.
А между тем события неслись с головокружительной быстротой. Казалось, календарь еле поспевал за ними. В ближайшие же дни мы узнали, что герцог Орлеанский принял звание главного правителя королевства. Городской совет в прокламациях к жителям Парижа провозглашал, что король, попытавшийся потопить в крови законные вольности французских граждан, перестал царствовать во Франции.
Вечером 2 августа весь Париж читал письмо Карла к герцогу Орлеанскому, подписанное ночью в Рамбуйе.
45
Мой кузен,
я слишком глубоко огорчен бедствиями, которые сокрушают мои народы и могут угрожать им в будущем, чтобы не искать средств для предотвращения их. Я принял поэтому решение отречься от короны в пользу моего внука, герцога Бордоского.
Дофин, разделяющий мои чувства, также отказывается от своих прав в пользу своего племянника.
Вам надлежит поэтому в качестве главного правителя королевства провозгласить восшествие на престол Генриха V.
На другой день история прочертила в летописях Франции отчетливую грань: по словам Шатобриана, Бурбоны направились в изгнание в третий, и последний, раз.
Жорж д'Антес решил сопровождать членов королевской фамилии до того пакетбота, который должен был переправить их в Англию.
Отец мой пытался удержать его.
— Я исполню мой долг телохранителя короля, — отвечал он с непоколебимой стойкостью. — Отец мой оберегал в девяносто первом году последний отъезд Людовика XVI в Варрен, — я буду стражем его брата в таких же обстоятельствах. Я спасу Франции ее законного короля.
Когда через несколько дней мы получили от него особым и таинственным образом краткое сообщение, что он на пути в Шербург сопровождает низложенную королевскую семью, во Франции уже был новый король — Луи-Филипп I.
9 августа во дворце Бурбонов герцог Орлеанский принес присягу либеральной партии и получил из рук четырех маршалов, лишь пять лет перед тем короновавших в Реймсе Карла X, корону, скипетр, меч и палицу правосудия.
Открывался новый период в истории Европы.
Кто нас ведет, венки свивая,
Стезею славы и побед?
То вольность, вольность мировая,
То седовласый Лафайет...
Так распевал Париж знаменитые куплеты, пока видоизменялись все его топографические обозначения: площадь Людовика XV снова получила имя площади Революции, улица Карла X становилась улицей Лафайета, а «29 июля» сменяло на угловых дощечках имя гер-
46
цога Бордоского. Всюду тщательно стиралась память о печальных годах реставрации.
Отец мой и старый Фуассак ла Тур замкнулись в молчаливой и угрюмой оппозиции к новому правительству Июльской монархии, Жюль Дюверье ушел в революционные кружки бороться за будущую республику. Жорж д'Антес, получив бессрочный отпуск в Сен-Сирской школе, уехал к отцу в далекий и тихий Сульц.
* * *
Пять лет прошло с этих исторических дней. С тех пор я не видел Жоржа. До нас доходили неясные слухи о нем. Передавали, что он остался верен герцогине Беррийской и даже сопровождал ее в Вандею в 1832 году с целью вызвать восстание и произвести государственный переворот в пользу старших Бурбонов. Вскоре после разгрома легитимистов он уехал в Германию, а затем каким-то образом очутился в Петербурге, где быстро и уверенно продвигался по лестнице светских, служебных и придворных успехов.
Отец раздобыл мне его адрес. В Петербурге меня ждала встреча с товарищем детских лет, резвым школьником Бурбонского лицея, первым стрелком сенсирцев, последним пажем герцогини Беррийской и верноподданным некоронованного короля Генриха V.
IX
В конце ноября мы оставляли Париж. Большой дилижанс нового типа увозил по северным шоссе семью посла и нескольких его ближайших сотрудников.
В первом купе расположились супруги Барант, во втором — дочери барона и сын его Эрнест, тот самый, который пять лет спустя имел дуэль с поэтом Лермонтовым из-за княгини Щербатовой. Третье купе занимали младшие сотрудники посольства: я расположился в нем с двумя секретарями.
Все указания Баранта были мною выполнены. Рекомендательные письма, меховые вещи и маленькое собрание книг о мореплаваниях и сухопутных странствиях в Московию заполняли мои чемоданы.
В последние недели перед отъездом я успел прочесть несколько латинских описаний с пространными и наив-
47
ными заглавиями, вроде «Первое путешествие для открытий с тремя кораблями, отплывшими под начальством сэра Гуга Виллоби, в котором он умер, а Московия была открыта кормчим майором Ричардом Ченсельром в 1553 году». Я с любопытством изучал старинные географические карты и тонкие гравированные изображения островов, гаваней и крепостных стен. Несколько новейших историков дополняли мою дорожную библиотеку.
В серое осеннее утро мы выехали из парижской заставы. Не без грусти покидал я этот чудесный город, где в течение нескольких лет так жадно впивал в себя очарования высшей умственной цивилизации.
Литературные салоны стареющей Рекамье и вечно юной Виргинии Ансло, первые бурные представления романтических драм, выступления на раутах Сен-Жерменского предместья модных молодых авторов — Сент-Бева, Сю и Бальзака, — вот Париж моей молодости! Он отливал всеми оттенками ученой и художественной мысли: публичные лекции высокомерного Гизо, свободные и острые беседы завсегдатаев кафе Тортони и кулис Комедии, оперный театр, одушевленный новейшими композициями Обера, Россини и вулканического творца «Роберта-Дьявола», магнетические имена Гризи и Тальони, — все это сплеталось для меня в сплошное празднество новейших идей, смелых артистических завоеваний, изящных нравов и увлекательной жизни.
Мои личные вкусы, как и мое независимое положение в свете, давали мне возможность бывать в самых разнообразных кругах парижского общества. Роялистские связи отца вводили меня в строгие монархические салоны. Перед самым моим отъездом я был представлен знаменитой в политическом мире «посланнице», княгине Ливен, родной сестре русского государственного деятеля графа Бенкендорфа. Меня всегда тепло принимала известная госпожа Свечина, лучшая подруга семьи петербургского вице-канцлера Нессельроде. У этих представительниц европейской олигархии я впервые наблюдал то беспредельное благоговение перед властью неограниченного монарха, которое так характерно для высшего круга императорской столицы.
Но я бывал и в противоположном стане. Родство с великим Сен-Симоном и дружба с Жюлем Дюверье открывали мне доступ к общенью с республиканцами, у которых я научился понемногу относиться критически ко
48
всем учреждениям старой европейской государственности.
И, наконец, я посещал поэтические кружки. Я постоянно бывал в литературной гостиной прелестной графини Бельжойозо, где царили литераторы во главе с Альфредом Мюссе и где впервые я услышал от молодых романтиков неожиданную мысль о трагической судьбе поэта в новом европейском обществе.
— Неужели лирики стали менее нужны человечеству? — спросил я однажды Альфреда де Виньи.
— Поэты нужны будущим поколениям, которые ставят им памятники и переносят их прах в пантеоны. Современники же забавляются тем, что травят и преследуют великих мечтателей. Вспомните Чаттертона.
Виньи заканчивал в то время драму об этом несчастном английском поэте восемнадцатого века, которого обычная вражда общества к мятежному гению довела до самоубийства.
— Судьба его принадлежит всем эпохам, — продолжал мой собеседник. — Поэты всегда одержимы воображеньем. Как бы мощно ни было построено их сознанье, с какой бы широкой памятью и зорким вниманьем ни оценивали бы они действительность, фантазия всегда господствует над их мыслью. И это неизменно препятствует их общению с людьми. Мечта необычайно повышает их впечатлительность, и житейские треволнения, еле затрагивающие других, ранят их до крови. Обычное для всех разочарованье в окружающих повергает их в глубокое унынье, в мрачное отчаянье, в угрюмое одиночество, из глубины которого они бросают свой негодующий вызов современному обществу. Вот почему с неизбежной беспощадностью оно отвечает им смертными приговорами.
Впоследствии я не раз вспоминал эти слова поэта. Сама действительность вскрыла передо мною их глубокий смысл и печальную правдивость.
Итак, мне приходилось почти юношей подчиняться своей судьбе дипломата и, может быть, на долгие годы покидать лучший из городов с его театрами, салонами, ресторанами, публичными лекциями в просторных амфитеатрах Сорбонны и клокочущими балами в переполненных залах Оперы.
Что ждало меня в стране гипербореев? Не безумно ли было оставлять жемчужные туманы над Сеной и се-
49
рый шелк дождливых дней Парижа для сизой мглы арктического круга и немощной бледности полярных ночей? Но раздумывать было поздно. Призывно звучал рожок нашего почтальона, и даль неведомых странствий неудержимо влекла к себе.
X
Маршрут наш лежал на Готу, Берлин и Митаву.
Путь наш пролегал по многим достопримечательным местностям. Мы видели древние крепости, прославленные героическими осадами, и пустынные равнины, отмеченные историческими битвами. Мы осматривали Лютценское поле сражения, где пал Густав-Адольф, и Лейпцигскую долину, где потерпел свое непоправимое поражение Наполеон. В Готе нам показали комнату, где ночевал после печальной битвы народов разбитый император.
Мы задержались в Веймаре. Барант, посвятивший долгие годы переводу Шиллера, хотел видеть придворный театр, где впервые ставились его любимые исторические трагедии. Нас повели и к скромному домику руководителя этой сцены — к жилищу знаменитого поэта и министра Гете, лишь незадолго перед тем скончавшегося...
В середине декабря мы были в Берлине. Нас изумили здесь опрятность и прямолинейность улиц, строгость и чистота широкой липовой аллеи, замкнутой Бранденбургскими воротами с их грузной бронзовой квадригой. Мраморные статуи пяти полководцев Семилетней войны на Вильгельм-плаце подчеркивали тот общий военный облик прусской столицы, который за последние десять лет настолько усилился.
В Берлине нас принял давнишний приятель Баранта, знаменитый ученый и министр Александр Гумбольдт, только что вернувшийся из Парижа к своему двору. Это был долголетний гость Франции, поклонник ее ума и открытый друг Гей-Люссака и Араго.
За последние годы ему приходилось не раз выполнять у нас важные дипломатические поручения своего короля. Когда после июльского переворота прусский посланник в Париже, барон Вертер, совершенно растерялся, туда был послан Гумбольдт, мигом уладивший щекотливое положение вещей. В министерских кругах остри-
50
ли, что великий натуралист быстро успокоил страдания молодого Вертера.
Помнится, я залюбовался неправильной и мощной головой этого гениального мыслителя. Шекспировский лоб высоким фронтоном поднимался над выпуклыми аркадами бровей, из-под которых фосфорически вспыхивали прозрачные и зоркие глаза, словно отсвечивающие всеми искрами его неистощимого разговора.
Несмотря на близость ко двору, Гумбольдт в беседе с нами не скрывал горечи своих раздумий о текущем. Во многом он, видимо, разделял воззрения своего покойного брата, встретившего, как известно, с горячим энтузиазмом первые речи Мирабо.
— Европа вооружается, — услышали мы от великого мыслителя, — уроки вашей славной революции ничему не научили ее. В Петербурге вы увидите то же, что и в Берлине, — войска, войска и войска... Они нужны для новых перетасовок многострадальной карты нашего старого материка, для сплоченной борьбы северного абсолютизма с французскими идеями. Как будто можно остановить ход истории. Она, как всегда, постоит за себя, но ценою каких жертв и потрясений!.. Мы еще строим пока в Берлине музеи и открываем новые кафедры, — но надолго ли? В Европе становится душно, меня снова тянет в бескрайные пространства Азии и Америки... Вокруг нас пустеет... Лучшие люди гаснут в глубокой грусти от всего происходящего, с великой тревогой за будущее европейского человечества.
И знаменитый член всех академий мира взглянул на портрет величественного старца с огромными, ясными и горестно вопрошающими глазами.
— Так уходил от нас недавно мой друг Гете, — произнес он в заключение своей речи.
И на несколько мгновений его искрящиеся глаза потухли, и квадратный подбородок погрузился в белый галстук, слегка прикрывающий тонкую орденскую ленту с эмалированным крестообразным знаком.
XI
После Берлина общая картина нашего путешествия резко изменилась. Прежняя столица Пруссии, Кенигсберг, расположена в унылой и бедной местности. Восточная Пруссия — печальная и скудная страна, пустынная
51
и бесплодная. Здесь начинаются те бесконечные сосновые леса, которые тянутся почти сплошной полосой до самого Петербурга.
В своих любопытных путевых записках Марко Поло говорит, что Московия представляет собою равнину, покрытую лесами и пересекаемую большими реками, обильными рыбой. По его наблюдению, леса — это великие крепости, оберегающие Московское государство. Этими бесконечными естественными укреплениями нам пришлось ехать целую неделю.
За это время я успел прилежно изучить французский томик истории Карамзина, недавно лишь переведенный. Выпуклые характеристики древних князей и царей московских как бы служили мне введением в современный императорский Петербург.
Чтобы несколько развлечься от однообразных и унылых пейзажей, мы устраивали иногда в нашем купе деловые заседания, подготовляя предстоящую дипломатическую работу. Барант помещался в нашем отделении, и мы сообща просматривали бумаги, намечали проекты общих выступлений, обсуждали планы предстоящей трудной задачи — завоевания петербургского двора и общества. Нередко Барант, отвлекаясь от дел, рассказывал нам о различных случаях своей государственной деятельности или сообщал свои острые и живые размышления об истории поэзии или искусстве дипломата.
Это был удивительный собеседник. Широкий политический опыт, участие в крупных событиях нашей эпохи, близость ко многим историческим фигурам последних десятилетий европейской истории — все это сочеталось у Баранта с замечательным даром образного изложения. Знаток поэзии и сам несомненный художник, он не рассказывал, а поистине показывал свою тему. Люди и вещи, казалось, оживали под его многокрасочным словом, охваченным какой-то внутренней взволнованностью. Он умел не только пластически оформить минувших героев и отошедшие события, но придать им в своей живописи то драматическое движение, которое сообщало им законченную и стройную прелесть, свойственную произведениям искусства. Можно было слушать часами, как этот старый дипломат излагал свои беседы с Наполеоном и Талейраном или же описывал места своих служебных назначений — Мадрид и Варшаву, Парму и Рим. Старинные европейские города возникали перед нами со своими остроконечными профилями, закипали пестрыми
52
толпами, высылали к своим балконным решеткам неведомых и заманчивых чужестранок. Романтические эпизоды личных воспоминаний сплетались с громкими политическими событиями, и, казалось, страницы истории развертывали перед нами минувшую жизнь во всем ее свежем цветении и буйном трепетании.
— Историк должен стремиться к изображению, а не к анализу, — отвечал обычно Барант на все наши восхищения его рассказами. — Без этого факты высохнут под его пером, он будет торопиться извлечь из них выводы и расположить их согласно общей точке зрения. Их жизненность улетучится. Смеющийся и живописный облик страны уступит место точным контурам географической карты: вы сможете узнать правильное расположение и точную поверхность данной области, но не будете иметь о ней никакого представления...
Я навсегда запомнил приведенное однажды Барантом изречение Квинтилиана, представляющее, по его мнению, девиз всякого историка: пишите для самого рассказа, а не для доказательств.
Я решил следовать исторической и литературной школе Баранта, вполне отвечавшей моим слагавшимся вкусам. Уже в дилижансе я набрасывал в свою кожаную тетрадь путевые впечатления и пытался облечь в живую и законченную форму некоторые раздумья, сомненья и предчувствия.
XII
Перелом в моей жизни произошел в тяжелую и трудную годину. Год от рождества Христова 1836 был несчастен для Европы. Лето отличалось необыкновенной засухой, поля сгорали, речки пересыхали, жители городов изнемогали от недостатка воды. Судоходство по Сене почти совершенно прекратилось, дворцовые водовозы разъезжали по изнывающим окраинам. Холера-морбус пожирала население всего южного побережья. Тулон, Марсель, Ливорно и Афины были опустошены страшной болезнью. С конца лета над Европой повисла Галлеева комета, затмевавшая своим светящимся телом созвездие Ориона и возвещавшая, по народным представлениям, новые бедствия.
Предсказания досужих волхвов усугубляли общую тревогу. Госпожа Ленорман, как возрожденная Кассанд-
53
pa, пророчила нашествия, мятежи, казни, крушения тронов...
В такой момент я покинул Париж для неведомой и таинственной России. Если бы я был суеверен, я мог бы усмотреть в этом сочетании дурных знамений некоторое личное предостережение. Ведь само назначение мое в Петербург, в сущности, возникло из кровавого побоища на бульваре Тампль... Не подстерегает ли меня на новых путях неведомая катастрофа?
Но, к счастью, я достаточно воспринял от моих учителей скептическую мудрость великой энциклопедии, чтобы не придавать значения этим случайным гороскопам текущей истории. Я был преисполнен веры в успех моей новой деятельности и с молодой убежденностью в благополучии будущего стремился в резиденцию царей...
Мы быстро приближались к нашей конечной цели. Вопреки указаниям некоторых путешественников, нам пришлось менять в дороге самый способ передвижения. Папский нунций ко двору Ивана Грозного, Антоний Поссевин, говорит в своих записках о России, что ватиканский посол может доехать до самой столицы Московии в своем римском экипаже, так как на всем пути он не встретит ни морей, ни высоких гор.
Очевидно, этот старинный иезуит ездил в теплое время. Нам же пришлось в Митаве оставить наш дилижанс. Возки, поставленные на полозья, еще легче и бодрей понесли нас по глубокому, рыхлому снегу. Лошади, почтальон и путешественники одинаково испытывали радость близкого завершенья их пути.
И вот однажды утром вдалеке, на гладкой равнине, в бледных лучах январского солнца перед нами стали выступать из розового курева очертанья шпилей, глав и куполов. Из темных срубов предместий, из полосатых шлагбаумов и будок призрачным узором вырастал и вонзался в грузные небеса неведомый и торжественный город.
Что ожидало меня за его оградой?
Сердце на мгновенье сжалось грустью. Но я не имел времени предаваться раздумьям. Триумфальные ворота, с шестеркой вздыбленных коней на гребне гранитной арки в медной одежде, уже открывали нам путь в императорскую резиденцию. И вот заскрипели опускные бревна, загрохотали цепи, заверещали блоки, и чиновники столичной заставы, не требуя обычных подорожных, с глубоким благоговением перед знатными путешествен-
54
никами, пропустили за городскую черту посланника короля французов с его свитой.
Мы были наконец у цели наших странствий.
ГЛАВА ВТОРАЯ
...cette grande et sublime passion ¹.
П у ш к и н. Письмо барону Геккерну,
26 января 1837 года
I
Петербург великолепен и мрачен. Таким он показался мне при первом въезде, таким он сохранился навсегда в моем воспоминании.
Город русских императоров носит черты торжественной властности в стиле классического Рима, но только на фоне унылой и суровой природы, нарушающей своими тусклыми красками блеск атрибутов всемирного владычества. Каски, щиты и копья легионариев, рассыпанные по фризам дворцов и решеткам скверов, покрываются на целые месяцы густыми снеговыми шапками или тонут в мглистом тумане болотистых побережий Финского залива. Черные чугунные скакуны уныло стынут в желтых треугольниках казенных фронтонов, а белые крылатые гении беспомощно протягивают в утреннюю муть свои венки и пальмовые ветви. Вода, во всех направлениях обтекающая кварталы города и незримо размывающая его гранитные подножья, придает ему обличье самодержавного Амстердама. А вечные дожди отлагаются зловещими пятнами сырости на его пышных лепных фасадах и медленно растворяют фигурный алебастр его карнизов и архитравов.
И в довершение печальных контрастов этой искусственной столицы — огромное тяжеловесное и нарядное скопище дворцов, храмов, арок и колоннад опоясано грязными окраинами с их унылыми пустырями и нищими лачугами, угнетающими своей заброшенностью и беднотой.
Но при беглом обзоре город поражает своими размерами и убранством. Бесконечные улицы, огромные пло-
___________________
¹Эта великая и возвышенная страсть (фр.).
55
щади, прямые каналы, необычайный простор Невы, пышные купола и золотые стрелы башен, бронзовые колесницы и дорические капители — все это придает русской столице строгий и горделивый вид. Здесь всюду чувствуется жезл военного повелителя, превратившего свое обиталище в каменный лагерь, но не успевшего придать ему под слезливым северным небом прочность и завершенность мощных крепостных сооружений.
В утренний час, когда мы въезжали в Петербург, город был охвачен своеобразным оживлением. Во всех направлениях проносились курьеры и фельдъегеря, двигались караулы, маршировали военные части, растерянно торопились в свои департаменты чиновники, суетливо мелькали бесчисленные серенькие люди, покорные, озабоченные и запуганные. Где-то невидимо таились силы, приводившие в вихревое движение этих несчетных исполнителей чьей-то железной и неодолимой воли.
Эта прямолинейность, строгость и геометричность всей планировки города придает ему четкий, торжественный и пустынный вид. Как от всякой чрезмерной рассчитанности, от него веет холодной скукой. В римских атрибутах его чугунных решеток и каменных арок воплотилась бесстрастная жестокость восточных повелителей. Ужасающий лик безжалостного администратора, бросившего в финские трясины несокрушимые основы своей резиденции, до сих пор зловеще отпечатлен на ней. Это город для военных, царедворцев, сенаторов, чиновников и высшей государственной жандармерии. Это огромный и нарядный каменный ящик для самых страшных пружин правительственной машины.
Но это не город для поэта. Художник-фантаст, созерцатель образов, живописец слова, краски или звука должен без оглядки бежать из-под этих архитравов, перистилей и квадриг. Для артиста Петербург — страшное место. Мне всегда казалось, что этот гранитный палладиум императорской власти разобьет вдребезги каждого мечтателя, неосторожно забредшего в его неумолимый круг.
II
Оправившись с дороги, я решил первым делом повидаться с моим юным родственником. Я тотчас же отправил ему записку на Невский проспект в квартиру нидерландского посланника.
56
Через два часа, звеня палашом и блистая каской, ко мне с радостным смехом входил мой кузен.
Более пяти лет я не видел Жоржа.
Я расстался в 1830 году с неоперившимся юношей, почти школьником, тоненьким, белокурым и нежным. Меня встречал статный воин, окрепший в своих скитаниях, неожиданно представший предо мною во всем поразительном блеске своей мужественной красоты.
Я не мог скрыть своего восхищения. Д'Антес, как оказывается, приехал ко мне прямо с развода в парадной форме императорского всадника. Он поразил меня роскошью своих сверкающих доспехов, облекавших его гибкую фигуру ослепительными покровами металлического костюма и венчавших его выточенную голову рыцарским шлемом с литым серебряным орлом.
Лицо его возмужало и как бы отлилось в свои законченные формы. Скульптурная голова с удлиненным и безукоризненным овалом, высоким золотящимся тупеем и пышными зачесами к вискам была поднята высоко с каким-то молодым и радостным задором. Голубые, совершенно прозрачные глаза, обрисованные с тою же отчетливостью, что и все черты этой на редкость законченной наружности, бросали прямо на собеседника играющие лучи беспечной удали и безудержного веселья. Его прежняя тоненькая и длинная фигура напрягла теперь свои крепкие мышцы и довела их до атлетической мощи и гладиаторской гибкости. Из-под гладкого панциря с чешуйчатыми краями выступали могучие плечи, а мускулистые молодые руки были крепко облиты белым сукном мундира. Театральная форма царских кавалеристов с ее искрометными украшениями эполетов и полированным золотом кирасы сообщала стану этого петербургского гвардейца какую-то легендарную прелесть.
Я вдруг почувствовал, что Жорж д'Антес воспринял и выразил богатое северное наследие своей именитой родословной. По женской линии в его жилы влилась широкой струей кровь всевозможных титулованных фамилий старой Германии, уходящих своими корнями к рыцарским орденам крестоносцев. По отцу его род восходил к Далеким выходцам с острова Готланда и терялся в туманных дебрях старинных шведских генеалогий. Я почувствовал, что во внешности его не было ничего французского, южного, галльского или романского. Очертания скандинавских скалистых островов словно отпечатлелись на энергичных изломах его профиля, и стальные
57
отблески балтийских волн, казалось, отсвечивали на этом лице своей холодной игрою. Мне вспомнились витязи или боги норманнской мифологии с прозрачными глазами цвета морской воды и светлой гривой северных конунгов. И пока он стоял передо мною, лучезарный и ослепительный, скрестив свои перчатки с раструбами над резною гардой эфеса, высоко подняв голову и солнечно сверкая зеркальной поверхностью своей брони, мне вспомнился Фритиоф старинных изображений, воин и завоеватель в крылатом шлеме и сквозной кольчуге, струящейся по его кованым членам.
После первых приветствий, восклицаний и быстрых взаимных расспросов Жорж рассказал мне обо всем, что произошло с ним с момента нашей разлуки. Это была повесть о необычайных приключениях, отважных поисках славы, неожиданных встречах и поразительной игре счастливых случайностей и чудесных совпадений.
III
Он начал с августа 1830 года.
Пять карет, увозивших Бурбонов из Франции, докатились, под эскортом горсти телохранителей, до Шербургской гавани. Парусный бриг был готов к отплытию, и верный паж герцогини Беррийской расстался со своей дамой.
Он произнес на прощанье торжественную присягу легитимистов:
— Клянусь сделать все, что в моих силах, для восстановления и охраны законности и признаю за членами регентства право отнять у меня жизнь в случае предательства с моей стороны.
Получив вскоре бессрочный отпуск в Сен-Сирской школе, Жорж д'Антес вернулся на родину, в свой глухой и тихий Сульц.
Дядя Жозеф-Конрад поддерживал прочные связи с легитимистами. В Сульце знали все, что происходило при дворе низложенных Бурбонов.
Карлу X был предоставлен старинный шотландский замок Голи-Руд, в окрестностях Эдинбурга. Этот пасмурный дворец, занавешанный дождями и туманами, напоминал о печальной судьбе обитавших в нем некогда Стюартов. Жизнь потекла здесь замкнутая и томительная.
58
Привыкшая к балам, к празднествам, к веселому окружению своей свиты, герцогиня Беррийская изнемогала в изгнании. Она горела желанием вернуть утраченную корону своему сыну. И вот уже весною 1831 года в маленький приморский городок Англии начинают тайно паломничать французские легитимисты. Здесь изгнанная герцогиня завязывала первые узлы грандиозного политического заговора.
Еще по пути в Шербург д'Антес узнал, что в июльские дни она явилась к Карлу X в мужском костюме, с двумя крохотными пистолетами за поясом, предлагая бежать в Вандею и поднять там народное восстание. Ее уговорили следовать в Шербург для отплытия в Англию. План нового шуанского движения в Вандее или Бретани был отсрочен. Теперь наступал момент для его осуществления.
Страстная душа итальянской авантюристки настойчиво требовала реванша и слепо верила в победу. Она во что бы то ни стало хотела стать французской регентшей, подобно своей знаменитой соотечественнице Катерине Медичи. Во всяком случае, как и та, она, кажется, была готова на новую Варфоломеевскую ночь, лишь бы возвратить престол своему сыну. Воспоминания о Вандее не переставали волновать ее...
И вот зимой 1832 года Жорж д'Антес особым путем, через путешественников и таинственных посетителей, стал получать вести о своей честолюбивой повелительнице. В шифрованных письмах она сообщала ему о партии преданных ей сторонников, которые решили ближайшей же весною поднять южные провинции Франции, двинуться на север, захватывая власть в крупных городах, и, наконец, овладев Парижем, провозгласить низложение Орлеанов и воцарение Генриха V под регентством его матери.
Весной Жорж д'Антес в величайшей тайне оставил Сульц и явился на условленное свидание в Италию. При дворе герцога Моденского жила инкогнито главная заговорщица, собирая своих преданнейших сторонников.
Жорж услышал от вождей движения, тесно связанных с парижским комитетом карлистов, что все было подготовлено для переворота и политический заговор вызрел для своего осуществления. Вандея, по их словам, бродила и мечтала свергнуть узурпатора, Бретань глухо клокотала и ждала переворота. Иностранные дворы были готовы всячески содействовать новой реставрации.
59
«При малейшем успехе герцогини ее поддержат», — заявил император Николай тайному посланцу легитимистов. Голландия и Португалия, заклятые враги Луи-Филиппа, обещали снабдить его противников оружием и деньгами после первой же победы. Необходимо было во что бы то ни стало добиться успеха.
По мнению вожаков, достаточно было герцогине показаться народу, чтобы во главе молчаливо преданных войск двинуться на Париж и снова занять престол Капетингов.
Д'Антес с передовым отрядом сторонников герцогини оставил Тоскану и отправился в Вандею подготовлять движение. Необходимо было всюду рассеять прокламации «Марии-Каролины, регентши Франции».
В конце апреля корабль особого снаряжения перевозил заговорщиков с итальянского берега на побережье Марселя. Ночью был брошен якорь в глухой местности невдалеке от города. Герцогиня, закутанная в мужской плащ, высадилась на пустынном берегу. Часть ее свиты двинулась к городу и соединилась с местными роялистами. Марсель должен был подняться как один человек, — но он не поднялся. Неудачу объяснили трудностью развернуть восстание в большом портовом городе, переполненном полицейскими и шпионами.
Решено было двинуться в глубь деревень, на запад, к океану, в надежную Вандею и, может быть, прорваться дальше на север, в преданную Бретань.
«Раскройте врата счастью Франции!» — гласило торжественное воззвание к населению. Но врата не раскрывались. Народ не торопился проливать свою кровь за правнука Генриха IV.
Необходимо было ускорить события и дать сражение. Горсточка смельчаков сделала отчаянную попытку, и вооруженное столкновение двух партий наконец состоялось.
Бои под Шеном и Пенисьер решили дело. Роялисты были разбиты наголову. Герцогиня Беррийская бежала и скрылась в Нанте.
Остальное мне было известно и без Жоржа. Хитроумному Тьеру за 500 тысяч удалось купить секрет ее пребывания, и в ноябре она была арестована и заключена в укрепленный замок.
Политическому перевороту суждено было завершиться громким скандалом. В январе обнаружилось, что арестованная герцогиня беременна. Правительство Луи-Фи-
60
липпа поторопилось разгласить этот неожиданный факт, столь чреватый политическими последствиями. Левые газеты открыто заговорили о срыве государственных планов герцогини. Некоторые листки иронизировали на тему о любвеобилии итальянки. Редактор республиканского «Corsaire» был вызван на дуэль журналистом правого лагеря. Арман Каррель в своем «National» вызвал к барьеру двенадцать легитимистов и, выйдя на поединок, был тяжело ранен. Началась эпидемия дуэлей, охватившая всю Францию. Карлисты шли в бой за герцогиню, республиканцы — во имя революции. Казалось, в политической жизни страны утверждались нравы Вальтер Скотта.
Мода на дуэли была в то время в полном ходу.
Вызовы, барьеры, секунданты, Ле-Паж и Кухенрейтер... Мы начинаем теперь понемногу отвыкать от этого театрального обычая, стоившего жизни стольким горячим головам. В то время из военной среды поединки перешли в литературные круги, своеобразно окрашивая мирные нравы старых редакций. Стреляться стало модным явлением для журналистов и поэтов. Бретерство считалось в те годы одним из признаков одаренной натуры. Оно открывало возможность прославиться и придать блеск общественного удивления своему имени. Ведь обыватели, дельцы и филистеры не выходили к барьеру. Для этого нужен был героизм, свойственный творческим натурам. И опасная мода стала косить головы поэтов.
К этой печальной теме мне еще придется вернуться.
Неизвестно, к чему бы привели эти бесчисленные поединки, если бы 26 февраля официальный «Moniteur» не поместил бы письма самой герцогини с категорическим заявлением о том, что она тайно обвенчалась во время своего пребывания в Италии.
Взрыв негодования в легитимистских салонах, ирония и смех в орлеанских кругах. «Она прибыла во Францию требовать трона, ей пришлось просить фартук кормилицы», — острили политические противники. Но опытные карлисты решили действовать энергично: дипломаты и банкиры их партии заключили союз, чтоб «спасти честь герцогини».
И вот появляется на сцену мелкий политический авантюрист, некий граф Гектор Луккези-Палли, который всенародно подтверждает, что с лета 1832 года он тайно обвенчан с герцогиней Беррийской.
Этим объявленным браком регентша Франции спасала свою женскую честь, но утрачивала навсегда все права на французский престол. Ее историческая роль была сыграна до конца. Ей снова пришлось рожать в присутствии многочисленных свидетелей и затем подчиниться приказу Луи-Филиппа и навсегда удалиться за пределы Франции.
В июне 1833 года парусный корвет «Агата» доставил герцогиню с новорожденным младенцем в порт Палермо.
Так кончилась политическая жизнь Марии-Каролины-Фердинанды, принцессы Обеих Сицилий.
Пылкие сторонники регентши Франции не могли служить графине Луккези-Палли. Поклявшись в непоколебимой верности Генриху V, они рассеялись по иностранным армиям и дворам.
IV
К этому времени Жорж уже был в Сульце. После несчастных и бессмысленных сражений под Шеном и Пенисьер он, как и большинство сторонников герцогини, обеспечив ей безопасность в Нанте, скрылся.
К осени он уже был на родине. Здесь он провел два года в бездеятельности, обреченный на плачевную праздность политического изгнания. Полный сил, способностей и энергии, он скакал по полям и стрелял в окрестных рощах, в промежутках уныло слоняясь по тихим улицам и площадям старинного прирейнского городка с его зубчатыми башнями, крепостными стенами, готической ратушей и вековым капуцинским монастырем.
По временам он вел безотрадные беседы со своим отцом. Старик был глубоко потрясен падением Карла X, новым режимом журналистов в Париже и крупными ударами, нанесенными его родовому богатству революцией 1830 года.
Соседом д'Антесов по их эльзасскому поместью был герцог Баденский. Однажды Жорж встретился у него с принцем Луккским. Они вместе охотились, объезжали лошадей, занимались фехтованием.
— Как жаль, что вы прозябаете в вашем глухом Сульце, — сказал однажды Жоржу его новый знакомый, — почему бы вам не пройти военной школы в Пруссии? Я в добрых отношениях с прусским королем, хотите, я напишу ему о вас?
62
Предложение итальянского князя было обсуждено на семейном совете. Мой дядя Жозеф-Конрад, скорбевший о бездеятельной молодости своего одаренного красавца сына, решился на разлуку и высказался за его отъезд. В то время французы, верные Бурбонам, удалялись в Голландию, Пруссию, Австрию или даже в Россию, где занимали подчас высокие посты в войсках или администрации. Преданья старой эмиграции еще не иссякли, и воспоминания о зарубежных успехах роялистов были свежи. Жорж д'Антес решился вступить на этот испытанный путь. Он имел знатных родственников в Берлине и даже в Петербурге. Преданность законной монархии обеспечивала ему благожелательный прием при обоих дворах. Он решил искать счастья в чужих краях.
Герцогиня Беррийская, не прекращавшая переписки со своими сторонниками, обещала д'Антесу просить своего низложенного тестя поддержать перед «коронованными братьями» интересы верного защитника старой династии.
И вот ранней осенью 1834 года, с письмом герцога Луккского в руках, д'Антес явился к сыну прусского короля.
— Вы, может быть, думаете, — сказал ему принц Вильгельм, — что отец мой может делать все, что ему вздумается. Наши военные регламенты суровы, и никто не вправе нарушать их. В прусскую армию вы можете вступить лишь нижним чином, то есть унтер-офицером, но не то в России. Мой зять, император Николай, полновластен, и даже военная дисциплина склоняется перед его самодержавной волей. Я не сомневаюсь, что он окажет милостивый прием роялисту, пострадавшему за верность трону. Я дам вам к нему письмо.
Д'Антесу пришлось подчиниться совету принца Прусского. С некоторой тревогой он решил продолжать свои поиски счастья в далеком Петербурге.
А между тем жизнь продолжала сплетать по пути его эпизоды и приключения, достойные фантазии Анны Редклиф.
В скверное время, в осеннюю распутицу, почти без средств, прижимая к сердцу письма своих знатных покровителей, д'Антес снова пустился в путь.
Шли непрерывные дожди, дули пронзительные северные ветры. Ветхий дилижанс заливало водой и продувало дорожным сквозняком. Избалованный солнечным
63
Сульцем, Жорж захворал. В Любек он приехал совершенно больным. Не будучи в состоянии продолжать путешествие, он занял тесный номер в большой любекской гостинице с позолоченной вывеской «Город Гамбург», где лихорадил и бредил совершенно один, без спутников и родных, почти без денег. Какое дурное предзнаменование! Не отказаться ли от дальнейшего следования в Петербург? Не вернуться ли в Берлин?
В это время, по пути из Гааги в Петербург, в любекскую гостиницу заехал один знатный путешественник.
То был королевский нидерландский посланник при русском дворе, один из последних отпрысков древнего голландского рода баронов фан Геккернов де Беверваард. Получивший французское образование, служивший в молодости при Наполеоне, а впоследствии даже принявший католичество, барон Луи-Борхард фан Геккерн был большим поклонником Франции. Фамилия моего кузена, прочитанная им в списке постояльцев, оказалась ему знакомой и возбудила в его памяти довольно отчетливые фамильные предания. Знаток европейских родословных, он живо заинтересовался молодым и знатным французом, томившимся в заезжем трактире ганзеатического города. Он выразил пожелание познакомиться с ним.
С первых же бесед обнаружилась их общая принадлежность по женским линиям к старинным германским родам. В отдаленных сплетениях фамилий Нассау и Гацфельдов можно было найти совпадающие ветви, связывающие степенями свойства фан Геккернов с младшими представителями баронской фамилии д'Антес. Во всяком случае, посланник принял в Жорже живейшее участие, задержал свое дальнейшее путешествие, пригласил врачей и с материнской нежностью выходил его. Кузен мой с чувством глубокой растроганности передавал мне, с какой самоотверженной заботливостью ухаживал за ним этот видный государственный деятель, блиставший при первом европейском дворе.
Как только Жорж оправился, посланник с любезностью светского человека и щедростью вельможи предложил ему продолжать путешествие вместе. Он настоял на том, чтобы его новый друг совершил переезд в каюте первого класса, и даже вызвался покрыть расходы по билету, стоившему добрую горсть голландских червонцев.
В средних числах октября они заняли каюту на пиро-
64
скафе «Николай I» и через три дня прибыли в Кронштадт, уже связанные чувством самой тесной близости.
Барон Геккерн обещал Жоржу свою широкую поддержку при его вступлении в петербургский свет.
Между тем письма знатных покровителей Жоржа были доставлены по назначению. Государь отдал распоряжение допустить сен-сирского юнкера, достойно сражавшегося за французского короля, к офицерскому экзамену при военной академии.
Таким образом, Жорж д'Антес вступил в петербургскую жизнь под высоким покровительством Бурбонов и Гогенцоллернов, под крепкой защитой представителя нидерландского короля, при заочном благожелательстве императора Николая. Не удивительно, что он двинулся по пути успехов гигантскими шагами.
— И вот уже скоро два года, — закончил свой рассказ д'Антес, — как я зачислен корнетом в кавалергардский полк, состоящий под шефством самой императрицы. Паж герцогини Беррийской был признан достойным вступить в телохранители ее величества. Я отличен за смотры и маневры высочайшим благоволением, принят ко двору, бываю в лучших домах Петербурга, обласкан товарищами и начальниками. Дела мои в блестящем состоянии. Ты застаешь меня накануне повышения в чине. Вспомни, что иностранцам в русской армии случалось достигать высоких степеней. Мне кажется, я на пути к ним. Кто знает, друг мой, быть может, тебе суждено стать в будущем родственником российского фельдмаршала!..
V
Между тем смеркалось. Мы отправились обедать в ресторан Дюмэ. Желая продолжать нашу интимную беседу, мы сели не за табльдотом, а в стороне, за отдельным столиком. Бутылка шампанского в белой салфетке сейчас же появилась на столе.
— Это обычай русских, — сообщил мне д'Антес. — Здесь без шампанского не садятся за стол. Я думаю, что в России потребляют больше этого вина, нежели Шампань его производит.
Ресторан наполнялся посетителями. За табльдотом усаживались представители сановного, военного и богатого Петербурга, ценившие тонкую кухню и кулинарное
65
искусство нашего соотечественника. Д'Антес от времени до времени приподнимался и раскланивался. Это нисколько не мешало продолжению нашей беседы. Она даже приняла за бокалами играющего вина более задушевный характер.
Всегдашний повеса и вечный хохотун, кузен мой любил рассказывать о своих похождениях и победах. Я навел разговор на эту тему.
Жорж весело расхохотался и с горящими глазами стал посвящать меня в историю своих русских похождений.
— Петербург полон соблазнов,— с увлечением рассказывал он. — Северные морозы разжигают кровь и кружат голову. Здешние женщины ленивы и чувственны, как гаремные затворницы. Они капитулируют при первой осаде...
Я заметил, что, когда д'Антес говорит о женщинах, лицо его принимает хищное выражение. Ноздри слегка раздуваются, глаза вспыхивают жестоким огоньком, даже его прекрасно очерченный рот получает резкую и неприятную складку.
— Ты, как всегда, ни в чем не знаешь поражений,— заметил я.
Неожиданно лицо Жоржа омрачилось. С необычной задумчивостью он посмотрел на меня, перевел затем свой взгляд на бокал и долго следил за легким ходом возносящихся искорок светлого напитка.
Наконец, отпив глоток, он произнес:
— Знаешь ли, Лоран, после сотни легких побед я, наконец, чувствую себя побежденным. Впервые в жизни я, как глупый мальчишка, бессилен подчинить себе обстоятельства и добиться торжества.
— Это действительно невероятно. Но кто же она?
Он ближе придвинул стул и, почти перегнувшись через скатерть, стал вполголоса говорить мне:
— Представь себе олимпийскую богиню в наряде знатной дамы наших дней. Она высока и изумительно стройна. Талия девически тонка и колеблет, как стебель, пышный и мощный торс великолепно расцветшей женщины. На нежной и хрупкой шее голова Юноны, но не властной и гордой, а кроткой и застенчивой. Этот контраст восхищает, преисполняет тебя состраданием и может свести с ума.
Он отпил из своего бокала и с горящими глазами продолжал:
66

— Описать эту торжествующую красоту невозможно. Представь себе лицо с овалом безупречной чистоты в раме из шелковисто-густых локонов, с огромными сияющими глазами, словно вбирающими в себя, как алмаз, все лучи, чтобы вернуть их с удесятеренной силой.
Д’Антес внезапно прервал свою речь. Он быстро поднялся, опустил руки и порывистым движением повернул свою слегка приподнятую голову к входной двери. Взгляд его приветливо и бдительно скользил по каким-то новым посетителям, проходившим по залу.
Я обернулся. Вдоль столов шагали двое военных. Сухой и высокий генерал, с характерным выражением немецкого командира на гладко выбритом бесстрастном лице, с коротко подстриженными усами, благосклонным, но сдержанным кивком ответил Жоржу. Это был командир кавалергардов, барон Георг фон Грюнвальд. Спутник его, командующий гвардейским конным полком Бреверн, веселою улыбкою отвечал д'Антесу.
Командир конногвардейцев славился своим живым и общительным нравом.
Кто из нас мог подумать, что через год этот благодушный полковник вынесет смертный приговор беспечному поручику д'Антесу?..
— Но больше всего изумляет в ней, — продолжал свое признание д'Антес, — сочетание строгой красоты с наивным, страдальческим выражением лба, глаз, светлой и чуть грустной улыбки. В этом классическом совершенстве черт есть нечто жалобное, почти детское. Эта ослепляющая женщина в полном расцвете своей молодости кажется бесстрастной, как ребенок, и чистой, как девственница. От нее веет холодом мраморной статуи. И это может окончательно лишить рассудка.
Д'Антес преобразился. В нем ничего не оставалось от обычной легкой шутливости и веселой разговорчивости. Он был действительно весь охвачен «великой и возвышенной страстью», как выразился впоследствии, в трагическую минуту смертельного расчета, один гениальный наблюдатель его романа.
— Кто же она? — невольно сорвался у меня вопрос.
Он снова задумался.
— Нет, я не назову ее имени. Когда-нибудь узнаешь.
— Ты поступаешь как рыцарь. Я не буду расспрашивать тебя. Но — провозглашаю молчаливый тост, как в средние века.
68
Я поднял бокал. Жорж радостно взглянул на меня, чуть-чуть чокнулся и допил свое вино.
И вот мелодия страстного и безнадежного признания возникла внезапно из моих раздумий. Отбивая серебряным ножом такт по хрусталю бокала, я тихо-тихо, почти шепотом произнес мотив любовной каватины из модной тогда «Сомнамбулы»:
L'alma mia nel tuo sembiante
Vede appien, la tua scolpita ¹...
— Что за изумительный слух! — раздалось за моей спиной. — Да познакомьте же меня с вашим приятелем, д'Антес.
У нашего стола стоял человек не совсем обычной наружности: безукоризненный костюм, ослепительное жабо, высокие воротнички и слегка прикрытый обшлагом орден обнаруживали в нем важного сановника. Но, вопреки моде высшего круга, волосы его были довольно длинны и всклокочены, как у поэта.
— С величайшим удовольствием, ваше сиятельство, — отвечал д'Антес.
И, назвав меня незнакомцу, он не без труда произнес его сложную славянскую фамилию:
— Граф Михаил Виельгорский, гофмейстер его величества, один из первых музыкантов Европы.
Граф присел к нашему столу.
— Вы из Парижа, дорогой виконт? Ну, расскажите же мне об опере и концертах. Ну, что Гризи? Что Тальони? Фанни Эльслер? Что готовит Мейербер? Давно ли вас навещал Паганини?
В качестве постоянного посетителя Большой Оперы я мог легко рассказать петербургскому меломану о наших премьерах и знаменитостях. Он с жадностью выслушал мой рассказ о последних триумфах Рубини и Лаблаша. Я сообщил ему о подготовке Большим театром новой оперы Мейербера — «Гугеноты». «Говорят, это сильнее «Роберта-Дьявола», — закончил я свою рецензию.
— Слава богу, и мы не отстаем от Европы, — сообщил мне петербургский меломан, — вы можете услышать у нас и «Возмущенье в Серале», и «Фенеллу».
______________
¹Душа моя в твоем лице
Видит полностью твое изваянье... (ит.)
69
— При первом случае почту за долг посетить петербургский балет.
Виельгорский, прощаясь, пригласил меня на выступление своего квартета.
— Вы услышите, правда, варварское исполнение гениальных европейских компонистов,— заметил он,— но все же приходите послушать наш скифский концерт.
VI
Д'Антес повез меня к себе знакомить со своим приемным отцом.
— Ты мне так описал твою красавицу, что я берусь узнать ее без всяких указаний, — заметил я.
— Едва ли, — усомнился Жорж, — петербургское общество славится красивыми женщинами...
— Пари на дюжину шампанского...
— Идет.
— Условие: я угадываю до трех раз; если я ошибусь и на третьей красавице, — я проиграл пари.
— Принимаю.
Мы быстро неслись по Невскому. Мимо нас, летя навстречу, промелькнули в облаке снежной пыли маленькие санки, запряженные вороным рысаком. За дородным кучером пронеслась пасмурная фигура в тяжелой кирасирской каске, с развевающейся по ветру серой пелериною форменной шинели с бобровым воротником.
— Император! — благоговейно шепнул д'Антес.
Я впервые увидел знаменитый выезд Николая в одноконку.
Сани быстро домчали нас. Геккерны жили при голландском посольстве на Невском проспекте. На дубовых дверях золотой лев сотрясал правою лапою меч, а левою вонзал связку стрел в лазурное поле герба. Две первые комнаты были отведены под канцелярию и архив, остальная, довольно просторная, квартира почти сплошь представляла собою музей редкостей.
Голландский посланник был известным коллекционером. Еще подростком, по обычаям своей страны, он собирал тюльпаны и славился обладанием редчайших луковиц и драгоценнейших цветочных экземпляров. Юношей, служа во флоте, он любил скупать в чужестранных портах оружие, утварь или украшения необычной формы. В родовом замке Беверваардов в комнате молодого барона
70
накоплялись понемногу ятаганы, бумеранги и стрелы, пестрые блюда и кувшины, зеленовато-золотистые бокалы венецианского стекла, застежки, бусы и четки с константинопольских базаров.
Когда юный барон Луи уезжал в Стокгольм секретарем нидерландского посольства, парусное королевское судно увозило с собой тяжелые баулы, наполненные редкостными трофеями этого жадного собирателя. С тех пор коллекции фан Геккерна не переставали расти и следовать за ним по местам его службы, пока наконец они не превратили его петербургскую квартиру в настоящую кунсткамеру.
Все это я узнал от Жоржа. Приехав в посольство, он проводил меня в кабинет своего отца и представил как близкого родственника и друга детства.
Барон Луи фан Геккерн де Беверваард, несмотря на свой малый рост, был пропорционально сложен и отличался своеобразной грацией. В его манере было много мягкой и медлительной вкрадчивости. Маленькие руки необыкновенной белизны и тщательной выхоленности были словно созданы для округлых и ласковых жестов. Несмотря на характерную бородку голландских моряков, словно растущую на шее из-под галстука, в его правильном лице было много женственного. Отчетливость некрупных черт, красивая очерченность рта, свободного от всякой растительности, тонкие брови, бледность щек — все это придавало его облику некоторую тепличную изнеженность. Только холодные глаза светились умом и волей. Мне показалось, что его маленькая голова с незначительным выступом над затылком придавала его гибкой фигуре какой-то змеиный извив.
Первая же беседа с бароном убедила меня в его остроумии и умении вести живой разговор. Он любил сопровождать свои образы комическими каламбурами, покрывая свои остроты несколько монотонным смехом. Большой знаток видных европейских фамилий, он представлял собою как бы живой «Готский альманах».
С первых же слов он установил родство д'Аршиаков с графской и герцогской ветвью Сен-Симонов и поразил меня осведомленностью в старинных французских родословных.
— О, Франция — моя вторая родина, — заявил барон, — мы с вами и географически и духовно родственны. Ведь помните, еще Наполеон признал Голландию
71
«наносом французских рек», а наш старый Амстердам — третьим городом своей империи. У него был вкус, не правда ли? Вы ведь можете об этом судить: говорят, вы побывали на моей родине.
Я рассказал Геккерну о моей прошлогодней поездке в Гаагу с особым поручением к его главе — министру Верстолку. Я восхищался природой и архитектурой его страны. Я говорил ему о моем восторге перед статуями готических ратуш и расписными витражами старых фламандских соборов.
— Я покажу вам некоторые образцы пленившего вас искусства, — сказал мне Геккерн.
И он повел меня показывать свои коллекции.
На массивных шкафах резной работы были расставлены бронзовые фигуры, группы из севрского бисквита или слоновой кости, фарфоровые вазы и эмалевые табакерки. На густых восточных коврах было развешано оружие. Стены были покрыты застекленными эстампами и пастелями, над которыми висели большие полотна в золотых рамах.
В картинной галерее барона преобладали пейзажи его родины и портреты его соотечественников. Хорошо знакомые мне дюны и каналы, озера и лагуны, водяные и ветряные мельницы, сваи и шлюзы, высокие многоэтажные крыши с блестящими иглами и выгнутые мосты над недвижными струями Шельды выступали предо мной из бронзы и точеного дерева фигурных обрамлений.
Но еще замечательнее было портретное собрание барона Геккерна. Во второй комнате я увидел ряд мужских изображений, одиночных или групповых, погрудных или во весь рост, прославивших во всем свете старинных фламандских мастеров. Хирурги и зубные врачи, бургомистры и гильдейские старшины, органисты и скрипачи, придворные, воины и штатгальтеры Оранского дома выступали передо мной во всем разнообразии своих обликов, причесок и костюмов.
Я любовался умными лицами анатомов в черных шляпах с нависшими полями и горделивыми мановениями полководцев, гарцующих под лепными сводами триумфальных арок, с маршальскими жезлами в протянутых руках. Из дымчатого сумрака портретных фонов выступали вельможи в охотничьих костюмах, с большими гладкими собаками, прильнувшими к колену, или мальчики в белом шелку, с попугаями на светлой замше перчаток. Барон называл мне имена неизвестных художни-
72
ков из Лейдена и Утрехта, из Амстердама и Гаарлема. И прелесть этих изображений, казалось, усиливалась от необычайного звучания чужестранных имен: Яна ван Скоорля, Гаверкорна ван Рийсеники или Иооса ван Кресбеека.
Картинное собрание барона поразило меня. Какое разнообразие типов и характеров! Но, всматриваясь в эту обширную галерею персонажей, я невольно обратил внимание на отсутствие среди них обычных фигур — Леды с лебедем, Клеопатры с нильской змейкой, богородиц и Магдалин, королев и куртизанок. Я сообщил мое наблюдение барону.

Он слегка поморщился.
— Что может быть прекраснее мужественной красоты? Какая превосходная строгость и четкость, какая гибкость мускулатуры и стремительность членов. Взгляните на этого Ахилла с челом, окованным каской, или на этого пажа в ломких отсветах лионского шелка. Ессе homo! Обнаженный, он кажется воином, готовым для боя. Все на своем месте, ничего лишнего. А все эти вздутые припухлости и рыхлые формы моделей Рубенса — к чему они? Вы скажете — для деторождения и кормления, — пожалуй. Но для красоты — никогда.
73
Он подошел к своему письменному столу и взял с него портрет своего приемного сына. Д'Антес был изображен на нем в белом мундире и сверкающей кирасе кавалергарда. Он поднес эту миниатюру к небольшому полотну ван Вениуса, изображающему Иоанна Крестителя.
— Какое сходство. И в обоих случаях какая смелая красота! Взгляните на эти плечи...
Я согласился с бароном. Старинному голландскому художнику пришла фантазия изобразить евангельского предтечу не в виде сурового аскета, а в образе жизнерадостного юноши. Казалось, Жорж д'Антес, совлекший с себя ослепительные доспехи кавалергарда, беспечно глядел на нас из коричневых тонов старого полотна, с легкой улыбкой воздевая воздушный тростниковый крест над грубой овечьей шкурой своей пастушеской одежды...
Впоследствии я узнал происхожденье богатых коллекций барона Геккерна. Собирая материалы для моей книги о России, я наткнулся на пачку любопытных документов. То были счета торговых фирм, запросы таможенного ведомства и отношения департамента внешней торговли. Из этой служебной переписки непререкаемо явствовало, что полномочный и чрезвычайный посланник короля нидерландского вел довольно крупные коммерческие дела. Пользуясь в качестве «аккредитованной дипломатической особы» правом получать беспошлинно разные посылки из-за границы, Геккерн выписывал в огромном количестве всевозможные предметы роскоши, дорогие напитки и художественные редкости, доставлявшие ему крупные барыши. Несколько больших иностранных магазинов на Невском и первые столичные трактиры состояли тайными контрагентами барона, наживаясь на его беспошлинном товаре и обогащая самого оборотистого дипломата.
Из Амстердама, Лондона, Парижа, Гавра и Любека на Невский проспект, в нидерландское посольство, доставлялись многопудовые ящики с оружием и редкостями. Сюда текли огромные партии ликеров, шампанского, рейнвейна, парагвайского бальзама и киршвассера. Хрустальные, фарфоровые и серебряные вещи, цельные свертки материй для обивки экипажей и мебели, часы, табакерки и бронзовые шандалы направлялись через голландскую миссию в склады столичных купцов. Для художественных коллекций барона и для лавок петербургских антиквариев выписывались древние японские вазы, китайский фарфор, индийская бронза, картины в массив-
74
ных рамках, редкая мебель. Из некоторых счетов было видно, что парижские парфюмеры, портные, перчаточники и обувные мастера доставляли Геккерну свои жилеты, шелковые чулки, фраки, туфли, халаты, духи и помаду.
Но при всем благоволении к барону Геккерну самого вице-канцлера Российской империи, таможенное ведомство становилось иногда в тупик перед невообразимыми размерами грузооборота нидерландской миссии.
Я видел любопытное отношение департамента внешней торговли министерства финансов в департамент внутренних сношений министерства иностранных дел с тревожным запросом петербургской таможни. Директор растерянно сообщал подлежащему учреждению, что —
...на пароходе «Александра» привезен на имя г. нидерландского посланника барона Геккерна один ящик под знаком НВ Н. № 1 и что по досмотру сего ящика при доверенном от г. посланника оказались в нем: 99 кусков белого льняного полотна для скатертей и 137 штук салфеток таковых же, не обрубленных, новых, весом всего налицо 13 пуд. 30 фун., к привозу по действующему ныне тарифу запрещенных, кои оставлены в таможне впредь до разрешения.
Ведомство графа Нессельроде распорядилось выдать голландскому посланнику все запретное содержимое вскрытого ящика.
Таким образом, влиятельный представитель европейской державы, один из виднейших членов петербургского дипломатического корпуса, отпрыск знатной титулованной фамилии втихомолку занимался широкой контрабандой при благосклонном попустительстве российского вице-канцлера.
Золотой лев, сотрясавший мечом и стрелами на голубом поле герба, украшавшего дубовую дверь голландского посольства, служил, в сущности, вывеской тайной торговой организации, строившей свои балансы на крупнейшем государственном беззаконии.
Действия, за которые обыкновенный член петербургских купеческих гильдий мог быть наказан кнутом и сослан в Сибирь, доставляли барону Луи-Борхарду фан Геккерну богатство, связи, влияние и все проистекающие отсюда блага общественных почестей и завидной известности.
75
VII
Мы вошли в комнату д'Антеса. Над диваном были развешаны по ковру пистолеты старинных и новейших систем с гладким деревом, перламутром или слоновой костью на тяжелых рукоятках. На иных из них золотом по черни змеилась подпись Ле-Пажа, оружейника короля. Над столом висел большой портрет молодой женщины с узкими глазами, вздернутым носом и полуоткрытым ртом. Я сразу узнал изображение герцогини Беррийской.
— А где же портрет Карла X? — спросил я, улыбаясь.
— Я не карлист. Я — ан-ри-кен-кист ¹, — раздельно произнес д'Антес. — Это нужно различать. Карл X отрекся от престола во имя своего внука Генриха V. Я беспрекословно исполняю его волю: я верноподданный юного принца и слуга его матери, регентши Франции — Марии-Каролины.
— Вот мой король, — закончил он, указывая на скульптуру, украшавшую его камин.
Я подошел ближе. Это была конная статуэтка графа Шамбора, герцога Бордоского, которого молодое крыло легитимистов называло королем Франции Генрихом V. У зеркала висела раскрашенная карикатура из парижского юмористического листка, изображающая остроконечную голову Луи-Филиппа в виде огромной улыбающейся груши.
— Это моя любимая мишень, — весело заявил Жорж.
И, сняв со стены особого типа хлыст-пистолет, он выпустил несколько зарядов в рисунок «Charivari», безошибочно насаживая пулю на пулю.
Геккерны убедили меня провести с ними вечер. Они ждали двух-трех друзей.
Вскоре приехали однополчане Жоржа: Трубецкой, Бетанкур и Полетика. Все это были видные кавалергарды. Ротмистр Адольф Бетанкур-и-Молина, по отцу испанец, по матери англичанин, был сыном известного инженерного генерала. Князь Александр Трубецкой, несмотря на свою молодость, уже был штаб-ротмистром. Это был тот самый Трубецкой, который вскоре прославился сво-
______________
¹Так называли себя сторонники Генриха V (Henri-Quint).
76
им романом с знаменитой танцовщицей Тальони. Он разъезжал вслед за ней по всей Европе, появлялся в театрах Вены, Парижа и Лондона, заслужил гнев государя и чуть ли не был исключен из кавалергардов. В то время его страсть к балету еще не переходила обычных для петербургской молодежи границ.
Наконец, полковник Полетика, самый старший в компании, мало походил на военного и держал себя скромнее и тише всех. Его называли «божьей коровкой». Это нисколько не мешало ему весьма успешно увеличивать свое благосостояние. Передавали, что в польский поход 1831 года он умело завладевал не только вещами товарищей, но даже походными палатками. Главное его достоинство, как я узнал от д'Антеса, была молодая жена, кружившая головы всему кавалергардскому полку.
По обычаю русских военных, офицеры быстро приготовили особый горячий и крепкий напиток. В серебряную миску была поставлена сахарная голова, налит и зажжен ром. Кавалергарды черпали ковшиком пылающую влагу и разливали ее по стаканам, роняя в стекло огненные синие капли.
Пока они готовили свое пылающее питье, Геккерн усадил меня в своем кабинете и стал беседовать со мной о Петербурге и дипломатическом корпусе.
— Ваше положение, дорогой виконт, как представителя революционной Франции, при петербургском дворе не легко. Дипломаты, аккредитованные при здешнем дворе, принадлежат почти сплошь к враждебной вам школе. Сам русский вице-канцлер — верный и преданный слуга Меттерниха. Представители иностранных держав при русском дворе — почти все прошли меттерниховскую школу и остались ей верны. Я не исключаю и себя из этого числа.
Во время разговора он часто брал со своего письменного стола небольшое ручное зеркало в черепаховой оправе и пытливо рассматривал свое лицо в различных поворотах. Иногда он невольно переводил свои взгляды на миниатюрный портрет Жоржа, стоящий перед ним на его рабочем бюро. После небольшой паузы он задумчиво произнес:
— Поговорим о другом. Вам, как брату и другу Жоржа, я должен раскрыть свои заботы. Я хотел бы, чтобы вы мне помогли своим влиянием на него. Не скрою, я привязался к нему всем сердцем, и в моей одинокой жиз-
77
ни он неожиданно создал теплое ощущение семейственности. Я полюбил его, как мать, боготворящая своего взрослого сына и способная мучительно ревновать его к каждой любовнице. И в этом отношении ваш кузен доставляет мне немало горьких минут. Я вспомнил исповедь д'Антеса.
— Его женолюбие и легкомыслие, — продолжал Геккерн, — могут вызвать тяжелые неприятности для нас обоих. Скрепя сердце я простил бы ему каких-нибудь актрис и танцовщиц, эти минутные и незаметные интрижки — неизбежное зло молодости. Но у него стремление к прочным связям с женщинами высшего света, и даже придворного круга, а это чревато крупными и непоправимыми осложнениями. Он не думает о тех скандалах, которые и отдаленно не должны касаться нашего имени.
Я поинтересовался узнать, имеет ли барон в виду какой-нибудь определенный случай.
Он с сокрушением кивнул головой.
— Представьте себе, что он вздумал увлечься одной светской женщиной, весьма заметной в обществе и при дворе. Должен сознаться, что нельзя не одобрить его вкус, — это, вероятно, первая красавица в Европе, — но нельзя же жертвовать женщине своим именем, своей карьерой, быть может, всем своим будущим. Все это бесконечно огорчает меня, и я хочу просить вас, как ближайшего друга моего сына, удержать его от этого безрассудства и вернуть его снова к нашей счастливой и замкнутой семейной жизни вдвоем. Я верю в силу вашего влияния на него.
После всего, что я слышал от Жоржа, я не очень полагался на свое воздействие. Но я пообещал барону поговорить с моим кузеном.
Посланник был явно взволнован нашей беседой. Он взял со стола флакон богемского стекла и, смочив крепкими духами кончики пальцев, прикасался ими к вискам. Он жадно вдыхал испарения граненого хрусталя, словно стремясь слегка одурманить себя смешанным запахом тубероз и нарциссов.
Из соседней комнаты раздался шум голосов. Жженка была готова, меня приглашали отведать питье.
Свечи были погашены. Ваза пылала голубым огнем, отсвечиваясь в блестящих украшениях мундиров...
Кавалергарды за пылающими стаканами вели товарищескую беседу. Меня поразил узкий круг их тем и незна-
78
чительность их интересов. Полковая жизнь, лошади, обмундирование, карточная игра, в лучшем случае театр, как место встречи с великосветскими красавицами или неисчерпаемый питомник одалисок из состава кордебалета, — вот что питало их беседы. Они жаловались на невыносимую требовательность к военным брата царя — великого князя Михаила Павловича, жестокого фронтовика, напоминавшего в припадках гнева своего безумного отца. Бетанкур рассказывал, как недавно великий князь перед фронтом войск обругал последними словами командира дивизии, подавшего в тот же день в отставку. Театрал Трубецкой восхищался постановкой нового балета «Возмущение в Серале»:
— Представьте, балетмейстер завербовал целую армию юных мавританок, вооруженную огнестрельными взглядами, конгревовыми улыбками, белым оружием плеч и рук...

Барон Геккерн входил к нам от времени до времени, внося с собой смешанный запах тубероз и нарциссов и оживляя беседу острыми замечаниями. К концу вечера он подсел к столу с маленьким томиком в руках.
— Какое прекрасное место в мемуарах Иона Хиосского, друга Софокла!
И он стал читать:
— «Я встретился с поэтом Софоклом в Хиосе в то время, когда он в качестве стратега плыл в Лесбос. Был
79
он за чашей вина любителем шуток и увлекательным собеседником. Во время вечернего пиршества он обратился к отроку-виночерпию и сказал ему: «Хочешь, чтоб я пил с удовольствием?» — «Конечно», — ответил мальчик. «Тогда подноси мне чашу медленно и медленно же уноси ее». Мальчик еще сильнее покраснел, и Софокл заметил своему соседу: «Как хорошо сказал Фриних:
На ярко-пурпурных ланитах пылает огонь вожделенья...»
Мальчик хотел мизинцем удалить перышко с поверхности влаги, Софокл же сказал ему: «Лучше сдунь его, чтобы не замочить пальца». А когда мальчик наклонился к чаше, он приблизил чашу к своим устам, чтоб этим самым приблизить его голову к своей. Когда они были совсем близко, он обнял его рукой и поцеловал. Тут все со смехом стали рукоплескать, громко выражая свое удовольствие, что он так ловко залучил мальчика. «Я учусь стратегическому искусству, друзья, — ответил Софокл, — ведь Перикл говорит про меня, что я стихи писать умею, а начальствовать войском — нет. Но, кажется, эта стратагема вышла удачной...»
Место вызвало всеобщее одобрение. Жорж, как бы в ответ на прочитанный отрывок, поднес широкий бокал с горячим ромом барону, который вслед за ним отпил глоток и влажными от напитка губами прикоснулся влюбленно к щеке д'Антеса.
VIII
В воскресенье 29 декабря чрезвычайный и полномочный посол его величества короля французов барон де Барант был принят государем императором и имел счастье поднести Е. И. В. свои верительные грамоты.
«Journal de Saint-Petersbourg».
IX
Передо мной копии дипломатических депеш Баранта из Петербурга в Париж к герцогу Брольи. Приведу из них некоторые отрывки, сообщающие ряд сведений о первой поре нашего пребывания в русской столице.
80
королевское посольство Председателю совета министров
франции Герцогу Брольи
в Петербурге. от барона де Баранта.
31 ДЕКАБРЯ 1835 г.
На 29 декабря мне была назначена аудиенция у императора для вручения верительных грамот.
Я предполагал произнести при этом несколько если не торжественных, то по крайней мере официальных слов, но царь принял меня в своем кабинете один на один. Лишь взошел я, как увидел себя возле него, и тотчас же он заговорил со мной в тоне весьма стремительной беседы. Его напористая речь не дала мне возможности сказать то, к чему я готовился.
Разговор постоянно велся такой, какой он желал. В его речах господствует стремление рассеять «ложное мнение» о русском правительстве. Он часто распространялся о своем миролюбии, но, впрочем, довольно холодно отозвался о покушении Фиески. Желание во что бы то ни стало понравиться сильно заметно в нем. Так, например, во время аудиенции он часто брал мою руку и с чувством ее пожимал. Он заявил, что придет к моей жене, и выказал живой интерес по поводу легкой простуды, схваченной ею в пути. Этому любезничанию не следует придавать особенного значения.
Мое первое знакомство с императором Николаем вполне подтвердило то, что мне не раз приходилось слышать о нем: это, несомненно, очень умелый актер. Недаром русский царь большой театрал и тратит огромные средства на содержание своих трупп. Говорят, в молодости он сам охотно исполнял роли в комедиях, операх и балетах. Бдительно следя за успехами русской сцены, он учится у знаменитого трагика Каратыгина тонким изменениям мимики, движений и голосовых интонаций, как Наполеон в свое время учился у Тальма носить императорскую мантию и восходить на тронные ступени. Его странные рукопожатия во время беседы со мною, его елейные речи о миролюбии и счастии народов при ежедневных смотрах войск и подготовляющихся экспедициях на Кавказ и Турцию; его манера поднимать плечи вверх и воздевать глаза к небу, — все это непререкаемо обнаруживает его актерскую природу, которая особенно сказывается в сношениях с иностранными дипломатами. Мы должны постоянно помнить и иметь в виду, что с нами ведется тонкая и рассчитанная игра, за эффектными приемами которой нам надлежит зорко рассматривать
81
подлинный облик вещей, намерений и действий. К этому и будут направлены по мере сил и возможностей все мои старания...
С.-Петербург, 10 января 1836 года.
Вчера я видел государя на одном празднестве; он довольно долго беседовал со мной, но исключительно о картинах Эрмитажа, которые я осматривал поутру.
Картинное собрание государя — предмет его особенной гордости. Император Николай считает себя знатоком искусств и безошибочным ценителем живописцев. Он собственноручно разбирает кладовые Эрмитажа и по своей военной привычке категорически определяет школы, эпохи или авторов. Хранители музея, видные профессора живописи и археологи пробуют иногда со всей почтительной робостью восстановить историческую истину. Но царь не допускает возражений: итальянец, признанный им почему-либо фламандцем, отправляется на долгие годы в отдел нидерландского искусства и соответственно числится в списках галереи.
Это еще далеко не худшее, что допускает в области художественных сокровищ деспотизм царя. Он беспощадно истребляет все, что может напомнить ему нелюбимых людей или неприятные исторические эпизоды.
Недавно он осматривал собрание скульптур Гудона, сохранившееся в Эрмитаже. Подойдя решительным шагом к собранным статуям, он подверг их быстрому осмотру.
Перед ним, высоко подняв голову и бестрепетно устремляя вперед свой пытливый взгляд, Бюффон в завитом парике слегка приоткрывал рот, словно собираясь произносить речь о минералах, птицах или могучей власти человеческого слова.
На тонкой колонке высился бюст Марии-Антуанетты. Окутанная в широкую мантию с лепными лилиями по металлу ткани, небрежно роняя с плеча тяжелые складки горностая, с туго затянутыми у висков волосами, в высокой прическе с розами и ниспадающим мягким локоном у горла, она вздымала на длинной и гибкой шее свою узенькую голову с выпуклыми глазами и переломленным горбинкою носом. Кажется, наш славный ваятель вложил в эту статую всю парадность своего резца.
И, наконец, в просторной робе, с перевязью на мягких волосах, спокойно опустив свои сухие пальцы на
82
подлокотни широких кресел, по ободу которых латынь художнических мастерских начертала «Goudon fecit ¹ 1781», с высоты своего постамента презрительно, издевательски и невозмутимо смотрел на императора Николая, насквозь пронзая его своим мраморным взором, король Вольтер.
Царь решил померяться с философом стойкостью своего зрения. Он остановился и долго всматривался в смеющиеся морщины, в светлый лоб и дерзостный, как обнаженный кинжал, взгляд мыслителя.
О чем думал этот запоздалый созерцатель неразгаданной улыбки? О переписке ли своей бабки с этим неутомимым корреспондентом всех европейских знаменитостей, об истории ли Петра, написанной этой цепкой рукою, или, может быть, о судьбе стоящей рядом Марии-Антуанетты, склонившей некогда по воле вольтерианцев свою хрупкую шею под топор 1793 года?
Но только царь неожиданно вздрогнул, быстро отвел свои неподвижные глаза от саркастической маски писателя и, отвернувшись, отдал сдавленным голосом приказ:
— Истребить эту обезьяну!
Кто-то из вельмож догадался отправить этот шедевр портретной скульптуры в подвалы дальнего дворца.
Не вынося напоминаний о бесчисленных любимцах Екатерины, император изгнал из своих галерей все портреты ее знаменитых фаворитов, хотя бы и принадлежавшие кистям славнейших русских или иностранных мастеров.
Но беспощаднее всего поступил владелец Эрмитажа с произведениями польского искусства. В последние два-три года в Петербург в большом количестве привозятся драгоценные коллекции, секвестрованные в Варшаве, Гродно, в поместьях и дворцах польской знати. Беспощадный в своей мстительной ненависти к Польше, государь предает сожжению все, что относит к национальному искусству своих поверженных врагов. Портреты нескольких поколений Потоцких, Замойских и Сапег, работы Виже-Лебрен или Лампи, складываются в костры и безжалостно уничтожаются. Я видел любопытный рапорт одного из эрмитажных реставраторов, сообщающих по начальству, что «портреты, картины, фигуры и прочие вещи, привезенные из Варшавы в 37 ящиках, по высочай-
________________
¹Сделано Гудоном (лат.).
83
шему повелению истреблены и сожжены, за исключением одного портрета императора Александра I». Таким образом, реставраторов здесь употребляют на разрушение художественных сокровищ, а сам великодержавный меценат являет в своих приказах по художественному ведомству примеры неслыханного вандализма.
1 февраля 1836 года.
...Любопытно наблюдать, до какой степени Россия осталась чуждою всей эпохе реставрации Бурбонов. Лавки и гостиные переполнены портретами Наполеона, гравюрами его сражений, изображениями его маршалов. Поклонение его гению здесь еще более в ходу, чем у нас; начиная с императора до самого простого офицера, никто не говорит о нем без удивления.
Это, к сожалению, не определяет отношения правительства к современной Франции. Пораженный Июльской революцией как неслыханным оскорблением королевской власти, император получил из Парижа в эпоху польского восстания новую глубокую рану, которая год от году растравлялась статьями «Journal de Debats» и прениями камер.
Свою ненависть к Франции царь не всегда считает нужным скрывать. Когда обсуждался недавно вопрос о проведении железных дорог в России по проекту австрийского инженера Герстнера, Николай заявил:
— Если для работ потребуются знающие и опытные иностранцы, пусть Герстнер их выписывает, но чтоб отнюдь не было между ними ни одного французского подданного! Этих господ мне не нужно.
Между тем петербургское общество сохраняет свои старинные симпатии к Франции. Мне приходилось не раз удивляться изумительному распространению парижских литературных новинок в русском обществе. Не удивляешься, встречая всюду последние книги Гюго или Бальзака, но менее известные в Европе Жюль Жанен, Альфонс Карр, Сент-Бев и Стендаль находят также своих читателей. Сам император, поощряя запретительные меры Уварова против французской литературы, говорят, зачитывается романами Поль де Кока. Меня уверяли, что он так восхищен этим изобразителем гризеток, что Пален из Парижа доставляет ему оттиски новых произведений этого писателя еще до появления их в печати.
Таким образом, ненависть царя к Франции нисколько
84
не распространяется на создания ее занимательной литературы.
Но в остальном он неумолим. Одно очень осведомленное лицо уверяло меня сегодня, что у Николая есть своя навязчивая идея — войти еще раз в Париж, во главе русских войск, и открыть новую реставрацию Бурбонов.
Де Барант.
X
— Надевайте ваш фрак, д'Аршиак, я познакомлю вас сегодня с моим старинным другом, — сказал мне вскоре после нашего приезда Барант.
— Кто же это, барон? — полюбопытствовал я, изъявляя, впрочем, полную готовность сопровождать его куда угодно.
— Видите ли, тридцать лет тому назад я был послан Наполеоном в Испанию. И вот в загородном королевском дворце Ильдефонсе я познакомился с русским полномочным министром при испанском дворе, молодым бароном Григорием Строгановым. К нему-то я и хочу повести вас. В его зале сегодня концерт знаменитого петербургского квартета. Мы, вероятно, встретимся там с вице-канцлером Нессельроде.
Я попросил посла рассказать мне подробнее о своем мадридском приятеле.
— В то время это был неотразимый сердцеед. Его любовные победы сплетали вокруг его имени легенду о возрожденном Дон Жуане. Сам лорд Байрон увековечил его имя и его образ непобедимого обольстителя в своей знаменитой поэме. Вы помните, может быть, строфу «Дон Жуана», в которой донна Джулия в доказательство своей беспримерной верности заявляет своему ревнивому мужу, что даже граф Строганов не мог ее прельстить:
The Count Stroganoff I put in pain... ¹
Жена португальского посланника в Мадриде Джулия да Эгга бросила мужа, семью и блистательное положение в Испании, чтоб не разлучаться с петербургским посланником. Она последовала за ним в Россию, несмотря на то что Строганов был женат и даже имел нескольких детей.
_______________
¹Граф Строганов, которому я причинила боль... (англ.)
85
Долгие годы пришлось ждать лиссабонской посланнице, чтоб ее возлюбленный получил возможность сочетаться с ней законными узами. За это время она родила ему дочь Идалию, ставшую теперь женою полковника Полетики.
— Я, кажется, познакомился с ним у д'Антеса, — припомнил я.
— Очень возможно. Они ведь сослуживцы по кавалергардскому полку. Идалия Полетика — одна из модных женщин Петербурга.
Я узнал от Баранта, что этот престарелый донжуан принадлежит к роду знаменитых русских солепромышленников, завоевавших Сибирь и финансировавших московских правителей в годины смут. За эти заслуги перед государством Строгановы подлежали только личному царскому суду, имели право строить города и крепости, лить пушки и пользоваться особым законодательством в своих безграничных вотчинах. Один из последних отпрысков этой фамилии представлял Российскую империю при дворах Швеции, Испании и Турции.
С любопытством вступал я в гостиную этого байроновского героя, потомка именитых купцов, посланника при трех державах и друга российского вице-канцлера.
Я увидал на фоне белоснежных пилястров и зеркальных стен исторические лица петербургских администраторов.
О мой предок Сен-Симон! О великий портретист царедворцев и воинов Людовика XIV! Вручи мне свою кисть и одари меня своим искусством запечатлевать в слове жирные маски вельмож и худощавые профили полководцев.
Под знаком твоим хочу открыть я свою галерею.
Портрет первый.
Дряхлеющий донжуан. Спинной хребет истощен и, надломившись, клонит поседелую голову, изможденную усердным служением Киприде. Глаза слепнут и слезятся. Пенистый галстук струится своими кружевами по черному обшлагу бархатного сюртука, но дрожащая рука цепко хватается за набалдашник трости, и неуверенно движутся по коврам и паркетам хилые ноги подагрика, некогда так легко и быстро летевшие на бесчисленные свидания под листву мадридского Ретино или под навесы галатских кофеен.
Женщины перестали привлекать его, но у него осталась еще одна идея, одна мания, один кумир. Честь! Родовая честь! Рыцарская честь! Кастильская честь... Во
86
имя этого призрака он, обманувший стольких женщин и столько государств, принесет родного сына на заклание и обрушит проклятья на голову дочери. Зато он и считается верховным жрецом российской аристократии, ее Нестором и патриархом, первым судьей всех карточных и альковных столкновений, глубочайшим знатоком всех правил дворянской чести.
Таков член государственного совета, бывший посланник в Стокгольме, Мадриде и Константинополе, недавний кандидат в министры иностранных дел, прежде барон, а теперь граф Григорий Строганов.
Портрет второй (парный к предыдущему). Пятидесятилетняя женщина с лицом совершенно увядшим, но с открытой шеей и в модной бальной прическе. Вся в драгоценностях, одета необычайно моложаво; любит яркие кричащие тона. Превосходно танцует качучу, несмотря на морщины и дряблость всей мускулатуры. Это мадридская знаменитость, донна Джулия да Эгга, дочь португальца Педро д'Альмейда-Ойенгаузен, ныне же петербургская матрона Юлия Петровна Строганова. Она легко приняла и носила с полной беспечностью фамилию российских солепромышленников, заменившую ей знатные наименования португальских грандов и испанских гидальго.
Старшая ее дочь была крещена именем одной из католических святых, влиятельных в Испании. Ее звали Идалия Мария.
Это третий портрет моего раута, а по значению его оригинал для дальнейшего хода моей повести выступает на передний план.
Идалия Полетика принадлежит к типу тех живых, подвижных и разговорчивых женщин, которым свойственны обычно рискованные похождения и смелые светские интриги. Южный темперамент превращает их жизнь в богатую эротическую эпопею, а личные столкновения заставляют их сплетать сложные и таинственные комбинации, в которых находят себе выход их честолюбие, вражда, ненависть, а подчас и жестокая мстительность. К такому типу женщин принадлежали Катерина Медичи, Елизавета Английская и Марина Мнишек. Ближе к нам я мог бы назвать герцогиню Беррийскую.
Но побочная дочь графа Строганова не имела широкой арены государственной деятельности для развития своих тонких политических способностей. Ей пришлось довольствоваться тесным кругом великосветского Петер-
87
бурга и кавалергардского полка, где, несмотря на свое плоское лицо и бесцветные глаза, она одерживала бесчисленные победы или же искусно заплетала тайные нити своих домашних заговоров. Сам командир кавалергардов Грюнвальд не ушел из ее сетей. Она славилась острым умом, бойкой речью и злым языком.
У Строгановых уже были в сборе их друзья — Нессельроде, Геккерн с д'Антесом, прусский посол фон Либерман. По привычке всей своей жизни, Строганов вращался в среде дипломатов и министров.
В ожидании концерта обсуждалась последняя злоба дня. Только что знаменитый поэт Пушкин напечатал в одном московском обозрении уничтожающий памфлет на министра народного просвещения Уварова. Темой послужила нашумевшая история с опечатанием шереметевского имущества.
Оказывается, недавно опасно заболел один из богатейших русских людей, молодой граф Шереметев, дальний родственник Уварова. Министр поторопился распорядиться об охране наследственного имущества умирающего миллионера. Эта беззастенчивая поспешность вызвала осужденье даже в кругу петербургской знати. Когда в комитете министров Уваров на чей-то вопрос отвечал, что у Шереметева «скарлатинозная лихорадка», обер-камергер Литта своим зычным голосом бросил ему в лицо: «А у вас лихорадка стяжания»... Тот побледнел и промолчал. Дело приняло вскоре совершенно скандальный оборот. Шереметев выздоровел и спокойно снял меры охраны со своего имущества.
Поэт нашел здесь благодарный материал для политической сатиры. Он написал ее в латинском вкусе, в виде оды на выздоровление знаменитого римского богача — Лукулла... Барант попросил Строганова перевести ему этот обличительный гимн.
Мы действительно услышали убийственный памфлет. Поэт беспощадно заклеймил циничного корыстолюбца, сравнив его с вороном, падким к мертвечине (в стихотворение искусно введено меткое слово камергера Литты о «лихорадке стяжания»). В монологе скупца, опечатывающего кассы умирающего богача, есть несколько уничтожающих стихов о жизненных привычках Уварова.
Ода, как и автор ее, стали предметом всеобщего обсуждения, и мы узнали много любопытного о состоянии русской журналистики, о цензурных правилах и, наконец, о личности знаменитого русского поэта.
88
— Пушкин — младший чиновник министерства иностранных дел, — сообщил нам Нессельроде, — и, сознаюсь, пятно на персонале нашей коллегии. Он вступил в нее лет двадцать тому назад в чине коллежского секретаря и с тех пор не получил ни единой награды. А между тем его сотоварищи по Лицею успели достигнуть высоких постов: Горчаков, например, первый секретарь в Вене, или барон Корф, исправляющий обязанности статс-секретаря. Способные и добропорядочные чиновники.
— Почему же Пушкин так отстал от них? — поинтересовался Барант.
— Якобинец, — кратко и выразительно отвечал министр, широко раскрыв глаза за толстыми круглыми стеклами. — Опаснейший вольтерьянец. Достаточно сказать, что его учителем в Лицее был родной брат Марата.
Министр произнес это имя шепотом непреодолимого отвращения. Жена его изобразила на своем лице испуганный гнев.
— Он не успел оставить школьную скамью, — продолжал вице-канцлер, — как проявил себя с самой предосудительной стороны. Он позволил себе высмеивать возмутительными стихами действия верховной власти.
Снова гнев и испуг на лицах супругов Нессельроде.
— Когда же кожевенник Лувель заколол герцога Беррийского, Пушкин осмелился показывать в театре портрет убийцы с надписью «Урок царям».
Долгая пауза ужаса.
— Но урок был дан опасному вольнодумцу: покойный император решил сослать его в Соловки или в Сибирь. Только заступничеству влиятельных друзей он обязан служебным назначением на Юг. Мой коллега по управлению иностранными делами Каподистрия послал новому начальству Пушкина обстоятельную бумагу, в которой с чрезмерной, на мой взгляд, мягкостью характеризовал этого ярого вольтерьянца. Как только я вступил в единоличное управление коллегией, я немедленно же исключил Пушкина за распутство.
Ровную речь министра прорезала жесткая нотка властности.
— И что же? Правительству вскоре стало известно, что только ссылка помешала ему выйти на Сенатскую площадь в позорный день 14 декабря, когда кучка ничтожнейших проходимцев решилась колебать судьбы Русского трона.
На лицах вице-канцлерской четы непостижимое сме-
89
шение чувств: возмущение проходимцами и благоговение к трону.
— Только безмерное великодушие нашего императора вместе с мыслью Бенкендорфа о том, что народное имя Пушкина следует привлечь на свою сторону, отнюдь не бросая его в стан врагов правительства, кое-как прикрепили этого неугомонного рифмача к достойному существованию. Милости царя к нему безграничны, но он чудовищно неблагодарен и, конечно, не в состоянии изменить своей бунтарской природы. Это памфлетист по призванию,— он никогда не успокоится, он всегда будет изощрять свое сомнительное остроумие на пасквилях против почтенных государственных деятелей.
Я следил за Нессельроде во время его речи. Он говорит медленно, методически, закругленно, словно читает доклад в комитете министров. Внешность вице-канцлера совершенно не соответствует его высокому званию, выдающемуся положению в правительстве и громкому европейскому имени. Это маленький человечек с птичьей головой и крохотными лапками.
У него крупный крючковатый нос, весьма напоминающий клюв, большие круглые очки с толстыми стеклами и широкое лицо. Все это придает ему заметное сходство с филином или совою. Только чувственные губы выдают его пристрастие к жизненным наслаждениям и тонкой гастрономии.
Ростом и лицом русский вице-канцлер сильно напоминает Тьера. Это такой же «карманный министр» или «сладострастный гном», как острили сен-жерменские аристократы над главным сподвижником Луи-Филиппа.
Но еще выразительнее фигура вице-канцлерши. Это матрона лет пятидесяти, с телосложением солдата и вспухшим лицом, преисполненным неодолимой надменности. Щеки ее, отвисая, оттягивают уголки рта, что придает ей вместе с выпуклыми глазами явное лягушечье выражение. Она пользуется неограниченным авторитетом в петербургском обществе, при дворе и в самой императорской семье. Это в значительной степени вызвано ее непримиримой ненавистью ко всякому либерализму. Благодаря ее личным связям и положению мужа она является живым центром русской реакции и как бы представляет в Петербурге европейскую контрреволюцию.
Все это сообщает ей непомерное самомнение и презрительную надменность к окружающим. Я узнал впоследствии, что среди русской придворной знати, чрезвычайно
90
падкой на деньги, графиня Нессельроде выделялась необычайным любостяжанием. Известное корыстолюбие Уваровых и Чернышевых бледнело перед алчностью этой придворной дамы, прослывшей в Петербурге страшнейшей взяточницей. Недаром была она дочерью известного министра финансов Гурьева, которого Пушкин назвал в одной эпиграмме грабителем.
К беседе о Пушкине графиня не осталась равнодушной.
— Меня всегда изумляет, — изрекла она высокомерно и непререкаемо, — почему этот опаснейший бунтовщик, этот скверный, развратный и злой человек, которому не место в Петербурге, состоит еще при дворе великодушнейшего из монархов.
— Поэтам разрешается быть вольтерьянцами, — тонко заметил Барант.
— Если он вольтерьянец, то с ним и надлежит поступить, как с Вольтером, которого герцог Шабо де Роган велел избить палками. Удивляюсь, как эту меру еще не догадались применить к Пушкину.
Иностранные дипломаты — Геккерн и фон Либерман — не принимали участия в разговоре о Пушкине. Я заметил, что они осторожно не вступали в обсуждение этой деликатной темы, впрочем, внимательно слушая говоривших. Когда же разговор принял более острый характер, они сели в стороне и стали беседовать на свою любимую тему — о владетельных княжеских домах и знатных родах Европы. Прусский посол обстоятельно излагал различие между линией Гогенцоллернов-Зигмарингенов и Гогенцоллернов-Гехингенов. Геккерн в ответ с любезной обстоятельностью устанавливал разные направления генеалогических ветвей Роганов-Рошфоров и Роганов-Шабо.
Старая Нессельроде между тем продолжала свою политическую речь:
— Государь и Бенкендорф должны бдительно следить за этим поджигателем. При первой же возможности он покажет свои когти. Это злейший враг монархического принципа и старой европейской аристократии. Он готов был бы всех нас вздернуть на фонари...
— Подождите, графиня, — с необычайной живостью вставила Идалия Полетика, — вы увидите, что он сам сорвется прежде, чем сумеет кого-нибудь утопить...
Глаза ее вспыхнули недобрым огоньком. «Видно, поэт
91
задевает не только государственных сановников», — подумалось мне.
Когда нас пригласили в концерт, из угла гостиной до меня еще доносились звонкие созвучия составных фамилий Эстергази де Таланта, Колонна ди Шарра и Клари унд Альдринген. Это послы Нидерландов и Пруссии продолжали состязаться в своих познаниях европейских родословных.
XI
Мы переходим в концертный зал.
На высокой эстраде несколько пультов. Груды нот и гнутое дерево струнных инструментов. Огромное флюгель-фортепьяно с высоко поднятой лаковой крышкой. Меж колонн два портрета: Бах и Глюк. Четыре музыканта исполняют квартет Моцарта.
Это знаменитый в Петербурге ансамбль Виельгорского.
Над клавишами рояля я узнаю меломана, представленного мне в ресторане Дюмэ. Он увлечен исполнением своего аллегро и с замечательной быстротой и легкостью носится пальцами по слоновой кости инструмента.
Буря заключительных аккордов. Рукоплескания, поклоны. Виельгорский приветливо выслушивает мои похвалы.
— Я учился в Париже, — отвечает он мне. — Ваш знаменитый Керубини приобщил меня к тайнам контрапункта. Я познакомился впоследствии в Вене с величайшим из симфонистов мира — Бетховеном, но я не изменил моей французской школе.
Виельгорский объездил всю Европу и говорит на всех языках. Самые знаменитые из иностранных композиторов, певцов и пианистов с ним лично знакомы. Он вводит их обычно в столичный, круг. Дом его считается в Петербурге академией музыкального вкуса, откуда расходятся по всей России творения модных немецких мастеров: Герца, Мошелеса, Маурера, Фильда и Калькбреннера.
— Вы услышите сейчас французскую музыку — увертюру «Фра-Диаволо», — сообщает мне дальнейшую программу вечера петербургский меценат.
На эстраду всходит его младший брат — виолончелист Матвей Виельгорский. Он пробует смычком свой знаменитый «Страдивариус». Стареющий и убежденный
92
холостяк, он шутя называет любимый инструмент своею женою.
Начинается соло на виолончели. Я занимаю место рядом с д'Антесом. Искрометная фантазия Обера сменяет строгую гармонию германского композитора.
Под звуки «Фра-Диаволо» в концертный зал входит незнакомка в сопровождении советника австрийского посольства.
Чистота славянского облика заметно утончена в ней типом знатной европейской женщины. Огромными сияющими глазами следит она за музыкантом, видимо, совершенно зачарованная блестящим каскадом звуков, сыплющихся из-под его смычка. Алмазная фероньера чуть-чуть колеблется над ее тонкими, слегка приподнятыми бровями, придающими всему ее облику характер наивной удивленности. Я долго всматриваюсь в это лицо, источающее лучи непередаваемого очарования. И чем дольше я смотрю на него, тем явственнее узнаю женщину, нарисованную мне недавно д'Антесом в его страстном признании за бокалом шампанского у Дюмэ.
Я наконец наклоняюсь к нему.
— Делаю первый ход: я узнал твою даму.
Д'Антес с удивлением взглядывает на меня.
— Ты был так красноречив, — продолжаю я, — что по твоему портрету я без труда узнаю оригинал.
Движением головы и глаз я указываю ему на вошедшую незнакомку.
Жорж весело смеется.
— Я, кажется, выиграю пари, — заявляет он. — Нет, верь мне, ты решительно ошибся. Это только моя добрая знакомая, графиня Долли Фикельмон, жена австрийского посла. Ты, конечно, будешь в числе обычных посетителей ее раутов. Я тебя сейчас представлю ей.
И пока Матвей Виельгорский доигрывает свои искрометные вариации, д'Антес продолжает тихо говорить мне:
— В одном ты не ошибся. Это, конечно, одна из первых петербургских красавиц. Она кружила голову императору Александру и всем европейским монархам. Когда муж ее был посланником при короле неаполитанском, ее имя даже вошло в знаменитую итальянскую поговорку: «Vedere Napoli, la Fiquelmont e morire!» ¹. В Петербурге она служит одним из украшений придворных балов. И все же она решительно бледнеет и гаснет при появлении другой...
_______________
¹Увидеть Неаполь, Фикельмон и умереть!(ит.)
93
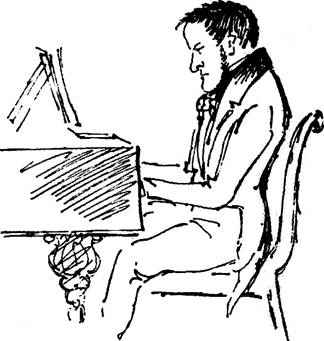
В это время смычок виртуоза оборвал на высшем подъеме бешеного темпа последние звуки финала. Мы прошли вдоль кресел, и д'Антес представил меня жене австрийского посла.
Разговор ее приятен и жив. Она любит Париж, следит за французской литературой, знакома лично со всеми европейскими знаменитостями.
— Как жаль, что концерт помешает мне подробно расспросить вас о семье графа Апонии. Но не заедете ли вы ко мне, виконт, пораньше в четверг, когда еще не все соберутся на раут? Мы спокойно побеседуем с вами о наших общих друзьях.
Я принимаю приглашение. С семьей австрийского посла в Париже я был действительно близко знаком. Я мог подробно рассказать петербургской посланнице о знаменитых балах и танцевальных завтраках ее парижского друга.
94
Третий номер программы. Маленький полный пианист с рыхлым лицом и печальными глазами поднимает с клавишей необычайные вариации, в которых странно переплетаются русские народные песни с дразнящими темами польских танцев.
Это молодой композитор Глинка, оперу которого «Иван Сусанин» готовит к постановке Большой Каменный театр. Мы внимательно вслушиваемся в заунывные мотивы глухой северной тоски, прерываемые возбужденным звоном мазурок и вызывающим топотом краковяка.
«Скифский концерт» впервые приоткрыл мне в глубоких сугробах медвежьей страны великий оазис искусства. Я говорю об этом Виельгорскому и молодому русскому композитору.
— Вы правы, — отвечает мне Глинка, — в России нет ничего, но есть песни, от которых хочется плакать...
XII
Как опытный и долголетний дипломат, барон Геккерн в первой же беседе со мною правильно определил положение нашего посольства при царском дворе. Представители революционной Франции, мы чувствовали свое одиночество в официальном Петербурге. Но личные качества и славное имя Баранта обеспечивали нам почетный прием в салонах и дворцах, где мы были всегда желанными гостями. Петербургское общество, столь чуткое к Парижу с его модами, литературой и театрами, чествовало нас как представителей законодательной нации и великого города.
Состав петербургских послов сильно обновился незадолго до нашего приезда. В ноябре 1835 года сюда прибыли новые представители европейских дворов — посол Великобритании лорд Дэрам, прусский посланник фон Либерман, чрезвычайный и полномочный министр короля Обеих Сицилий с длинным и пышным наименованием: князь Джорж Уильдинг ди Бутера э ди Радоли. Последнего мы хорошо знали по Парижу, где он занимал до октября 1835 года тот же пост при французском Дворе.
Это были в большинстве случаев люди восемнадцатого века, для которых политика представлялась высшим развлечением утонченных умов, увлекательной и сложной игрой нескольких одаренных представителей евро-
95
пейской знати. Географическая карта служила им превосходной шахматной доской для остроумных комбинаций и находчивых ходов. Создавать новые соотношения границ из борьбы династических интриг представлялось для этих стареющих кавалеров лучшей заменой галантных приключений и соблазнительных азартов ландскнехта. Конгрессы с их политическими дебатами заменяли им салоны с их литературной болтовней. Упорное стремление оградить монархический строй от грозной революционной опасности обращало их всех к государственной системе Меттерниха. В кругу петербургских дипломатов мы были единственными представителями свободной школы великого Талейрана.
Наиболее близок нам был посол Англии, лорд Дэрам, из группы радикалов. Это была сильная и своеобразная фигура на мрачном фоне самодержавного Петербурга. Он прославился резким обличением принудительных мер против чартистов. Его считали непримиримым врагом абсолютных монархий. Английское министерство поручило ему вскрыть перед конституционной Европой опасность, грозящую ей со стороны России.
Это был человек скептического и желчного ума с меткой и острой оценкой лиц и событий. Петербургский двор относился к нему с величайшим вниманием.
«Намедни, на придворном балу, — писал Барант в одной из своих депеш, — могло показаться, что праздник устроен императором для английского посланника: столько расточено ему любезностей и предупредительности...
Чем более я присматриваюсь к политическому, положению России, тем более вижу, каким весом и значением пользуется здесь Англия. Помимо страха, который внушают ее эскадра и морские экспедиции, единственный род войска, способный непосредственно напасть на русское могущество, — нужно принять во внимание, что почти вся торговля в ее руках, что ее навигация в русских портах вдесятеро больше нашей, что вывоз сырого материала, единственный источник богатств, производится англичанами»...
Вот почему русское правительство с такой тревожной бдительностью следило за всем происходящим в Англии и даже подозревало лорда Пальмерстона в намерении сжечь Кронштадт.
Впрочем, умеренный тон лондонских ораторов в зимнюю сессию 1836 года несколько успокоил император-
96
ский кабинет и сильно упрочил положение лорда Дэрама. Мы не могли не порадоваться этому: в официальном кругу царской столицы это был, несомненно, наш самый искренний друг.
Его отношение к нам разделял отчасти австрийский посол Фикельмон. Несмотря на различие политических программ, он был близок Баранту как француз, историк и писатель. Предки его вступили еще при Марии-Терезии в австрийские войска, но сохранили свое французское подданство. В его речах скрещивались парижанин с германцем: он любил в живой и острой беседе передавать общие размышления о судьбах Европы. Он писал большой труд о «Психологии истории», что не мешало ему поставлять для салонных спектаклей фривольные водевили. Я читал его трактат «О системе Гельвеция» и смотрел на его домашнем театре «Утро молодой вдовы».
В нашем посольстве ценили австрийского посла — его вкус к преданиям старой Франции, его острое слово и политический такт. Барант любил обсуждать с ним свои текущие научные труды.
Я же охотно готовился сообщать парижскую хронику прекрасной супруге Фикельмона, сумевшей оставить след своего имени даже в простонародной неаполитанской поговорке.
XIII
В назначенный четверг я отправился к семи часам на Английскую набережную в австрийское посольство.
Лакей с черными орлами на всех пуговицах своей голубой ливреи, доложив обо мне, довольно долго водил меня по огромным апартаментам второго этажа.
Мы наконец дошли до полутемного циркульного зала. Широкая арка меж колонн в противоположной стене раскрывала ярко освещенную маленькую гостиную, увешанную гобеленами.
Мой проводник с почтительным поклоном указал мне на конечную цель наших странствий.
Я беззвучно прошел по густому и узкому ковру, сочиняющему двери зала, и невольно остановился меж колонн входа.
97
Зрелище, представшее моим глазам, было не совсем обыкновенно.
У круглого мозаичного стола, какие часто встречаются в Италии, двое людей были погружены в какое-то странное занятие.
Стол был почти сплошь покрыт драгоценными камнями. В различных сосудах они переливали разноцветными искрами. Алмазы в хрустальных чашечках, рубины на фарфоровых тарелках, сапфиры и опалы в длинных бокалах — все это дробило отсветы канделябров в бесчисленных лучах этой непонятной Голконды.
Казалось, графиня Фикельмон, стоявшая у круглого стола, и гость ее, низко наклонившись в своем кресле над сверкающим блюдцем, были совершенно заворожены мерцающей игрой этой многоцветной россыпи. Они не сразу заметили меня.
— Не правда ли, какой изумительный блеск? — задумчиво произнесла графиня, высоко поднимая крупный голубоватый алмаз, словно стремясь вобрать в его мелко граненную призму порхающие отблески бесчисленных свеч хрустальной люстры.
Незнакомец поднял голову. И над грудой этих пылающих звезд я увидел огромные светлые глаза, блиставшие ярче всех драгоценностей.
Весь облик этого безмолвного гостя чем-то сразу поразил меня. Он смотрел немного вбок и вверх, и это придавало его лицу особое выражение какого-то возвышенного созерцания. Прекрасные глаза, с громадными расширенными зрачками, словно затканными золотыми искрами, были кристально прозрачны и таинственно глубоки. Их, казалось, ширила и проясняла неведомая и торжественная дума, озарявшая изнутри весь его неправильный облик.
— Как я рада, виконт, что вы собрались ко мне до общего съезда, — произнесла наконец графиня Фикельмон, обернувшись ко мне и ласково протягивая мне руку.
Я переступил порог гобеленовой гостиной.
— Виконт д'Аршиак, атташе при посольстве короля французов, — назвала меня посланница, кинув беглый взгляд на незнакомца.
И затем, переведя на меня свою сияющую улыбку, произнесла таким же ровным тоном о своем госте:
— Monsieur де Пушкин, двора его величества. Придворный поднялся и с легкой непринужденностью чуть-чуть поклонился мне. «Так вот этот ярый
98
вольтерьянец, дразнящий своим пером имперских министров, — подумалось мне, — однако он нисколько не похож на якобинца».
— Вам, как представителю французской нации, — произнес он, протягивая мне руку, — могу сказать, что больше всего в жизни я люблю поэтов старой Франции и самая пылкая мечта моя — это побывать в Париже.
Его грудной и вибрирующий голос так же пленял, как спокойная и светлая улыбка, с которой он произносил эти приветливые слова. Я отвечал обычными любезностями, и мы продолжали беседу сидя у круглого стола с мерцающими бокалами.
Из двери во внутренние апартаменты вошел граф Фикельмон. Он присел к нашему столу и, как всегда, сообщил ряд интересных сведений.
— Вас, вероятно, удивляет, виконт, это обилие драгоценностей. Венские ювелиры и чешские гранильщики чрезвычайно заинтересованы добычей драгоценных камней на Урале. Я имею особое поручение от ряда австрийских фирм и, как видите, временно коллекционирую образцы этих прелестных кристаллов.
И он рассказал мне, что в последние годы драгоценные камни, и особенно алмазы, были модным предметом в кругу русской знати. Незадолго перед тем член прусской Академии наук барон Гумбольдт, по пути на Урал и Алтай со своей ученой экспедицией, заявил в Петербурге самой императрице, что не вернется к ней без русских алмазов. И действительно, тем же летом министр финансов Канкрин получил извещение, что на уральских золотоносных россыпях среди кристаллов колчедана и галек кварца был найден первый русский алмаз. Это произвело сильное впечатление. И хотя добыча драгоценного камня оказалась ничтожной, все ожидали раскрытия новой богатой россыпи.
Мне вскоре действительно пришлось убедиться, что алмазы были в моде в Петербурге, и даже престарелые сановники, садясь за бостон, охотно вспоминали, как при Екатерине расплачивались за проигрыш в макао бриллиантами. «Представьте себе, — рассказывала мне старуха Голицына, — столы, покрытые черным бархатом, кедровый ящик, из которого черпали золотой ложечкой по алмазу за каждую девятку. Это было похоже на «Тысячу и одну ночь»...
Пока Фикельмон читал свою маленькую лекцию, я
99
мог внимательно рассмотреть заинтересовавшего меня посетителя графини.
Его некрасивое лицо было прекрасно. Несмотря на тяжелые губы, выдвинутую челюсть и неправильный излом носа, несмотря даже на обильную курчавую растительность вокруг всего лица, оно поражало странным сочетанием изящества и энергии. Тонкий овал и нежный, почти девичий подбородок, светлый, прекрасно отчеканенный лоб, живость и подвижность выражения, матовая чистота и даже бледность кожи, яркий блеск белоснежных зубов — все это придавало его облику благородную и пленительную утонченность. Редкие, еле заметные брови сообщали ему странное сходство с портретами безбровых женщин Леонардо да Винчи. Но лучше всего был взгляд — пытливо-вдумчивый и временами доверчиво-беспечный, то углубленно-мечтательный, как у мыслителя, то наивно-смеющийся, как у ребенка.
Во время беседы он поднимал иногда широким и волнообразным жестом свою руку, небольшую и необыкновенно красивую. Длинные нервные пальцы с отточенными ногтями трепетали под батистом его манжет, интригуя двумя загадочными темными перстнями не то масонского, не то древнерыцарского типа.
Пока Фикельмон говорил, Пушкин медленно шевелил груду мелких драгоценных осколков, рассыпанных на двух фарфоровых тарелках. На одной возвышались искрящимся конусом мелкие алмазы, на другой рубины. Тонкие пальцы погружались в серебрящиеся искры или же пропускали сквозь свою живую сеть алый поток сверкающих и твердых капель. Продолжая беседу, все мы невольно смотрели на эти каскады струящихся драгоценностей, замагнетизированные их живым и дробящимся блеском.
— Что напоминает вам это? — спросила Долли Фикельмон, прикоснувшись к руке своего гостя, погруженной в играющие радугой алмазные осколки.
И тут же отвечала, как бы отдаваясь какой-то мечте или воспоминанию:
— Пальцы, хватающие снег, девственный, замерзающий, оцепенелый и все же рассыпающийся осколками и искрами снег...
— А это, в таком случае, не напоминает ли капель крови, струящихся из раны? — произнес Пушкин, роняя сквозь пальцы правой руки горсточку вспыхивающих рубинов. — Снег и кровь — какое сочетание...
100
— Что за мрачные сопоставления, — смеясь, упрекнула хозяйка, — я, напротив того, верю, что алмазы имеют тайное благодетельное влияние на судьбу человека, — не правда ли, виконт?
— По преданию, — отвечал я, — Карл Смелый брал с собою в битвы все свои алмазы... — И это не приносило ему счастья? — Он выходил обычно победителем из всех сражений, пока, впрочем, не пал в битве при Нанси под шлемом, украшенным величайшим алмазом. — Какая прелесть эти старинные предания! — воскликнула графиня. — Жуковский недавно рассказывал мне, что, по представлению восточных поэтов, тот, кто носит алмаз, угоден царям и огражден от козней врагов.
— Вы, кажется, хотите намекнуть, что мне следует заменить изумруд на этом перстне алмазом, — произнес с задумчивой улыбкой Пушкин.
— Я для этого слишком уверена в благоволении к вам императора, — отвечала хозяйка, — не назвал ли он вас умнейшим человеком в России? Monsieur Пушкин — историограф его величества, — снова пояснила мне графиня.
— У нас в историографы возводят великих поэтов, — заметил я, — Людовик XIV даровал это звание Расину...
— Очевидно, император Николай следует этому примеру, — улыбнулась графиня.
— Не думаю,— отвечал русский историограф,— тем более что в настоящее время я ведь только смиренный прозаик и пока еще не облечен титулом покойного Карамзина.
— Историческая проза может достигать высокохудожественных форм, — заметил я, — вспомните Тацита...
— О, конечно, особенно если тема так увлекательна, как гибель римских цезарей. Ведь Тацит — бич тиранов, и, кажется, потому он так не нравился Наполеону...
Беседа продолжалась в этом тоне. Заметив во мне интерес к литературе, Пушкин высказал ряд живых суждений о нашей поэзии, обнаружив замечательные познания во французской словесности. Он восхищался созвездием гениев, покрывших блеском конец семнадцатого века; он прочел мне на память несколько чудесных сти-
101
хов Андре Шенье, он с увлечением говорил о прелестных сказках Мюссе, предсказывая ему будущность романтического трагика. Он метко и кстати цитировал то элегическую думу Жозефа Делорма, то острый афоризм Шамфора. Все новинки парижской книготорговли были ему известны.
Когда я удивился обширным познаниям поэта в нашей словесности, он с улыбкой отвечал мне, как оказалось, словами одного из своих героев:
Родился я под небом полунощным.
Но мне знаком латинской музы голос,
И я люблю парнасские цветы 1.
— Это у нас семейное, — продолжал он, — отец мой знает всего Мольера наизусть, уверяю вас. Что же касается до парижских новинок, то семья графини снабжает меня всеми запрещенными книгами, — отвечал он. — А вот и мой главный поставщик.
В комнату входила полная пожилая дама в светлом вечернем наряде с широким придворным декольте, обнажающим ее скульптурные плечи.
— Maman, je vous presente Ie vicomte d'Archiac, attache a d'ambassade de France 2, — произнесла графиня Фикельмон.
Это была, как я узнал к концу вечера, известная в петербургском свете госпожа Хитрово, дочь фельдмаршала Кутузова и теща австрийского посла. В эпоху реставрации она была женою русского посланника при Тосканском дворе и с тех пор славилась своей осведомленностью в политических делах Европы.
Она сейчас же обратилась ко мне с рядом вопросов о Тьере, Моле, Брольи, маршале Мэзоне, герцоге Немурском, о возможных комбинациях новых министерств во Франции и трех кандидатах в премьеры. Она действительно была в курсе всех парламентских дел Франции и рассуждала о них с авторитетом крупного политического деятеля.
— Верьте мне, дорогой виконт, — уверяла меня она, — что Тьер будет снова премьером. Он действует, пока герцог Брольи мечтает, и я убеждена, что им вскоре придется обменяться ролями...
________________________
1 Приводим пушкинские стихи в подлиннике. Издатель.
2 Маман, я представляю вам виконта д'Аршиака, атташе в посольстве Франции (фр.).
102
— У герцога, сударыня, очень продуманные и верные принципы управления, — попробовал возразить я.
— Глава правительства не имеет права философствовать, — решительно изрекла моя собеседница, — не правда ли, mon cher Pouchkine.
Она с глубокой нежностью, долгим и ласковым взглядом обратилась к своему соседу.
— Que voulez-vous, madame1, — отвечал тот, — ведь герцог Брольи зять госпожи де Сталь, с которой одна только женщина во всей Европе может соперничать умом и познаниями, — закончил он с еле заметной усмешкой, почтительно склонив голову перед своей собеседницей.
— Каким вы стали скептиком, друг мой, — с укоризной произнесла дочь Кутузова, — вы перестали верить в доблесть государственного ума и гражданской воли...
— Что может быть сладостнее дремоты на мягком изголовьи сомненья? — медлительно и слегка нараспев, как излюбленное изречение, произнес поэт.
Вскоре салон графини наполнился. Сюда приехал высокорослый лорд Дэрам со своим атташе, эсквайром Артуром Медженисом. Этот молодой человек с бледным флегматичным лицом и розовым клювообразным носом был известен в салонах под прозвищем «больного какаду». Он недавно лишь прибыл в Петербург с новой великобританской миссией и, подобно мне, чувствовал себя в этом обществе новичком.
Из писателей здесь вскоре появились вкрадчивый и бархатный Жуковский, безобразный и умнейший князь Вяземский. Общество разбилось на маленькие группы, и во всех углах можно было услышать любопытную новость, остроумное слово, проницательное предсказание или живую характеристику.
У круглого мозаичного стола Жуковский, подняв на свет хрустальный бокал с рубинами, как рюмку бургундского, рассказывал нескольким дамам восточное поверье о том, как влюбленный мусульманин, целуя рубин, воображает, что он лобзает жаркие уста гурии. Лорд Дэрам сообщал Фикельмону только что полученное известие о смерти матери Наполеона Летиции Бонапарт, видевшей некогда всех своих детей на тронах Европы.
— Вот когда можно повторить формулу Талейрана:
_____________________
1Что вы хотите, мадам (фр.).
103
это не событие, это только новость, — заметил Фикельмон.
Бледнолицый Медженис долго и вяло излагал мне свои соображения о желательности постоянного объединения всех секретарей петербургских посольств.
Пушкин, перелистывая бальзаковскую «Златоокую деву», что-то живо говорил о современной французской прозе госпоже Хитрово, которая взирала на него из глубины своего кресла с выражением безграничного и счастливого обожания.
Ровный и оживленный говор царил в покоях, когда я распростился с прелестной хозяйкой и отправился досматривать Скриба в Михайловский театр.
* * *
Так протекала наша первая зима в Петербурге. Концерты Виельгорских и собрания литераторов у Карамзиных, политический салон Фикельмонов и съезды дипломатов у Строгановых, дворцовые приемы и министерские рауты понемногу раскрывали предо мною во всем его разнообразии блестящий и холодный круг столичной знати.
Вращаясь в этой среде, я постоянно помнил пари с д'Антесом и с вопросительным ожиданием всматривался в мелькающие женские лица. Но и вторичная моя попытка разгадать эту романическую тайну потерпела полное крушение.
— Это Аврора Шернваль, — назвал мне Жорж заподозренную мною на одном вечере ослепительную красавицу, — она, конечно, стоит всяческого поклонения, но я глубоко равнодушен к ней.
Я сохранял право еще на один ход. И с напряженной пытливостью я продолжал всматриваться в точеные лица петербургских знаменитостей — Завадовской, Радзивилл-Урусовой, Шуваловой, Мусиной-Пушкиной или графини Лембтон, боясь потерять мой последний шанс на выигрыш в этой трудной и необычной игре.
XIV
В Петербурге я узнал развязку того кровавого события, которое вызвало крутой перелом в ходе моей дипломатической деятельности.
104
Депеши министерства сообщили нам о суде над Фиески и его сообщниками.
Парижские газеты вскоре доставили подробности процесса и казни.
Суд пэров приговорил корсиканца к наказанию, определенному за отцеубийство: ему предстояло шествовать на лобное место в рубахе, босиком, с черным покрывалом на голове.
В день казни Фиески сохранял невозмутимое спокойствие. Он отнесся с полным безразличием к сообщению о замене квалифицированного ритуала казни обыкновенным порядком. На вопрос одного из помощников палача, нет ли у него редингота (день был холодный), он отвечал: «О, мне недолго придется мерзнуть»...
Пока ему связывают руки за спиною, он погружается в раздумье. Затем торжественно возглашает:
— О, зачем я не оставил моих костей под Москвою, вместо того чтоб дать себе срезать голову на родине... Но я не раскаиваюсь в моем поступке и с эшафота буду служить образцом!
Когда приготовления закончены, Фиески поднимается и оглядывает присутствующих:
— Я беру вас всех в свидетели, что я завещаю мою голову господину Лавока (его защитнику). Я записал это в моем завещании и думаю, что закон охранит мою волю... Отвечайте, кто из вас поднимет мою голову? Заявляю, что она принадлежит не ему! Я отдаю мою голову господину Лавока, душу — богу и тело — земле...
В семь с четвертью приготовления закончены. Приговоренных проводят длинными коридорами в сад малого Люксембурга, где их ждут три кареты. Каждый осужденный помещается в отдельном купе с исповедником и двумя жандармами.
Незадолго до прибытия осужденных дежурные комиссары полиции открыли доступ тем присутствующим, которые находились ближе других к орудию казни. В десять минут три тысячи зрителей заполнили площадь, на которой находилось несколько генералов в полной парадной форме, королевский следователь и старший референдарий палаты пэров.
По ту сторону барьера, в кабачке виноторговца Этьена, можно было заметить герцога Брунсвика, который из окна первого этажа не отводил от эшафота красивого бинокля из слоновой кости, покрытого богатыми барельефами. Рядом с ним находился еще один англичанин весьма высокого происхождения. Говорят, каждый из
105
них уплатил по нескольку сот франков за удовольствие видеть отсекновение трех голов.
Вскоре появляются кареты осужденных. Все трое спокойно выходят и направляются к эшафоту.
Сообщники Фиески первые взошли на ступени. Корсиканец не моргнув глазом дважды видел, как взлетал широкий нож, окрашенный кровью его товарищей и готовый опуститься в третий раз на его шейные позвонки. Он продолжал спокойно беседовать с лицами своей охраны. Но вот помощник палача опускает руку на его плечо в знак указания, что наступила его очередь. Фиески бестрепетно приближается к гильотине и просит разрешения обратиться к толпе с последним словом. Комиссар полиции предлагает ему быть кратким.
Немедленно же Фиески взбегает по ступенькам и громким голосом среди мертвой тишины произносит:
— Я оказал великую услугу моей стране, я умираю спокойным. Прошу прощения у всех! Жалею больше о моих жертвах, чем о моей жизни...
Произнеся эти слова, он быстро оборачивается и отдает себя в руки палача.
В семь часов пятьдесят три минуты кортеж прибыл к эшафоту. Пять минут спустя троекратная казнь была закончена.
* * *
Из политических газет:
— Герцог Веллингтон, упавший недавно с лошади, явился вчера в верхнем парламенте в первый раз после случившегося с ним несчастия; он был принят всеми пэрами с изъявлением радости.
— Зрение герцога Сюссекского укрепляется; в комнате его уже так светло, что он может заниматься чтением.
— Носится слух, что папа отправится в течение лета в Карлсбад для пользования водами.
— Последнее покушение на Луи-Филиппа имело следствием, что для короля сделали новую карету. Кузов ее из дубового дерева, внутри и снаружи он обит жестью, окошки в дверцах очень узки, самая же карета столь глубока, что сидящие в ней могут не опасаться выстрелов. Карета сия шестиместная.
— Содержатель кофейного дома «Ренессанс» нанял за 1000 франков в месяц Нину Лассав, приятельницу
106
Фиески, в конторщицы своей кофейни. Вчера вечером стечение к нему народа было столь велико, что при входе должно было поставить двух пеших солдат и одного кавалериста. Всяк хотел видеть Нину Лассав, которая принуждена была сносить величайшие насмешки. Один из посетителей спросил у нее напрямик, как она может показываться всенародно спустя четыре дня после казни ее друга Фиески. Несчастная едва не лишилась чувств; ее принуждены были вывести на четверть часа из конторы. По возвращении своем она умоляла присутствующих оставить ее в покое и не отягчать насмешками ее судьбы, без того несчастной.
— Плотник, изготовивший дерево к адской машине преступника Фиески и взятый под стражу, был оправдан верховным трибуналом, но от испугу сошел с ума.
— Английские баронеты имели на прошедшей неделе многочисленное собрание для принятия мер к сохранению своих, древних прав и преимуществ. Они хотят по-прежнему носить титло достопочтенных и употреблять герб, дарованный им Карлом I.
XV
Тайна д'Антеса наконец раскрылась мне в совершенно неожиданной обстановке.
В феврале я присутствовал впервые на придворном балу. Русский карнавал закончился большим дворцовым празднеством.
Карета французского посла в длинной цепи экипажей и саней медленно подъезжала к подъезду Зимнего дворца, украшенному барельефами и лепными карнизами в нарядном стиле эпохи Регентства.
Мы поднялись по алому сукну широких парадных лестниц и прошли по зеркальным паркетам бесконечных галерей вдоль живой изгороди дворцовых гренадеров в черных медвежьих шапках, обшитых по косматому меху золотыми галунами. Сплошные шеренги придворных лакеев, егерей и скороходов, затмевающих блеском своих ливрей «с золотым басоном» мундиры камергеров, как бы продолжали непрерывный внутренний фронт царских телохранителей.
Ни при одном дворе, ни в одном европейском государстве не развита до такой степени страсть к мишурной театральности, к показной декоративности, к пышным облаченьям и громкозвучным парадам, как в Пе-
107
тербурге. Царь — первый исполнитель и главный режиссер этих оглушительных и ослепляющих спектаклей. Он всегда позирует и превращает в лицедеев всех окружающих. Он играет в войну на маневрах, в благочестие на службах, в герои во время эпидемий, бунтов и пожаров. Я был свидетелем самой скучной из его затей — игры в веселье на придворном балу.
Мы прошли пустынные пространства мраморных апартаментов, пересекли портретную галерею российских генералов, где несколько пустых рам зияли зеленой тафтой: изображения генералов, замешанных в события 14 декабря, были неумолимо удалены из галереи героев двенадцатого года. Даже полотна несравненного Джорджа Дау разделили общую участь.
Мы проследовали в глубь дворца Фельдмаршальским залом, где изображения полководцев украшены громкими титулами их победоносных сражений под Рымником, в Тавриде, на Балканах или за Дунаем. Наконец мы достигли просторного бального аванзала, где собирались приглашенные.
«Знатные обоего пола особы, имеющие приезд ко двору, — как писалось в официальных реляциях, — а также гвардии, армии и флота генералы, штаб- и обер-офицеры и господа чужестранные министры» входили в белую залу и занимали в ней места по указаниям церемониймейстера графа Борха. Нас принимал вооруженный золоченой тростью старший обер-камергер, исполинский граф Литта, рыцарь Мальтийского ордена, с монументальными жестами и трубным голосом.
Дипломатический корпус выделялся своими несхожими и богатыми облачениями. Советник австрийского посольства блистал в костюме венгерского магната, с висячим доломаном, отороченным голубым песцом и богато расшитым бирюзою. Несколько восточных тюрбанов с алмазными эгретками оживляли своими сказочными очертаниями европейские мундиры. Витые узоры знаменитых иностранных отличий золотого руна, черного орла или прусского лебедя, литые изображения геральдических грифонов, фениксов и единорогов змеились и вспыхивали в атрибутах скрещенных мечей и пернатых шлемов над широким красным муаром наплечных орденских лент.
Согласно циркулярному приглашению, гости были облачены в одеяния высшей парадности — дамы в круглых богатых платьях, а кавалеры в парадных мундирах, лентах в башмаках.
108
Высокий белоколонный зал, весь в статуях и лепных фризах, наполнялся жужжащим роем раззолоченных гостей, и царские вельможи чинно располагались вдоль стен, освещенных пока еще немногими канделябрами. Полный свет давался к открытию празднества. Министры и «особы первых шести классов», статс-дамы, гофмейстерины и камер-фрейлины, послы, гвардия и двор к девяти часам были в сборе. Все было готово к ритуалу высочайшего появления.
Русский император любит пышный и сложный этикет с бесконечной иерархией чинов и трудной иностранной терминологией обрядов и титулов. По образцу австрийского и прусского двора, царь окружен гофмаршалами, обер-шенками, обер-егермейстерами, мундшенками, шталмейстерами, камергерами, камер-юнкерами, камер-фурьерами и камер-пажами. Это тот улей приближенных и вельмож, в центре которого гудит и блещет пчелиная матка — сам император Николай, упоенный призрачной торжественностью этого строгого распределения своих приближенных по мертвой скале пышных дворцовых наименований старой феодальной Германии. Никто не думает в этом кругу, во сколько обходятся государству эти сотни совершенно праздных людей с громкими и нелепыми прозвищами.
В десятом часу белый зал был наполнен толпой приглашенных, напряженно ожидавших «монаршего выхода».
И вот ровно в девять с половиной военные оркестры призывно и возбужденно заиграли торжественный марш. Ликующая фанфара в победном кличе труб и звонком бряцании литавров возвестила о приближении императора. Палисандровые двери с бронзовыми барельефами порывисто распахнулись настежь. Отряды рослых дворцовых арапов в чалмах и шароварах выстроились по обеим сторонам входа. Обер-церемониймейстер, приблизившись к раскрытым дверям, вытянул свой золотой жезл и легким стуком о паркет возвестил собравшимся о наступлении долгожданной минуты.
И, как актеры классической трагедии, размеренной походкой, с заученным выражением благосклонности на неподвижных лицах, с величавой и напряженной торжественностью в бальную залу из полутемных кулис выступили хозяева празднества.
В то же мгновение искра беглого огня, мерцая и
109
вспыхивая, пробежала с легким треском по мякотным нитям, протянутым по всем светильникам, и несколько тысяч восковых свеч почти мгновенно зажглись в полированной бронзе люстр и прозрачных отрогах гигантских хрустальных шандалов.
В палатах русского царя не признавали новых способов освещения. Лампы и газ европейских дворцов в них еще не вытеснили белого воска ватиканских капелл. Но невероятное количество свеч, повторенное в перспективе бесчисленных зеркал, создавало при полном освещении впечатление яркого солнца. Все было залито ровным белым сиянием и сверкало от тысячи пересекающихся лучей. Гладко отполированный мрамор зала со всех сторон отсвечивал дробящееся пылание бесчисленных неопалимых кустарников, отраженных в зеркальной поверхности стен, как жертвенный огонь в белой яшме вавилонского храма.
Оркестр оборвал приветственную ритурнель.
Император Николай, туго затянутый в мундир кирасирского полка, широкими шагами военного ввел в ряды гостей императрицу. Среди внезапно наступившей тишины ритмично позванивали на ходу металлические украшения его костюма и шумно шуршали плотные шелка, тяжело волочась за царицей.
Свита вслед за царем прошла через зал к возвышению под тяжелым балдахином с орлами, коронами и страусовыми перьями.
Лицо царя неподвижно, как окаменелый слепок. Геометрическая прямоугольность черт создает ощущение холодной застылости. Выражение строгости, которым так гордится русский повелитель как природным отличием своего сана, не изменяет ему даже на балу. Выпуклые глаза, несколько водянистого оттенка, с жуткой пристальностью пронизывают окружающих. Говорят, некоторые фрейлины трепещут от приближения этого неумолимого, как гильотина, человека и падают в обморок под его леденящим взглядом медузы.
Во внешности императора нет ничего русского. В отчетливом очерке лица, в строгом выражении и сдержанных жестах чувствуется прусский военный. Германское происхождение царя явственно сказывается на всей его наружности. Недаром он и по титулу не только император всероссийский, но еще и великий герцог Шлезвиг-Голштин-Готторпский.
110
Императрица поражает своей болезненной худобой и нервным подергиванием своего бледного лица. Ее хворую натуру совершенно заморили балы, приемы, парады и разъезды, а главное — трудная царская повинность обильного деторождения. «Какая досада — истощать себя на создание великих князей», — сказала о ней баварская посланница.
И действительно, несмотря на свою легендарную репутацию прелестной женщины и льстивое прозвание Лалла-Рук, царица совершенно блекнет в кругу выдающихся красавиц, окружающих ее трон. Вот почему она стремится затмить их всех своим облачением: шлейф ее осыпан драгоценными камнями, весь наряд оторочен горностаем, на голове переливно сверкает изумрудная диадема из крупных звезд с бриллиантовыми лучами.
Музыка заиграла полонез. Император подвел Фикельмона к императрице и, предложив руку леди Дэрам, открыл бал традиционным в России польским.
Это не столько танец, сколько скорее медленная и томительно долгая прогулка бесконечной вереницы пар по анфиладе огромных зал. Размеры Зимнего дворца превосходят Лувр вместе с Тюильри. Весь двор, вытянутый попарно, заколыхался вдоль бесчисленных колонн и в сплошном потоке драгоценных уборов, орденских знаков, золотых расшивок, шелка, перьев и струящегося серебра.
В Зимнем дворце все танцы приобретают характер учения. Этому закону подчиняется даже наша легкокрылая кадриль. Император Николай признает этот танец, ведущий свое происхождение от турниров и полковых каруселей. Как известно, маленькие эскадроны, подражавшие в своей пляске сражению, фехтовали по четверо на рыцарских празднествах. Фигуры современного контрданса сохраняют следы этих старинных военных игр.
Но и этот живой танец приобретает в холодных апартаментах северного владыки рассчитанный, унылый и мертвенный характер. Пары продвигаются и отступают методически и чинно, без малейшего оживления и порыва. Я невольно вспомнил клокочущие балы парижской Оперы, где танцоры, увлеченные буйным вихрем бешеного пляса, сплетаются и несутся в ликующем хороводе под оглушительное звучание дьявольского оркестра.
111
В перерыве танцев я несколько осмотрелся в окружающем обществе. Я увидел известных представителей русского двора — иностранцев, министров и писателей. В группе сочинителей, рядом с Жуковским и Вяземским, мне указали знаменитого фабулиста Крылова. Его рыхлое, широкое, отвисающее лицо, слегка тронутое оспой, странно напоминало безобразную маску Мирабо, на которой огонь трибуна был угашен ленивым славянским благодушием.
Среди министров меня поразило одно бледное, задумчивое и бесстрастное лицо. То был поклонник Наполеона, знаменитый защитник французских идей, едва не погибший жертвою патриотического каннибальства 1812 года, известный законовед Сперанский. Он смотрел на окружающих с тем холодным безразличием, которым навсегда отмечены облики людей, потерпевших в жизни незабываемые крушения. Эти великие обманутые и тяжко раненные замыкаются в спокойном одиночестве, ничему ни удивляются и без гнева принимают горькие выводы своего безнадежно отравленного жизненного опыта. Холодное лицо Сперанского хранило следы пережитых несправедливостей.
В парадной дворцовой толпе одно лицо особенно привлекло меня. В глубине зала сидела в массивных и высоких креслах древняя старуха. Наряд ее хранил черты старинных мод середины прошлого столетия. Напудренный парик, высокий чепец, весь в лентах, кружевах и искусственных розах, желтое шелковое платье, шитое серебром, — все это напоминало парижские наряды эпохи Помпадур.
Лицо ее было удивительно безобразно. Огромный крючковатый нос свешивался над толстыми, отвислыми губами, покрытыми густою седою порослью. Мутными глазами разглядывала она толпу, непроизвольно покачивая своей ужасающей головой под пышными бантами и яркими розанами громоздкого головного убора.
Это была самая знатная петербургская барыня, княгиня Наталья Петровна Голицына. Ей было без малого сто лет, она помнила шесть царствований, в свое время дружила с Екатериной и бывала на приемах у Марии-Антуанетты. В молодости она отличалась необыкновенной красотой и, говорят, сводила с ума самого герцога Ришелье.
Ее называли обычно в Петербурге Princesse Mo-
112
ustache1 за обильную растительность на лице. Но в то время к старинному прозвищу присоединилось новое наименование: ее стали называть Пиковой Дамой. Дело в том, что поэт Пушкин изобразил довольно прозрачно старую Голицыну в небольшой повести под этим заглавием. Мне как-то перевели эту прелестную сказку, переплетающую нравы современного Петербурга с праздничным бытом королевского Версаля.
Поэт, видимо, хорошо изучил свою модель. Княгиня величественна, сурова и надменна. Это идол петербургской знати. Дочь русского посла при Людовике XV, Голицына рано увлеклась политикой и, потрясенная кровавой жатвой гильотины в 1793 году, решила создать в Петербурге новый оплот европейской аристократии.
Я узнал, что именно она организовала в России высшее сословие, испытывающее перед ней за это глубочайшее благоволение. Весь сановный Петербург с тайной робостью и сознанием высокой чести проходит в известные дни через гостиную Голицыной и неизменно склоняется к сморщенной руке княгини на всех дворцовых балах. Ей представляют иностранных послов, как высочайшим особам.
Несмотря на свой возраст, она до сих пор сохранила гибкий ум, свежую память и привычку непринужденной светской беседы. «Я могу вам по воспоминаниям рассказать историю Франции, — говорила она своим хриплым каркающим голосом Баранту, — я помню день, когда Дюбарри сбросила с министерского кресла герцога Шуазеля, я видела девочку, заразившую черной оспой Людовика XV, я смотрела «Женитьбу Фигаро» в Трианоне, когда Розину играла несчастная королева Мария-Антуанетта, а цирюльника молодой граф д'Артуа, теперь, увы, свергнутый с престола Карл X...» И она горестно качала в такт рассказу своей чудовищной головой в буклях, бантах, розах и кружевах...
А между тем бал растекался по огромным внутренним проспектам дворца, и многотысячная толпа волнообразно извивалась по его крытым улицам, площадям и бульварам, окаймленным цветущими волютами фризов и каменной листвою капителей.
Праздник был разделен на две части ужином.
«По окончании угощения, — отметил придворный
_____________________
1Усатой Княгиней (фр.).
113
летописец, — проходили в белый зал, вторительно на бал».
Многолюдство и почти беспрерывные танцы не дали мне возможности осмотреть все общество. Вовлеченный в размеренное движение тысячной толпы, выполняющей эволюции своеобразного парада под верховным командованием своего повелителя, я только к концу вечера заметил одну пару, скрытую от меня до того движением полонеза и кадрили.
В момент, когда танцующие после ужина снова выстроились для кадрили, а часть посетителей во главе с императором расположилась на эстраде и вдоль стен любоваться финалом празднества, из соседнего аванзала вышла одна необыкновенная чета.
Юная женщина, слегка побледневшая от утомления танцами, возвращалась в бальный зал, чуть опираясь о руку своего спутника. Я взглянул на них и уже не мог отвести глаз от лица вошедшей гостьи. Белый бальный наряд широко обнажал покатые плечи, слегка прикрытые ниспадающими струями темно-русых локонов и колыхающейся волною мягкого султана, прикрепленного к маленькой токе. Черная бархатка, заколотая у шеи двумя алмазами, и старинная брошь, напоминающая сложный узор флорентийской лилии, оживляли своими переливными лучами белоснежную ткань бального наряда. Серебрящийся гладкий атлас обтягивал высокую и стройную фигуру, окутанную у плеч воздушным и пышным потоком оборок и кружев. А над тоненьким ободком черного бархата у шеи, этим скромным девичьим украшением, высоко поднималось пылающее бессмертной красотой чело мифологической героини. «Vera incessu patuit dea» 1, — вспомнился мне знаменитый стих Виргилия, когда я следил за сияющим безразличием, с каким несла свое строгое очарование эта неведомая посетительница петербургского бала. Холод великого спокойствия, свойственный только гениальным полководцам и знаменитым красавицам, казалось, замыкал ее внешность в очертания чеканной завершенности.
Только вглядываясь в это отточенное с поразительной чистотой лицо, я заметил во взгляде, в очерке лба,
______________________
1 Сама ее поступь обнаруживает подлинную богиню (лат.).
114
в самом рисунке слегка улыбающихся губ какое-то еле уловимое выражение скорби. Было ли это воспоминание или предчувствие страдания, трудно было бы сказать, но казалось, какая-то глубоко затаенная встревоженность придавала всему ее торжественному облику едва ощутимый страдальческий отпечаток, словно высветляющий глубокой сердечной болью эту великолепную античную скульптуру. В каких-то нежных чертах и ласковых оттенках взгляда и улыбки лучезарное чело Юноны неожиданно принимало трогательный облик застенчивой и пугливой девочки. Из-под кружев, перьев, локонов, алмазов и бархата неожиданно проступало прелестное личико подростка, чем-то испуганное, но доверчивое и любящее. И чувство беспредельного восхищения перед законченными формами этой гордой статуи, бестрепетно шествующей среди суетной толпы угодливых царедворцев, сменялось волною глубокой жалости к юной женщине, высоко взнесенной над жизнью и людьми счастливым и опасным даром своей неповторимой красоты. Она входила не одна. Рука ее в длинной белой перчатке спокойно лежала на темном рукаве ее спутника. Завороженный этим солнечным обликом, я не сразу разглядел гостя, вводившего в бальный круг эту прекрасную даму. Только через некоторое время я рассмотрел его. Это был мой собеседник, из салона графини Фикельмон, так изящно пересыпавший рубины и алмазы сквозь живую сеть своих тонких пальцев.
На первый взгляд, близость этих двух фигур могла показаться контрастной. Но стоило вглядеться в них, чтобы почувствовать, как гармонично они дополняли друг друга. Лишенный того, что признано считать среди военных мужской красотой, т. е. высокого роста, мускулистых ног, прямых и сухих черт лица, он отличался своеобразной прелестью тонкой и необычной внешности. Лоб и глаза говорили о мыслителе и творце. Непередаваемая грация жестов, легкость и уверенность движений, глубина и прозрачность взгляда — все это заметно отличало его в пестрой дворцовой толпе. Я узнал впоследствии, что поэт был по матери довольно близким потомком абиссинских принцев, по отцу — представителем исторического рода, который мог бы оспаривать у Романовых права на престол царей.
115
Офицерская выправка императора Николая казалась деревянной и мертвой рядом с живым и трепетным огнем, словно шевелившим зыбкую фигуру этого невысокого человека с кудрявой головой, полными губами и законченным изяществом каждого движения. Чувствовалось, что именно он имел право вводить в этот блистательный дворцовый круг первую красавицу своей страны. Казалось, облаченному хвалами царю, с его военным величием, противостоял некоронованный властитель, призванный шествовать с венчанным челом сквозь вереницу грядущих столетий.
Их появление вызвало невольное движение в зале Я заметил, как головы повернулись к входу и взгляды огромного собрания обратились к этой необыкновенно чете.
Это был тот момент, когда празднество как бы переламывается к своему концу. Торжественная напряженность выхода разрешалась легким возбуждением финала. Вот почему все общество невольно сосредоточило внимание на одинокой паре, медленно проходившей между двумя рядами танцоров.
Чуждый этому обществу, я вдруг ощутил неодолимую магнетическую силу редкого сочетания — неотразимой женской красоты и великой поэтической славы. Мне показалось, что бесчисленные свечи зала ярче разгорелись и сильнее запылали при появлении этих отмеченных судьбою людей. Юные фрейлины и престарелые статс-дамы, министры и генералы, дипломаты и камергеры, столетняя Голицына и шаловливая Воронцова-Дашкова — все на одно мгновенье внезапно и непроизвольно застыли, словно приветствуя эту входящую чету. Сам император Николай прервал на эстраде свою беседу с послом Великобритании и, повернув голову к мраморной арке входа, долго следил взглядом за шествием по бальному залу Пушкиных.
Внизу у эстрады, в группе военных и дам, я вдруг увидел лицо моего кузена. В нем не было ничего от обычного выражения веселого удальства и беспечной шутливости. Преображенное почти до муки, оно было обращено на прекрасную спутницу знаменитого поэта.
Я подошел к д'Антесу:
— Послушай, старик, я прекращаю дальнейшую игру. Изволь завтра же угощать шампанским...
Он молча перевел на меня свой взгляд, неожиданно
116
преображенный восхищением и страстью. Я почувствовал, что ни возражать, ни объясняться, ни говорить он не в состоянии. Я тихо отошел от него.
Новый вальс в два такта, уже принятый при дворе, вскоре вовлек все общество в свое кругообразное движение.
Так приоткрылась мне впервые тайна д'Антеса, вскоре разоблаченная перед всеми в трагическом эпилоге нашего петербургского пребывания.
XVI
Таков был наш въезд в Петербург. Так, рассеянно и между делом, начал я выполнять поручение герцога Брольи в парадном и суетном мире петербургских гостиных.
Между тем дворцы и салоны царской столицы начинали серьезно занимать меня. Картины двора и города незаметно пробуждали во мне литератора. От дипломатических депеш меня влекло к более широким и свободным описаниям. На празднествах и смотрах я не переставал вспоминать о моем предке герцоге Сен-Симоне, который, с редкой неутомимостью гениального художника, каждый вечер, среди шума лагерной или дворцовой жизни, зачерчивал свои бессмертные портреты вельмож и полководцев. Живописные страницы знаменитого мемуариста, увековечившего для будущих поколений двор Людовика XIV с его показным великолепием и темной сетью интриг, выступали предо мной заманчивыми образцами. Мне мерещились незабываемые портреты епископов, маршалов, послов, придворных поэтов, герцогинь и кардиналов. Мне казалось, что я мог бы зарисовать такие же картины придворной жизни, оставив потомству целую галерею замечательных исторических фигур. Я чувствовал, что жизнь петербургского дипломата, близкого ко всем тайным источникам государственной деятельности, может представить богатейший материал для описаний и биографий. Быть может, мечталось мне, я оставлю потомству мемуары, достойные моего великого пращура. Я выступлю в них не официальным историографом, а свободным изобразителем двора императора Николая. Обычной похвале тронных художников я противопоставлю живой и правдивый рассказ, чуждый лести и
117
готовый на сатиру там, где ее требуют факты действительности и справедливость нелицеприятного судьи.
Неумолимый ход событий, неожиданно прервавший мое пребывание в царской столице, не дал мне возможности выполнить моего обширного литературного плана. Вместо двадцати томов Сен-Симона у меня осталось несколько записных книжек, две тонких тетради дневников и пачка архивных документов.
Единственный читатель этих отрывочных листков, я до сих пор просматриваю их с пристальным вниманием.
 Сухие и мертвые для других, они полны для меня
глубокого жизненного смысла и неиссякающего драматизма. Из беглых записей
старого дневника, из летучи заметок газетной хроники, из бесстрастных постановлений
военно-судной комиссии звучат для меня живые голоса и возникают знакомые лица.
Предо мной слагается во всем ее неотразимом трагизме одна удивительная и
печальная повесть, созданная на моих глазах уверенною рукою самой
действительности. Из запутанного сплетения умчавшихся событий снова возникает
памяти озаренный облик одного поэта, медленно омрачаемый какой-то гнетущей
заботой и, наконец, мучительно искаженный взрывом неукротимого гнева и при-
Сухие и мертвые для других, они полны для меня
глубокого жизненного смысла и неиссякающего драматизма. Из беглых записей
старого дневника, из летучи заметок газетной хроники, из бесстрастных постановлений
военно-судной комиссии звучат для меня живые голоса и возникают знакомые лица.
Предо мной слагается во всем ее неотразимом трагизме одна удивительная и
печальная повесть, созданная на моих глазах уверенною рукою самой
действительности. Из запутанного сплетения умчавшихся событий снова возникает
памяти озаренный облик одного поэта, медленно омрачаемый какой-то гнетущей
заботой и, наконец, мучительно искаженный взрывом неукротимого гнева и при-
118
ступами смертельной тоски. И тогда события прошлого выступают предо мною с неумолимою отчетливостью и повелительно диктуют мне эту оправдательную запись, которую во всей ее исторической достоверности я представлю на суд Просперу Мериме.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Ma
pensee la plus secrete est que la vieille
Metternich. Lettres1.
I
В первой тетради моего петербургского дневника имеется следующая запись.
27 февраля/10 марта.
На днях французская газета Петербурга поместила статейку «Русские журналы», в которой перечислила периодические издания, выходящие в Петербурге. После разнообразия богатства нашей политической и литературной прессы я был поражен скудостью русской печати. Вся она носит исключительно практический характер. «Журнал мануфактур и торговли», «Агрономическая газета», «Журнал путей сообщения», «Инженерные записки», «Лесной журнал», «Коммерческая газета», «Военный журнал», «Земледельческая газета», наконец, «Записки комитета сахароваров» — к этому сводится почти целиком состав русской журналистики. Если не считать народившейся недавно «Библиотеки для чтения», здесь нет ни одного обозрения наук, искусств и общественной жизни, ни единого «вестника» европейского типа с литературными новинками, критикой, полемикой, обзорами, заграничными письмами. Словно во главе русской мысли стоят казенные учреждения и духовными интересами страны руководят государственные чиновники.
Вот почему меня сегодня приятно удивила следующая заметка в библиографических известиях той же газеты:
__________________________
1 Самая тайная моя мысль состоит в том, что старушка Европа находится в начале конца. Меттерних. Письмо (фр.).
119
|
СОВРЕМЕННИК (Le Gontemporain) Годовая цена за четыре тома 25 рублей. Новый литературный журнал, о котором мы объявляем, будет выходить под вышеприведенным названием в текущем году четырьмя выпусками. Имя его издателя, каковым является не кто иной, как наш знаменитый поэт А. Пушкин, достаточно, чтобы рекомендовать это издание всем друзьям нашей национальной литературы.
|
Буду с нетерпением ждать появления нового литературного издания, призванного, видимо, восполнить крупные пробелы петербургской прессы...
На этом обрывается запись моего дневника. Помнится, я действительно порадовался за русскую журналистику. Получив от Баранта, при распределении общих работ посольства, особое поручение изучать журнальный, цензурный и писательский мир Петербурга, я приступил к собиранию сведений о новом органе и его издателе.
Работа невольно увлекла меня. В то время в Париже сильно интересовались вопросами авторского права и защиты писательских интересов. «Особая комиссия, — писал вскоре Барант Пушкину, — занимается в настоящее время в Париже разработкой правил о литературной собственности и способах предупреждения книжных контрафакций за границей. Эта комиссия пожелала получить сведения о русских законах и обычаях в этой области; она хотела бы иметь тексты расположений, указов и правил по этому важному вопросу... Законоположения о литературе в России должны вам быть знакомы лучше, чем кому-либо иному, а ваша любезность мне слишком известна» — и проч.
Но, помимо законодательного освещения вопроса, необходимо было иметь в своем распоряжении и ряд сведений о фактическом положении русской периодической печати, цензуры, редакционной и типографской работы, книжной торговли и проч. Все это живейшим образом интересовало наших ученых, писателей и юристов, усиленно работавших в то время над составлением обширного законопроекта о защите прав знаменитых французских романистов, читаемых во всех уголках европейского мира.
120
Я решил сосредоточить мое внимание на новом журнале и особенно на его редакторе, одно имя которого, по сообщению газет, заключало в себе всю программу издания.
II
Поэт Пушкин.
Вскоре я узнал его, этого «афинянина среди скифов», по вашему верному определению, Мериме, этого креола славянской расы, в котором смешение абиссинской и русской крови дало такой странный и яркий метисаж.
Понемногу этот завсегдатай петербургских гостиных, чиновник министерства иностранных дел, «дворянин покоев», кандидат в историографы и член Российской академии — Monsieur Пушкин предстал передо мной в своей подлинной сущности как артист, писатель и увлекательный собеседник.
Бывало, на раутах, на дневных приемах, иногда на балах составлялась небольшая группа умных и просвещенных людей, оригинально освещающих текущие события или находящих им любопытные аналогии в прошлом.
В эту группу обыкновенно входили Барант, Фикельмон, князь Вяземский, Пушкин, иногда Жуковский, к концу нашего пребывания — Александр Тургенев.
Обмен мнений, сообщение воспоминаний, примечательные эпизоды из государственного прошлого Европы, характерные черты из жизни великих людей, анекдоты и портреты — все это питало разговор, нередко напоминавший мне своим оживлением лучшие парижские салоны. Так беседовали у нас в окружении Шатобриана или Гизо.
В беседах Пушкин нередко овладевал нитью общих интересов и уверенно вел разговор по большим и волнующим темам, широко развертывая в искрометной импровизации свои живые познания и гениальные догадки.
Я любил слушать его рассказы. Быстрый в движениях и походке, он говорил с медлительной плавностью, словно не желая торопиться в изложении любимых своих помыслов. В этом сказывалась, вероятно, углубленная вдумчивость и, может быть, высокая сосредоточенность творческого сознания.
Беседуя, он словно внимательно вникал в смысл внутренних голосов, еще не ясно звучащих из самых недр
121
его души. Это придавало некоторую ритмичность его живой монологической прозе и сообщало непередаваемое очарование безукоризненной структуре его французской речи.
Он владел нашим языком в совершенстве. Его отчетливое, выразительное, прозрачное и меткое французское слово носило на себе все следы старинной классической культуры. Это была блестящая и отточенная проза дореволюционной Франции. Так писали Вольтер и Монтескье, так говорили Кольбер и Мирабо. Пушкин, видимо, воспринял в детстве от своих учителей и родных эту прозрачную французскую речь, сложившуюся в свои законченные формы еще в эпоху Людовика XV, и навсегда сохранил к ней пристрастие. Он рассказывал мне как-то, что учился нашему языку у видных французских эмигрантов, посещавших московскую гостиную его отца: Ксавье де Местр блистал здесь своими дарованиями, а Монфор и поэт Русло стали учителями маленьких Пушкиных. Я не раз слышал от него, что художественная проза не терпит прикрас, а требует только мыслей и мыслей, что повести надо писать просто, коротко и ясно и что высшее качество рассказа — это быстрота, конкретность и сжатость.
Мне приходилось наблюдать Пушкина в различном обществе. В многолюдном собрании он предпочитал слушать общие прения, изредка роняя ироническую или вдумчивую реплику. Говорить он любил в более тесном кругу понимающих и сочувствующих людей.
С членами царской семьи он принял раз навсегда непринужденный тон свободной и смелой беседы. Звание поэта давало ему право доводить эту рискованную манеру до границ остроумной дерзости, тонко замаскированной общепринятою разговорною любезностью. В обычное раболепное благоговение, замораживающее непроходимой скукой все разговоры царя с его приближенными, этот парадоксальный тон вносил неожиданное оживление, с которым не считали нужным бороться. Смелые и остроумные ответы поэта царю, его брату, Бенкендорфу, обер-камергеру Литта и другим сановникам сообщались подчас самими собеседниками их окружающим и передавались в обществе как черты примечательного ума и редкого присутствия духа. Поэт действительно не побоялся ответить грозному самодержцу при их первой встрече, сейчас же после казни декабристов, что в день восстания он был бы с мятежниками на Сенатской площади. Гораздо позже, незадолго до моего отъезда, я слышал, как он говорил Николаю, что царствование его
122
будет ознаменовано в России свободою печати. На вопрос царя о семейных неурядицах поэта он решился заявить в лицо императору, что тот сам волочится за его женой. Ответы подобной смелости, кажется, во всей России мог держать царю только Пушкин.
Совершенно иным он чувствовал себя в женском кругу. Если с госпожою Хитрово он вел серьезные беседы о литературе и политике, обычно в окружении своих поклонниц он беспечно болтал, шутя и поддразнивая их, как детей. Он охотно импровизировал при этом страшные и увлекательные истории или рассказывал о своих самых невероятных любовных приключениях. Речь его в такие минуты сыпала искрами, и слушательницы с горящими глазами следили за меняющимся лицом этого увлекательного сказочника.
Но значительнее и ярче всего он был в небольшом кругу умственно близких людей.
III
Мне вспоминаются отрывки его бесед среди нескольких писателей и политических деятелей. Мнения и характеристики, открытия и наблюдения, портреты и анекдоты, изречения и афоризмы щедро рассыпались поэтом по пестрой ткани его разговора. Он много читал, постоянно следил за европейскими журналами, объездил всю Россию, общался со всеми знаменитостями литературного, дипломатического, военного и административного Петербурга. Это сообщало остроту, живость и новизну его речи. При этом он ревностно собирал записки, предания, исторические рассказы, отовсюду ловил любопытные случаи или примечательные черты недавнего прошлого. Это придавало интимную теплоту его историческим познаниям. У старух, доживавших свой век при дворе Николая, он узнавал характерные эпизоды минувшей жизни и с неподражаемой живостью передавал нам любопытные случаи из придворного быта последних царствований. Русский восемнадцатый век, с его пестрой и унылой толпой временщиков, дворцовых заговорщиков, распутных императриц, шутов и авантюристов, выступал во всех своих резких особенностях из этих устных историй о Долгоруких, Потемкиных, Разумовских или Орловых. Дар исторического анекдота был в высокой степени свойствен ему, и он в совершенстве умел оживлять беседу неожиданной вспышкой остроумной ситуации или
123
смелой и удачной репликой, озарявшей во весь рост фигуру отошедшей знаменитости.
И, когда нас подчас искренне веселили эти короткие и забавные рассказы, он смеялся в ответ своим заразительным гортанным смехом, сверкая зубами и зрачками.
Но история пленяла его не только в этих мгновенных и острых своих осколках. Он обладал замечательным даром восстановлять в кратких чертах целый облик эпохи во всей ее характерной выпуклости, выразительной красочности и животрепещущем драматизме. Умственный профиль столетия вместе с блеском его неповторимых форм выступал из этих бесед с четкостью неизгладимого видения, обновляющего все наши представления о прошлом. И замечательнее всего было то, что сквозь летучие образы, живые характеристики и увлекательные описания он мимоходом и неощутимо вскрывал перед нами глубоко трагическое начало всемирных судеб человечества, незаметно обнажая то жестокое, неизбывное, невозвратное и непоправимое, что неизменно веет на нас ледяной безнадежностью из быта и стиля всех промчавшихся веков.
Рассказывая нам как-то о Петронии, он мгновенно показал нам уголок Неронова Рима — просторный атриум с кумирами муз и сторожевыми кентаврами, библиотеку с грудами свитков и навощенными дощечками для записей Анакреона и Горация, строгие очертания лампад, статуй и драгоценных чаш. И в светлых комнатах загородной виллы мы увидели фигуру невозмутимого поэта-философа, диктующего в последний раз свой «Сатирикон» старому отпущеннику и спокойно обсуждающего с лекарем способ безболезненной смерти, уже неумолимо предписанной бесноватым цезарем.
Он глубоко чувствовал эпоху Возрождения. Легенда о Дон Жуане волновала его. Когда мы беседовали однажды по поводу газетной заметки о предстоящем в 1837 году пятидесятилетнем юбилее знаменитой оперы Моцарта, он разговорился о бессмертной музыке этого создания и воздал высокую похвалу замечательному либретто аббата да Понта. Попутно он развернул перед нами картины старой Испании с поединками на шпагах в густой тени Эскуриала, с гордыми гробницами мадридских кладбищ, звонкими четками монахов и широкими епанчами кавалеров. И среди всей этой пестрой жизни с титанами, отшельниками, покаянными молитвами и гитарным звоном перед нами возникла несравнимой угро-
124
зой и встала неожиданным ужасом мраморная статуя Командора.
Так всегда у него трагизм истории незаметно выступал из пластического уклада минувшего.
Когда разговор зашел однажды о предке нашего короля, регенте Филиппе Орлеанском, Пушкин нарисовал нам выпуклую картину парижской жизни в эпоху малолетства Людовика XV. Оргии Пале-Рояля и безумное увлечение расчетами Джона Лоу, проказы герцога Ришелье и беседы ученых в женских гостиных, первые представления Комедии и ужины регента, оживленные разговорами Монтескье и Фонтенеля, пронеслись перед нами в нескольких быстрых фразах. И на фоне этого праздничного безумства и легкомысленной роскоши выступила ироническая фигура юного Вольтера, уже оттачивающего лезвие своих эпиграмм против беспечного общества, не предвидящего своей будущей гибели под ножом гильотины.
Иногда он вспоминал замечательных лиц, с которыми встречался на своем жизненном пути. Где-то на юге он познакомился с одной гречанкой. Она носила имя гомеровской соблазнительницы — нимфы Калипсо — и насчитывала среди своих возлюбленных лорда Байрона. Пушкин любил слушать ее рассказы, всматриваться в ее огромные огненные глаза, подведенные сурьмой, слушать напевы восточной эротики в ее нервном и протяжном исполнении. И когда он прикасался к накрашенным губам этой романтической героини, ему казалось, что к лицу его приближается прекрасная голова самого английского поэта, воспевшего гречанок с константинопольских базаров и афинских девушек в розовых садах Эгейского мыса.
Где-то на южном побережьи он подружился в молодости с египетским корсаром в тюрбане и феске, с кривым кинжалом и старинными пистолетами за широким красным поясом восточного бурнуса. Этот бронзовый мавр мирно посещал греческие кофейни портового городка, спокойно и бесстрастно всматриваясь в собеседников своими непроницаемыми глазами хищного зверя, величаво улыбался на нескромные расспросы, пренебрегая сопровождавшей его глухой репутацией бесстрашного грабителя черноморских парусников и бригантин.
И я думал иногда: какая странная судьба! Этот гениальный поэт, словно призванный общаться с лучшими умами своей эпохи, был обречен проводить жизнь в замк-
125
нутых пределах своей унылой родины. С безнадежностью узника он был бессилен нарушить запрет царя о переходе границы. А между тем, если бы ему предоставили возможность постранствовать в молодости по Европе, побеседовать с Гете и Шатобрианом, услышать Гумбольдта, Канинга и Талейрана, нужно ли было бы ему вспоминать о своих встречах с черноморским пиратом или полунищей гречанкой, целовавшей некогда лорда Байрона?
IV
Но лучше всего Пушкин говорил о своем искусстве. Ремесло поэта восхищало и увлекало его. Он считал, что свобода, положенная в основу поэтического творчества, не исключала, а, напротив, предписывала постоянный труд, без которого нет истинно великого.
Он говорил как-то о вдохновении как о расположении души к живейшему приятию впечатлений и соображению понятий. Это не праздная и беспорядочная восторженность, а уверенная в себе сила. «Вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии, — говорил он нам, — спокойствие — необходимое условие прекрасного... Единый план Дантова «Ада» есть уже плод высокого гения»...
Когда-то, говорят, он скрывал в обществе свою литературную профессию, разделяя старинный предрассудок знати о том, что только полководцы и государственные деятели достойны почета, а никак не сочинители. Я вспомнил случай с моим знаменитым пращуром Сен-Симоном, который согласился написать слово о Людовике XIII лишь под непременным условием, что в свете ему не навяжут смешного звания автора.
Но ко времени наших встреч всеобщее признание и, может быть, пример некоторых европейских писателей изменили это странное заблуждение. Пушкин с достоинством нес свое народное звание первого русского поэта, дорожа и гордясь им. По крайней мере, однажды он с необыкновенной живостью рассказал нам об одной встрече, неожиданно доставившей ему высокую радость.
Оказывается, несколько лет перед тем он участвовал в качестве добровольца-наблюдателя в кавказской войне с турками. Он присутствовал при знаменитой битве, в которой Паскевичу удалось отрезать Арзерумского сера-
126
скира от Осман-паши и разбить в течение суток два неприятельских корпуса. Пушкин вступил с русской армией в столицу Азиатской Турции. Один из пашей, увидев его среди военных во фраке, осведомился о нем у спутников. Кто-то назвал его поэтом.
— Паша сложил руки на груди, — рассказывал Пушкин, — и поклонился мне, сказав через переводчика: «Благословен час, когда мы встречаем поэта. Поэт — брат дервишу. Он не имеет ни отечества, ни благ земных, и, между тем как мы, бедные, заботимся о славе и сокровищах, он стоит наравне с властелинами земли, и ему поклоняются».
Поэт, видимо, был глубоко тронут этим мудрым восточным приветствием и вспоминал о нем с волнением...
Многие из нас проявляли интерес к русскому народному эпосу, к песням, поверьям и легендам. В ответ на наши расспросы Пушкин переводил нам целые отрывки из сложившихся на его родине народных поэм, охваченных невыразимой тоскою, или же с увлечением сообщал нам забавные и пестрые сюжеты русских сказок, неизменно поражавших нас вольным размахом фантазий и самоцветною игрою волшебных образов. Мы были зачарованы прелестными композициями этих поверий о царевне-лебеди и чародее-коршуне, о звездочетах и золотых петушках, о заколдованных теремах и витязях с пылающей чешуею, о легкокрылых кораблях царя Салтана и шелковых шатрах Шамаханской царицы.
— Вы расстилаете перед нами златотканые ковры фантазий, словно какая-нибудь Шехерезада, — сказал ему однажды Барант.
И в ответ Пушкин прочел и перевел нам свои строфы о великом фантасте и мудреце Персии певце Саади: 1
В прохладе сладостных фонтанов
И стен, обрызганных кругом,
Поэт бывало тешил ханов
Стихов гремучим жемчугом.
На нити праздного веселья
Низал он хитрою рукой
Прозрачной лести ожерелья
И четки мудрости златой.
Любили Крым сыны Саади,
Порой восточный краснобай
Здесь развивал свои тетради
И удивлял Бахчисарай.
______________________
1 Заменяем французскую версию д'Аршиака известным русским текстом. Издатель.
127
Его рассказы расстилались
Как эриванские ковры,
И ими ярко украшались
Гиреев ханские пиры.
Но ни один волшебник милый,
Владетель умственных даров,
Не вымышлял с такою силой,
Так хитро сказок и стихов,
Как прозорливый и крылатый
Поэт той чудной стороны,
Где мужи грозны и косматы,
А девы гуриям равны.
Если в своей вдумчивой речи Пушкин был медлительно-плавен, то стихи он читал нараспев, по всем правилам классической школы, стремившейся довести монотонные александрийцы трагедий до торжественной декламативной кантилены.
Я любил следить за ним во время этих бесед. Мягкие белоснежные воротнички его сорочки контрастно выделяли темнеющее руно его шатобриановских бакенбард, еле прорезанных первыми серебряными нитями. Черный атлас широкого шейного банта, повязанного а 1а Байрон, блестел изломами пышных складок, ниспадая на белый батист его жабо, замкнутый высокими отворотами сюртука.
Перед гаснущим камином и оплывающими свечами он иногда, словно в изнеможении, опрокидывался на спинку глубокого кресла, свешивая с подлокотни свою узкую руку, еле сжимающую удлиненными пальцами душистый окурок догорающей сигары. Струящийся узенький дымок словно обрамлял своей колыхающейся синей тесьмою кудрявую голову поэта в беспрерывном блистании и тревоге охватывающих его видений. В такие минуты его бледное лицо с пылающими глазами и длинными черными волосами напоминало мне итальянцев эпохи Возрождения с прославленных портретов Бронзино или Доменико Каприола. Мне казалось, что перспектива столетий раздвигалась перед нами и стройные портики флорентийских вилл замыкали в свою легкую колоннаду восхищенных слушателей этого магического рассказчика, чей образ не переставал вырастать и разгораться перед нами, принимая легендарные очертания великих любимцев Капитолия с орлиными профилями и крылатыми лавровыми сплетениями над их сияющими гордостью и славою медальными ликами.
Когда однажды под утро, восхищенные и зачарованные этими рассказами, мы расходились от Фикельмонов,
128
полные образов, видений и легенд, Пушкин, словно утомленный огнем своей неистощимой импровизации, с некоторым смущением спросил меня, глядя на побледневшее небо:
— Однако, я порядком задержал вас и, кажется, сильно утомил всех своими бреднями?
Я остановился, скрестил руки на груди, отвесил ему по-восточному низкий поклон и со всей искренностью глубокого волнения отвечал ему прекрасными словами Арзрумского паши:
— Благословен час, когда мы встречаем поэта...
V
В одной из весенних депеш Баранта имелось следующее сообщение:
 «...Шестого
декабря, в день царских именин, в вольном городе Кракове произошли
незначительные антирусские демонстрации. Петербургский кабинет воспользовался
этим обстоятельством для выполнения жестокой военной экзекуции. По соглашению с
Австрией и Пруссией представители трех держав предъявили президенту краковского
сената общую ноту, в которой требовали удаления с территории республики в
недельный срок всех польских политических изгнанников. Ввиду ходатайства сената
об отсрочке город и территория Кракова 17 февраля были оккупированы от имени
трех держав военной силой. К 20 февраля австрийские, русские и прусские войска
были в сборе. Милиция была распущена, административные и судебные органы
подчинены иностранному командованию. Все политические изгнанники, даже
занимающиеся земледелием, подверглись обыскам, арестам и насильственному вывозу
за пределы Кракова. Президент сената подал в отставку. Независимость Краковской
республики, установленная Венскими трактатами, грубо попрана и фактически
уничтожена. В Петербурге дело изображается как благодетельный акт против
европейской революции».
«...Шестого
декабря, в день царских именин, в вольном городе Кракове произошли
незначительные антирусские демонстрации. Петербургский кабинет воспользовался
этим обстоятельством для выполнения жестокой военной экзекуции. По соглашению с
Австрией и Пруссией представители трех держав предъявили президенту краковского
сената общую ноту, в которой требовали удаления с территории республики в
недельный срок всех польских политических изгнанников. Ввиду ходатайства сената
об отсрочке город и территория Кракова 17 февраля были оккупированы от имени
трех держав военной силой. К 20 февраля австрийские, русские и прусские войска
были в сборе. Милиция была распущена, административные и судебные органы
подчинены иностранному командованию. Все политические изгнанники, даже
занимающиеся земледелием, подверглись обыскам, арестам и насильственному вывозу
за пределы Кракова. Президент сената подал в отставку. Независимость Краковской
республики, установленная Венскими трактатами, грубо попрана и фактически
уничтожена. В Петербурге дело изображается как благодетельный акт против
европейской революции».
VI
Вскоре я узнал Пушкина и как основателя русско «Edimbourg Review».
— Верно ли, что вы собираетесь выпускать полити-
130
ческий журнал нового типа? — спросил его как-то Барант.
Мы сидели у Карамзиных. В семье покойного историка хранились лучшие предания русского умственного просвещения и первых опытов серьезной журналистики. Вдова историографа согревала всех своей приветливостью, умом и добротою. Пушкин относился к ней с глубокой сыновней нежностью.
Дочь ее Софи называли в Петербурге северной Рекамье, не подозревая, что знаменитая подруга Шатобриана давно уже превратилась в хилую старушку. Веселая же предводительница карамзинских собеседований со всем оживлением молодости и парадоксальностью смелого ума руководила вечерними собраниями в красной штофной гостиной по соседству с французским театром. Зато первые поэты России и знаменитые путешественники щедро украсили ее девичий альбом своими бессмертными автографами. Пушкин занес сюда чудесные стансы, неожиданно поразившие меня своей глубокой безнадежностью1.
В салоне Карамзиных иностранцы могли получить у Вяземского, Жуковского и Пушкина все сведения о движении русской литературы.
— Политика для меня, увы, запретная область,— отвечал поэт на вопрос Баранта, — но мне разрешено выпускать литературное трехмесячное обозрение.
— Журнал без политического отдела, — удивился Дэрам, — возможно ли это?
— Для нас и это — движение вперед. В России до сих пор еще не было изданий, подобных европейским трехмесячным обозрениям. Нам нужны такие четыре годовых тома, в которых читатель получит вместе с образцовыми повестями и стихотворениями живую хронику современной жизни, поэзии и науки. Необходимо постоянно прививать европейскую мысль к нашему корявому скифскому быту...
Он задумался на мгновение и не без грусти продолжал:
— Мы не успели еще создать своего умственного достояния и не получили никакого наследия от предков. Татары нисколько не походили на мавров. Они, завоевав Россию, не подарили ей ни алгебры, ни Аристотеля...
__________________________
1 «В степи мирской, печальной и безбрежной...».
131
— Вы говорите: европейский журнал, — заметил Барант, — но, знаете ли, орган, лишенный политического голоса, у нас немыслим. В «Revue de Deux Mondes» или в «British Review» вы всегда найдете хронику современных событий, портреты и статью о Талейране, Пальмерстоне или африканских колониях. Это так же важно для нашего читателя, как и новая повесть Бальзака.
Дэрам поддержал Баранта. Он рассказал нам об английских иллюстрированных «магазинах», о старинном «Critical Review» и новейшем «Вестминстерском обозрении».
— Англия есть родина журналов, как и карикатуры, — заметил Пушкин, — и я не перестаю учиться у ваших журналистов. Я вообще собираюсь в моих выпусках уделять особое внимание Англии и Франции. Наш читающий круг живет интересами Парижа. Вы найдете в моем обозрении статьи о Французской Академии, о письмах Вольтера, о посмертном труде Наполеона, о речах Скриба и Вильмена, о новой поэме Эдгара Кине... Я хотел бы напомнить нашим читателям о Мильтоне и познакомить их с вашим чудесным Барри Корнуолем.
— Полагаете ли вы опубликовать программу своего издания? — поинтересовался Фикельмон.
— Я считаю, что его подзаголовок — литературные журнал — уже определяет все его направление. Издание, посвященное литературе, — ведь это целый путь!
— Тем более, что в прошлом наша литература, кажется, не знала таких опытов, — заметил Фикельмон.
— Для России это будет ново, — отвечал Пушкин, — если не считать журналов Карамзина. Единственное явление в прошлом, близкое моему журналу, — это «Литературная газета», издававшаяся несколько лет тому назад моим другом — покойным Дельвигом. Его направление я буду продолжать. По духу своей критики, по именам сотрудников, по неизменному образу мнения о предметах, подлежащих его суду, — журнал мой будет продолжением «Литературной газеты».
— Как станете вы освещать современную европейскую жизнь? — поинтересовался Дэрам.
— Я буду печатать парижскую хронику в виде дру-
132
жеских писем и бесед. Ваш знакомый, — обратился он к Баранту, — Александр Тургенев, шлет мне животрепещущие бюллетени мыслей, чувств, впечатлений городских вестей, бульварных, академических, салонных... Я передам читателю всю лихорадку парижской жизни.
— Но это неизбежно придаст вашему органу и некоторый политический оттенок...
— И создаст ему крупные затруднения. Вы не представляете себе как трудно у нас быть вестником Европы, и особенно Франции. Цензурный комитет недоволен тем, что парижская хроника Тургенева затрагивает политические темы — процесс и казнь Фиески, перемены в министерстве, споры о государственных процентах. Мне запрещают печатать статью «Применение системы Галя и Лафатера к изображениям Фиески и его соучастников» а между тем автор открывает новые пути для изучения личности убийцы...
— Неужели же такие ученые, как Галь и Лафатер, подвергаются у вас запрету?
— Мне запрещают даже печатать исторические статьи покойного Карамзина...
— Но в таком случае вам действительно нельзя будет отступать ни на шаг от поэзии...
— Если я буду иногда отходить от литературы, то разве в сторону практической науки. Я хочу поощрить у нас создание самостоятельных научных статей. У нас в журналах изредка помещались полезные статьи о науках естественных, но они всегда переводились из иностранных изданий. Это бедные заплаты на рубище нашего просвещения. Необходимо усилить у нас работу научной мысли.
— Тем более, что и здесь есть вопросы весьма животрепещущие, — заметил Вяземский.
Пушкин кивнул головой.
— Я просил князя Козловского дать мне статью о теории паровых машин. Теперь, когда Герстнер заканчивает свою чугунную дорогу между столицей и Царским, всем нам нужно понять и усвоить великое изобретение, которому принадлежит будущее.
— Как будет называться ваш журнал? — поинтересовался Фикельмон.
— Я остановился на названии «Современник», тщет-
133
но подыскивая на русском языке термин, напоминающий удобное английское обозначение «Quarterly Review» 1 .
— Но вам следовало назвать ваш журнал «Квартальный надзиратель», — неожиданно вставил д'Антес...
Это было так внезапно и смешно и притом так метко характеризовало поднадзорное состояние русской журналистики, что Пушкин покатился заразительно веселым смехом, долго не смолкавшим. Со слезами на глазах, продолжая смеяться, он пожал д'Антесу руку за его удачную остроту.
— Браво! Да знаете ли, что вы сейчас двумя словами определили все положение нашей бедной русской печати?
— И притом так похоже на «Quarterly Review», — заметил с шутливой гордостью д'Антес.
Разговоры такого рода происходили довольно часто.
Должен заметить, что Пушкин до последних месяцев перед дуэлью относился весьма доброжелательно к моему кузену. Большой ценитель метких каламбуров и забавных оборотов, он с интересом следил за обычным веселым разговором беспечного кавалергарда.
Я даже берусь утверждать, что д'Антес как тип мужчины был вполне в его вкусе. Военный, красавец, донжуан, весельчак, остроумец, кумир женщин, — мне кажется, именно таким хотел быть сам поэт. Он, кажется, невольно любовался своим будущим соперником и очень мило обращался с ним. Никакой ревности при этом он не испытывал. Цветы, театральные билеты и даже нежные записки, посылавшиеся д'Антесом госпоже Пушкиной, не вызывали и тени недовольства в ее муже. Это было в обычаях тогдашних светских отношений. Почти до самой осени 1836 года Пушкин словно казался польщенным тем, что самый модный и блестящий красавец петербургского общества находился у ног его жены. Глубоко веря в ее честь и преданность, в чем он до конца не ошибся, — поэт, казалось, даже снисходительно покровительствовал этому рыцарскому культу, развлекавшему его прекрасную подругу. Только к самому концу лета я стал улавливать в его речах некоторые нотки недовольства. Он как бы начал относиться критически к легкой болтовне Жоржа, его шуткам и остротам, его иг-
_______________________
1 «Квартальное обозрение» (англ.).
134
ривой и несколько вольной манере беседовать с женщинами. К концу дачного пребывания он стал заметно избегать д'Антеса и даже, видимо, уклонялся от его посещений. Вскоре все это перешло в открытый гнев и возмущенье. Но виною тому был, может быть, не столько сам д'Антес, сколько петербургские враги Пушкина, всячески стремившиеся вывести его из себя и растравить его впечатлительное сердце.
Однажды, во время такой веселой болтовни с д'Антесом, Пушкин шутя сказал ему:
— Я видел недавно на разводе ваши кавалерийские эволюции, д'Антес. Вы прекрасный всадник. Но знаете ли? Ваш эскадрон весь белоконный, и, глядя на ваш белоснежный мундир, белокурые волосы и белую лошадь, я вспомнил об одном странном предсказании. Одна гадалка наказывала мне в старину остерегаться белого человека на белом коне. Уж не собираетесь ли вы убить меня?
— Разве за карточным столом, — звонко расхохотался д'Антес, — и тогда уж, конечно, и ограбить. Вы же в ответ убьете меня эпиграммой.
-— Вы согласны на такой обмен?..
— Двойной выигрыш, помилуйте. Я захвачу ваши червонцы, а вы обессмертите меня своим пером...
В таком дружеском и беспечном тоне постоянно велись беседы двумя этими людьми, которым в недалеком будущем предстояла смертельная встреча.
Возвращаясь к теме о новом журнале Пушкина, должен отметить, что он очень охотно беседовал о нем с иностранными политиками и писателями, как бы советуясь с ними о первом европейском органе в России и словно стремясь использовать их авторский опыт. Те в свою очередь живо интересовались судьбами русской журналистики и предстоящим предприятием Пушкина.
— Каким из ваших произведений вы украсите «Современник»? — задал я ему как-то вопрос.
— Я хочу поместить в нем одно ученое путешествие, много стихов, одну большую историческую повесть в манере Вальтер Скотта. Это история двух влюбленных среди потрясений народной революции...
Такие беседы велись у нас постоянно. Мы с интересом слушали эти размышления поэта об укреплении связей его родины с европейским просвещением. Барант особенно интересовался направлением исторических ра-
135
бот и мемуаров. Дэрама занимала возможность разработки политического отдела. Я расспрашивал о школе молодых русских романтиков. Жорж, обычно не вникая в эти литературные прения, отделывался шутками и искал случая переменить ученый разговор с деловыми людьми на более легкую беседу с посетительницами петербургских собраний.
Весною госпожа Пушкина перестала бывать в свете — ей предстояли в скором времени роды. Но д'Антес охотно беседовал с ее сестрами, девицами Гончаровыми, которых я давно уже стал замечать на балах и приемах.
VII
Сестры Гончаровы... На одном из последних балов петербургского дворянства в зимний сезон 1836 года я впервые увидел их. Пушкин приехал на бал в сопровождении трех дам — жены и, как оказалось, двух ее сестер. Д'Антес по этому поводу сострил, что поэт похож на «трехбунчужного пашу» 1 , чем сильно рассмешил самого Пушкина.
Рядом с ослепительной Натальей Николаевной сестры ее сильно теряют. Не то бы они могли считаться даже красивыми. Обе они не очень юны, но, как и младшая сестра, очень высоки и прекрасно сложены. В их походке, посадке головы и манерах много грации. Младшая, Александра, видимо, скрывает под холодным спокойствием много затаенных и нерастраченных чувств. Ее не вполне правильный взгляд глубок и печален. В очертаниях лица, в ее ниспадающих локонах много задумчивой и грустной нежности. Я любил наблюдать в обществе за ее печальным взглядом, когда она несколько меланхолично следила за танцующими, как бы неохотно вступая в их круг, или долго провожала глазами своего знаменитого шурина, очевидно преклоняясь, как все русские женщины, перед его поэтической славой.
В обществе ее называли бледным ангелом, и это название как нельзя лучше подходило к ее мечтательной и грустной внешности.
Старшая из сестер — Екатерина Николаевна, кото-
_______________________
1 Французский каламбур: trois queues — три плетки бунчука или, в данном случае, три шлейфа.
136
рой суждено было стать моей кузиной, — в то время была фрейлиной императрицы. Придворный бриллиантовый шифр украшал ее бальный наряд. В отличие от обеих сестер, она походила на южанку. Черные волосы и темные горящие глаза придавали ее облику тип гречанки или римлянки. В ее взгляде, улыбке и жесте сквозь все светские условности чувствовалась страстность влюбчивой женщины. Она охотно и много танцевала, и ураганные темпы вальса или галопа, особенно в паре с красавцем кавалергардом, кружили ей голову и пьянили ее, как вино. От нее, как от немногих девушек, исходили токи чувственности, невольно заражавшие ее собеседников и как бы вовлекавшие их в свой заколдованный круг. Не будучи красавицей, она пользовалась большим успехом, и, по-видимому, только долголетняя затворническая жизнь в доме у дикой и самовластной матери помешала ей вовремя вступить в брак. Молодые люди охотно беседовали с ней, — я видел, как Андрей Карамзин проявлял к ней много внимания.
За время моего пребывания в России я не успел достаточно ознакомиться с характером и нравами русских женщин. От некоторых кавалергардов я слышал, что объятья и поцелуи были обыденным явлением в их светской практике. Петербург, с его военной молодежью, бальными встречами, лагерями и дачами на островах, способствовал сближениям и располагал к некоторой вольности нравов. Мне всегда казалось, что старшая свояченица Пушкина охотно подчинялась этим обычаям своего круга. При несомненной страстности своей натуры она могла, быть может, приближаться и к опасной черте в этой рискованной игре обузданных влечений и затаенных страстей.
Наблюдая сестер Гончаровых, можно было прийти к заключению, что чувственность в них как бы нарастала по старшинству. Младшая, прекрасная Натали, была бесстрастной и холодной, как нимфа. Недаром она получила в обществе прозвище «кружевной души». Средняя, бледный ангел, казалось, принадлежала к тем беззаветно любящим женщинам, для которых телесная близость есть следствие глубокой и мучительной сердечной нежности. И только старшая представлялась мне законченной пылкой и радостной женщиной, прямолинейно идущей к страсти как к высшему проявлению своего существа и главной цели своей жизни.
Впечатления эти сложились у меня не сразу. Но уже
137
на вечере нашего первого знакомства я заметил, что старшая Гончарова чрезмерно внимательна к моему брату. Когда Жорж в первой паре с Пушкиной уверенно и стремительно вел мазурку, черные глаза старшей сестры тревожно вспыхивали и загорались ревнивым огоньком. Было ли это еще неясное влечение, зарождение чувства или разгоравшаяся страсть — мне было трудно судить по первому взгляду. Но я чувствовал, что эта смуглая девушка, отмеченная алмазным вензелем по атласу своего убранства, с глубоким волнением следит за юным кавалергардом, стремительно уносящим в порывистом плясе, под звон, бряцанье и трубные клики, нежнейшую из женщин, воскресшую Эвтерпу из Лувра, мучительно-прекрасную северную Психею.
VIII
Всю зиму и весну 1836 года барон Геккерн путешествовал по Европе.
Поездка его была вызвана причинами политического и личного порядка. Острая распря Голландии с ее отпавшей областью — новым бельгийским королевством — могла разрешиться вмешательством Николая I. Голландский король, не оставляя мысли о новой войне, вызвал Геккерна для личного доклада. Посланник решил воспользоваться этой поездкой для устройства своих семейных дел: он считал необходимым закрепить законными узами свою близость с Жоржем д'Антесом. Наконец, личное общение с поставщиками барона в Париже, Лондоне и Амстердаме могло иметь важные коммерческие последствия, которыми так дорожили в посольстве на Невском.
Я успел за это время присмотреться к покровителю моего кузена. Нидерландский министр принадлежал к людям, требующим во всяком деле полноты и завершенности. Упорством и настойчивостью, иногда длительным и обходным путем, он обычно добивался в интересующих его вопросах той окончательной ясности, которую настоятельно требовала от всех житейских обстоятельств его властная и цепкая натура политика. Крупный делец и притом знаток искусств, он в каждое свое предприятие вносил мелочную отчетливость делового расчета и приятную законченность художественного изделия. Свои отношения с Жоржем он считал недостаточно полными, по-
138
скольку им не хватало официальной санкции и открытого общественного признания. Пущенный им слух, что д'Антее — его племянник, не встретил достаточного доверия в петербургском свете, склонном объяснять по-своему близость голландского представителя к молодому французу. Некоторые недоброжелатели называли Жоржа побочным сыном Геккерна и скандальными толками как бы бросали тень на его офицерский мундир.
Вот почему посланник решил придать своему сомнительному свойству с Жоржем характер открытого и почетного родства, закрепленного высокими сословными учреждениями и верховной властью двух государств. Всевозможным темным слухам и насмешливым пересудам он решил противопоставить акт дворянской палаты Голландии, скрепленный высочайшими утверждениями нидерландского короля и русского императора.
Мой дядя Жозеф-Конрад в ответ на предложение Геккерна усыновить Жоржа ответил полным согласием, прислав официальный отказ от своих отцовских прав. Посланник увозил с собою прошение Жоржа д'Антеса на имя короля Голландии о предоставлении ему прав на титул, имя и герб баронов Геккернов.
Эта фамильная тайна стала мне известна как родственнику Жоржа. В качестве же члена французского посольства я был осведомлен и о политической миссии барона. В настоящее время я располагаю письмами голландского посланника, относящимися к его весенней поездке 1836 года. Они сохранились в архиве Жоржа д'Антеса и небезразличны для хода моей хроники.
Петербург, Нидерландское посольство
Барону Жоржу д'Антесу.
Гаага, 14 декабря 1835 года.
Мой единственный!
Я мог бы вполне доверить дипломатической почте выражение моей глубокой тоски по тебе и жгучего желания быть снова с тобою, если бы не знал, что ты не выносишь письменных изъявлений чувств и требуешь от корреспонденции прежде всего деловых сообщений.
Подчиняюсь твоей воле и обращаюсь к фактам. Мой начальник министр Верстолк фан Зелен принял меня с исключительной любезностью: наше правительство по-прежнему видит главную опору своей политики в Пе-
139
тербурге и чрезвычайно интересуется всеми планами императора Николая в области внешних сношений. На четверг утром мне назначена аудиенция у короля для высочайшего доклада, а на другой день я буду принят наследным принцем и его супругой, которая ждет с нетерпением моего рассказа о ее венценосном брате.
Я успел переговорить в общих чертах с Верстолком о нашем деле. Он одобряет намеченные нами шаги и полагает, что никаких препятствий со стороны дворянской палаты не последует, поскольку речь идет о французском дворянине безукоризненного происхождения.
К сожалению, я встретил возражения среди членов нашей фамилии. Опекун моих племянников заявляет протест против нашего плана во имя интересов малолетних баронов Геккернов. Но я сильно надеюсь на аудиенцию у короля. О, если бы я мог скорее назвать тебя пред лицом всех моим сыном и наследником!
Политическое состояние моей родины на этот раз мало порадовало меня. Мы накануне войны. Наше правительство категорически отказывается принять лондонский протокол и признать независимость Бельгии. Мы будем настаивать на воссоединении нидерландских провинций. Вооруженное столкновение неизбежно. Вся наша армия на военном положении. Флот приведен в боевую готовность. Несмотря на интригу Франции и Англии мы верим в мощную поддержку наших интересов кабинетами Вены и Петербурга.
Вот, друг мой, плоды Июльской революции. Луи-Филипп мечтает посадить своего сына на престол Бельгийского королевства, и половина нашей территории становится смехотворным карманным государством. Каждая наша попытка смирить оружием мятежно отложившуюся область парализуется угрозой Англии блокировать устья Шельды и намерением Франции снова занять Антверпен. Но вмешательство царя со временем даст нам решительный перевес и в корне пресечет опаснейшую политику всех разлагающихся европейских государств.
Революционная опасность, несомненно, усиливается в Европе. Всюду ощущается нарождение нового слоя, пускающего корни и захватывающего почву. Всякий бесцветный и мелкий люд объединяются и требуют себе место под солнцем. Аптекаря и лекаря, учителя и газетчики, судебные ходатаи и субалтерн-офицеры, клерки и мелкое купечество, сочинители и актеры составляют понемногу обширную общественную группу, питающую не-
140
слыханную ненависть и вражду к представителям древних родов и законной власти... Если мы не сумеем объединиться и противопоставить этому новому грамотному плебсу свою железную волю к господству, он с головою захлестнет нас. Мы снова увидим все ужасы знаменитого французского бунта, когда кровожадные адвокаты и журналисты сбрасывали в кузовы гильотин лучшие головы старинной знати. Мы должны объединяться и готовиться к беспощадной схватке.
Впрочем, не хочу расстраивать тебя. Знаю, что ты всегда будешь в первых рядах сражающихся за древние династии, за троны и алтари. Я верю в тебя, мой мальчик. Я вижу на расстоянии твой смелый взгляд, твое решительное лицо, твои неизъяснимо очерченные губы, подобные лепесткам роз и созданные не только для боевых кликов и воинских команд, но и для сладкого головокружения лобзаний.
С неиссякаемой любовью твой отец,
друг и слуга
Барон де Геккерн.
Ровно через неделю посланник отправил моему кузену второе письмо. Опускаю начало, на этот раз преисполненное тех «чувствительных изъяснений», которые адресат, видимо, не терпел, и привожу деловую часть письма.
Гаага, 21 декабря 1835 года.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Король принял меня высокомилостиво. Он долго беседовал со мною о предстоящей войне с взбунтовавшейся и отложившейся провинцией. Генеральный штаб под председательством принца Оранского разработал во всех подробностях план занятия Лимбурга, Фландрии и Южного Брабанта.
Его величество сообщил мне о своем непреклонном решении отстаивать вековую власть Оранского дома над исторической картой Нидерландов. «Нам предстоит польская война императора Николая, — заявил мне король Вильгельм, — Брюссель ожидает участь Варшавы».
Когда я изложил королю напутствие, сделанное мне царем, и последние разъяснения Нессельроде, он согласился последовать мудрому совету своего венценосного друга и временно воздержаться от военных выступлений. Но не позже 1838 года Нидерланды будут воссоединены
141
под его скипетром. Король отпустил меня с ласковыми словами, пообещав лично ознакомиться с моим делом и посодействовать его разрешению в желательном для меня смысле.
Завтра я на приеме у принца Оранского.
Сообщи, прошу тебя, вице-канцлеру, что по адресу нидерландского посольства вскоре прибудут в Петербург двенадцать ящиков из Парижа и по ящику из Лондона и Амстердама. В них столовое серебро, хрусталь, японские вазы, сервизы, китайский фарфор, бронза и несколько золотых индийских украшений. Если бы петербургская таможня чинила какие-либо препятствия и возражала бы против количества и размера посылок, настаивай, что все заключающиеся в них товары выписаны для моего личного пользования или для пополнения моего собрания редкостей. Передай Нессельроде, что я сильно рассчитываю на департамент внешних сношений.
Должен сознаться тебе в моей расточительности. Ты знаешь мою слабость: я купил для моей коллекции кружев замечательные образцы старинных брабантских рукоделий. Эти воздушные сети, вобравшие в свою легкую ткань извилистый цветочный орнамент шестнадцатого века, поистине восхитительны. Как охотно я бы окутал тебя этой узорной паутиной, которая могла бы лечь ласкающей пряжей на рукава твоего супервеста или касаться сквозным воротником твоей белоснежной девичьей шеи...
Гаага, 22 декабря 1835 года.
.....................................................................................................................................
Принц Оранский в качестве главнокомандующего голландскими армиями изложил мне подробный план предстоящей войны. Он видит в ней крестовый поход благочестивых древних монархий против сатанинского духа развратной и буйной черни. Он верит, что его державный шурин примкнет к этому рыцарскому походу.
Наследник прав: бунт в наших южных провинциях — только частный случай повальной европейской болезни, того либерализма, который в свое время будет выжжен каленым железом. Мы еще доживем с тобою до полного торжества принципов легитимизма над всеми современными бреднями о перерождении Европы.
Но не следует преуменьшать опасности. Все, что я вижу и слышу, убеждает меня в том, что победа нам достанется не даром. Мы должны объявить священную войну
142
враждебным силам и с упорной беспощадностью бороться за сохранение своих прав. Нам необходимо вступать в единоборство с каждым отдельным представителем пресловутой европейской вольницы. Особенную непримиримость необходимо проявить к вожакам и возбудителям, к зажигателям и вдохновителям масс. Я считаю, что перед лицом великой опасности, грозящей европейской аристократии, каждый из нас должен считать себя членом тайного воинствующего ордена. И если правильно определять обязанности этого нового братства в духе древних политических и церковных союзов, я предписал бы каждому из его участников взять на себя фактическое уничтожение хотя бы одного из вождей вражеского стана. Борьба пером и словом уже недостаточна, — необходимо огнем и мечом искоренять сеятелей великой смуты, угрожающей в лице избранных всей европейской цивилизации.
Кстати, видаешься ли ты с Пушкиным? Можешь передать ему, что его высочество принц Оранский помнит его и к слову рассказал мне, как во время своего бракосочетания он получил превосходную оду, написанную одним царским лицеистом, который прославился впоследствии как замечательный поэт. К прискорбью самого принца и его супруги, этот юноша, так прекрасно начинавший свое поприще, омрачил в скором времени свое имя падением в революцию. Я должен был подтвердить, что, несмотря на милости царя, Пушкин считается до сих пор в оппозиции и вызывает к себе самое бдительное внимание высших русских властей.
Надеюсь, что ты держишь свое слово и бываешь у Пушкиных не слишком часто. Помни, что твое политическое имя должно оставаться безупречным, а в личных делах тебе необходимо избегать всякого шума. Твоя безрассудная страсть не перестает тревожить и мучить меня. Кто сумеет тебе раскрыть глаза на это великое заблуждение? Кто покажет тебе в настоящем свете эту бездушную куклу с рыбьей кровью и птичьими мозгами? Разве ты не видишь сам, что она равнодушна решительно ко всем, даже к тебе — даже к тебе!.. Не унижай же себя новыми признаниями и домогательствами, верь, что в Петербурге есть много других прекраснейших возможностей для настоящей страсти, глубокой и тайной, необычной и упоительной. Перечти сонеты Шекспира. Ты поймешь, может быть, неповторимую прелесть дружбы между старшим, уже накопившим жизненный опыт и знания
143
людей, и младшим, еще исполненным непосредственной свежести чувств и жизнерадостных надежд. Стоит ли этого высшего счастья заурядная интрижка с пустым и неверным существом, каким является каждая женщина?
The better angel is a man right fair
The worser spirit a woman coloured ill 1
(из 144 сонета Шекспира).
В заключение могу сообщить тебе, что вопрос о твоем усыновлении продвигается успешно. В королевской конторе уже составлено распоряжение на имя президента верховной дворянской палаты. Опекун «малолетних фан Геккернов» отступил. Дело будет решено в ближайшие дни. Принц хотел задержать меня здесь до закрытия Генеральных штатов, но я не в силах длить разлуку с тобой. На будущей неделе я получу заветную грамоту и немедленно же отплываю в Гамбург.
Я везу для тебя ящик старинного оружия и несколько полотен нашего славного мастера Филипса Воувермана. Сцены лагерной стоянки, манежной выездки лошадей и псовой охоты созданы для украшения твоего изголовья...
Из газетной хроники:
Чрезвычайный посланник и полномочный министр короля нидерландского при императорском российском дворе барон Геккерн, находившийся некоторое время в Гааге, отправился 9 мая к месту своего назначения в Петербург.
«Северная пчела».
Пироскаф «Н и к о л а й I» прибыл в Кронштадт 13 мая с 54 пассажирами, в числе коих находился г. барон Геккерн, чрезвычайный посланник и полномочный министр е. в. короля Нидерландов при нашем дворе. Пироскаф совершил переезд от Свинемюнде до Кронштадта в 92 часа.
«Петербургская газета».
В четверг 21 мая 1836 года в 30 минут 1-го часа полудня у их величеств имел приватную приемную аудиенцию нидерландский посланник барон Геккерн.
Из журнала «Камер-фурьерской должности».
__________________________
1Мой светлый ангел — истинно прекрасный мужчина, Мой злой дух — нарумяненная женщина (англ.).
144
Вице-канцлеру графу Нессельроде.
С.-Петербург, 22 мая (3 июня) 1836 года.
Господин граф!
Честь имею известить Ваше сиятельство, что я законно усыновил барона Жоржа-Шарля д'Антеса и что по указу его величества короля Нидерландов от 5 мая 1836 года Верховная дворянская палата королевства признала за ним право на мое имя, мой титул и мой герб.
Я имел честь известить его величество императора всероссийского об этом усыновлении, каковое удостоилось утверждения его величеством.
Обращаюсь поэтому к Вам, господин граф, с просьбой не отказать принять необходимые меры, чтобы названное лицо, состоящее в настоящее время поручиком в кавалергардском полку ее величества императрицы, значилось бы в списках полка и во всех прочих актах под своим новым именем барона Жоржа-Шарля де Геккерна.
Вашего сиятельства, господин граф, смиреннейший и покорнейший слуга
Барон де Геккерн.
IX
В начале мая газеты Петербурга сообщили нам придворную новость. Супруга вице-канцлера графиня Мария Дмитриевна Нессельроде была всемилостивейше пожалована в статс-дамы.
Мы вскоре получили приглашение в министерство иностранных дел на большой обед в ознаменование этого счастливого события.
Праздник в огромных залах полуциркульного здания на Дворцовой площади отличался строгим выбором приглашенных.
Супруги Нессельроде стремились проявить свое прославленное гостеприимство в безукоризненных формах придворного этикета.
Комитет министров и дипломатический корпус были представлены почти полностью. Личные друзья вице-канцлера дополняли состав гостей.
Поздравления принимались в кабинете министра. Густая толпа приглашенных заполняла обширный зал,
145
украшенный огромным портретом дородного мужчины в камзоле, парадном кафтане, пудре и буклях. То был отец вице-канцлера, известный авантюрист прошлого столетья Вильгельм Нессельроде, с беспримерной легкостью менявший страны и повелителей в неутомимой погоне за состояниями и альковными успехами.
Когда мы вышли в кабинет, мне показалось, что в нем находится сам император. Все общество стройно, благоговейно и безмолвно выстроилось вокруг высокого плотного генерала в свитской форме, забронированного бесчисленными почетными знаками и оплетенного вьющимися змеями этишкетных шнуров, портупей и орденских лент. Словно пренебрегая блестящим собранием и ни с кем не беседуя в отдельности, он слегка оперся о цоколь бронзовой статуи Петра I, роняя от времени до времени необходимую светскую реплику принимавшей его хозяйке. Правая рука его, украшенная на указательном пальце крупным массивным перстнем с царским портретом в алмазах, с медлительной легкостью играла серебряными наконечниками его тугих аксельбантов. Необычайно щеголеватый мундир не мог все же скрыть крепкого корсета и ватных подушек, умело выправляющих телосложение этого старейшего гвардейца. Высшие русские ордена Белого орла и Андрея Первозванного блистали на темном сукне его мундира рядом с первыми иностранными отличиями — золотым крестом французского Почетного легиона, прусским черным орлом и чеканными сплетениями австрийского знака Марии-Терезии. Казалось, лучи всеевропейской военной славы исходили от этой статной, но вычурной фигуры с крупной скульптурной головой, резко отмеченной надменной складкою у губ и презрительным взглядом узеньких раскосых глаз.
То был военный министр граф Чернышев. Он считался одним из столпов правительственной системы Николая. На него распространялся отчасти всеобщий трепет перед царем.
В молодости дипломат и боевой генерал, он долгое время состоял при Наполеоне в качестве военного представителя Александра I. Когда в 1808 году он впервые явился на аудиенцию к французскому императору, тот заявил ему:
— У вас знаки Георгия на груди — вы один из моих врагов на поле брани. Где заслужили вы эти кресты?
146
— При Аустерлице и Фридланде, ваше императорское величество.
— Сколько ошибок сделали русские генералы в этих сражениях!
— Ни одной, сир...
И русский курьер, отстаивая честь своей армии, отважно вступил в сложный стратегический спор с первым полководцем в мире. Это чрезвычайно понравилось Наполеону, и Чернышев стал постоянным посредником в его сношениях с Александром. Он даже получил в эту эпоху от Жозефа де Местра прозвание «вечного почтальона».
Вскоре Чернышев занял такое выдающееся положение в Париже, что министр полиции Савари окрестил его «малой державой». Неотразимый светский лев, первый танцор и «великий сердцеед», он одерживал в гостиных и будуарах не менее блестящие победы, чем на полях битв или в кабинетах министров. Сестра Наполеона, принцесса Полина Боргезе, стала его любовницей.
Из светских успехов Чернышев очень искусно извлекал политическую пользу. Зимою 1812 года, накануне войны с Россией, парижская тайная полиция обнаружила у него ряд копий с важнейших документов военного министерства вместе с секретной таблицей организации французской армии. Наполеон был вне себя, но накануне кампании было немыслимо давать огласку делу. Чернышев был отослан с письмом в Петербург. После его отъезда один из чиновников военного министерства был казнен. Следы подкупов Чернышева были обнаружены в Главном штабе и в министерстве внутренних дел.
Эти способности «героя Шалона и Берлина» были учтены русскими властями в тревожную годину вступления на престол Николая I. Именно Чернышеву было поручено произвести обыск у главы декабристов полковника Пестеля и затем арестовать его. Поручение было выполнено образцово: через полгода Пестель был повешен.
Назначенный в следственную комиссию по делу 14 декабря, Чернышев прославился злобной мелочностью своих допросов. Когда же обнаружилось, что в дело замешан один из его богатейших родственников, он напряг все усилия, чтобы сослать своего кузена в Сибирь и завладеть его майоратом.
— Как, братец, и вы виновны? — с лицемерным участием встретил он в суде декабриста Чернышева.
147
— Виновен — быть может, но братец — никогда!— гневно отрезал ему тот в присутствии всей комиссии.
Не удивительно, что в день коронации Николая Чернышев был возведен в «графское Российской империи достоинство».
Чернышев любил щеголять своими воинскими успехами, — но ему не очень верили. Над ним острили, что он обращал в бегство хлебопеков и отважно переплывал реки в безводных местностях. Уверяли, что он вступил с победоносным громом в опустевший город Кассель и что, заняв неукрепленный Шалон-на-Марне, Чернышев доложил о взятии этого города приступом.
В петербургском свете ненавидели новоявленного графа, но все же пресмыкались перед ним. Только бесстрашная Пиковая Дама не пожелала последовать за общим течением: «Я знаю только того Чернышева, который сослан в Сибирь», — оборвала представление ей военного министра старуха Голицына.
Но гости Нессельроде склонялись перед представителем русской военной мощи. Прочие министры — Канкрин, Блудов, Уваров, Волконский, — казалось, поблекли и угасли в лучах этого ослепительного светила.
Съезд продолжался. Вслед за нами прибыли представители английского и австрийского посольств.
Кабинет Нессельроде продолжал заполняться нарядной толпой приглашенных. Гул приветствий сливался с шорохом нарядов и тонким звоном гвардейских облачений.
Внезапно все общество встрепенулось. Сквозь высокую арку входа стало видно, как по бесконечной галерее легко и быстро в сопровождении трех адъютантов несся на тонких ногах граф Бенкендорф.
Это самое доверенное лицо и лучший друг государя, это его правая рука, первый советник и главный исполнитель. Своеобразный фактический премьер российского самодержца, он опирается не на солидарность министров или сочувствие населения, а на личную близость к императору и безусловную покорность своих преданных жандармов. В то время Бенкендорф был самой крупной силой в политической системе, организованной Николаем. Старый боевой генерал, сражавшийся рядом с Кутузовым и Витгенштейном, он давно променял воинскую славу на организацию тайной полиции в империи. Лишенный громких и торжественных званий, этот шеф жандармов, командующий главной квартирой и началь-
148
ник Третьего отделения царской канцелярии недавно лишь получил графский титул. У него типичное лицо остзейского немца. Слегка топырящиеся уши и приподнятые зачесы на темени придают ему вид летучей мыши. Жесты его отчетливы и уверенны, но взгляд рассеян, а в равнодушной усмешке чувствуется подчас некоторая утомленность. Бремя царской дружбы, видимо, дает себя знать.
Его встречали как представителя царя. Общество смолкло и расступилось. Крохотный Нессельроде почти распростерся в глубоком поклоне. Жена его, казалось, истаивала от несказанного блаженства, пока приближался к ней легкой походкой всесильный фаворит. Только военный министр Чернышев продолжал спокойно и небрежно опираться о цоколь статуи Петра, надменно играя серебряными наконечниками своих густых наплечных шнуров.
Сейчас же по приезде Бенкендорфа мажордомы пригласили общество в столовый зал министерства.
X
Мы вступали в обстановку празднества. В огромном высоком помещении столы были расставлены подковой. Их края на всем протяжении были заняты узкой полосой приборов. Блистала на заглаженных складках серебристая ткань салфеток и алмазно вспыхивал граненый хрусталь бокалов, обступавших полукругом каждую тарелку. Столовый прибор из бронзы и малахита вздымал во всех направлениях свои урны, статуэтки, группы и канделябры. Все прочее пространство столов было плотно уставлено блюдами, вазами, графинами, цветами. По обычаям старинной кухни, закуски и холодные кушанья покрывали сплошными рядами площадь столов между двумя линиями тарелок. Холодные окорока, копченые языки и паштеты, семга под голубой чешуей и бледно-коралловая лососина, жбаны с икрой и перламутр открытых устриц — все это тесно окружало длинные блюда с огромными заливными рыбами, словно схваченными льдом разноцветных потоков.
Густая и пестрая масса необычных яств поражала зрение своими редкостными, тяжелыми и пышными очертаниями. Индейские петухи с пернатыми украшениями, на высоких цоколях, фигурные пирожные с осте-
149
кленными фруктами под неподвижными каскадами кремов и сахарных струй приосенялись пирамидами плодов с цельными ананасами и свисающими гроздьями блестящих ягод.
Меж блюд, графинов и чаш ветвистые шандалы воздевали пучки бесчисленных свеч, а рядом фарфоровые вазоны устремляли ввысь кусты распустившихся камелий и роз.
Карта блюд своими замысловатыми обозначениями отмечала политические симпатии нашего хозяина: легитимист Шатобриан представлял своим именем бифштексы, а один из бульонов носил громкую фамилию самого Меттерниха.
Обед у Нессельроде был большим событием для всех любителей редкой и тонкой кухни.
На протяжении моего рассказа мне не раз, вероятно, придется отмечать подражания русской знати тридцатых годов нашим нравам восемнадцатого века. Это сказывалось и в особой области поваренного искусства. В прошлом столетии наши министры и посланники любили отличаться в изобретении необыкновенных яств, способных подчас прославить их имя вернее многих государственных актов, скрепленных их подписью. До нашего времени дошли блюда, отмеченные историческими именами политических деятелей прошлого, и в любом французском ресторане, несмотря на смену правительств и режимов, можно получить еще суп Кондэ и соус Кольбер.
В последнее время эта мода у нас миновала, но она надолго сохранилась среди петербургской знати. Русские вельможи еще продолжают состязаться по части изобретения замысловатых блюд и наивно гордятся наименованием какого-нибудь торта или котлеты своим полнозвучным государственным именем. В этом отношении особенно славится русский вице-канцлер, женившийся на дочери знаменитейшего гастронома — министра финансов Гурьева, обессмертившего свое имя не столько денежными мероприятиями, сколько изобретением какого-то горячего десерта. Идя по стопам своего славного тестя, Нессельроде означил своим именем необычайный пудинг, которому суждено, быть может, пережить память об административной деятельности его создателя.
Необходимо, впрочем, отметить, что эти изделия кухонной фантазии принадлежат в значительной степей
150
крепостным поварам или иностранным метрдотелям, чьи удачные кулинарные находки вступают в жизнь под громкими именами их патронов.
В этом кругу сановных гастрономов бережно хранятся предания старинного чревоугодия. Нессельроде как-то рассказал нам об одном знаменитейшем обжоре прежнего времени, который в эпоху похода на Париж командуя частью оккупационного корпуса, составил «гастрономическую карту Франции». Он рассчитывал переходы и привалы своего полка по местностям, прославленным какими-нибудь кушаньями. «Завтра утром мы в Амьене — славится своими барашками; привал в Эпернэ — лучшее в мире шампанское; переход в Бри — несравненные сыры...» Страсбург с его паштетами, Бретань и Нормандия с устрицами и сидром, Перигор с поросятами и трюфелями, Гаскония с водкой и домашней птицей — все было занесено этим необычайным географом на его любопытную карту.
Между тем мажордомы искусно, бесшумно и быстро распределяли общество по крыльям пиршественного стола.
Количество людей, обслуживающих трапезу, поразило нас: за каждым гостем стоит по нескольку лакеев, в распоряжении которых находятся мальчики в ливрейных кафтанах, столы обходят блюдоносцы и виночерпии, за буфетом лихорадочно работают метрдотели, за всем следят мажордомы. Гости за столом имеют вид пленной армии, окруженной превосходными силами неприятеля.
Нам предлагали пять или шесть супов — черепаший с мадерой, весенний с волованами, охотничий с дичью, суп а 1а Россини и даже по-орлеански. Очевидно, из любезности к нам, в порядке обеденной карточки, русский вице-канцлер мог позволить себе шалость признания Орлеанов.
— Какое обилие супов! — заметил Дэрам. — Недаром Россия так увеличивает свой флот...
— Суп, милорд, — отвечал ему Нессельроде, — это — агент-провокатор хорошего обеда...
— Лучше не иметь с ними дела, — заметил посол Великобритании.
— В таком случае, считайте его просто предисловием к трапезе...
— Но разве хорошие произведения нуждаются в предисловиях, граф?
151
Понемногу за холодными закусками и золотистыми бульонами стала завязываться беседа, скрепляющая общностью интересов отдельные кружки гостей. Разговоры велись на мирные темы. О политике говорили как-то воздушно и словно с птичьего полета. Никаких резких мнений — над всем царила мягкая мудрость все изведавших и все постигших людей. Карта Европы выступала из этих бесед какими-то озаренными полями блаженных, а современная политика с ее кровавыми интригами, беспощадной борьбой за власть и неслыханной ненавистью между всеми слоями европейского общества, взбудораженного последними революциями, казалось, развертывалась беспечным и крылатым хороводом. Иногда только тревожные нотки невольно прорывались сквозь эти благостные замечания, приветливые размышления и невинные остроты.
Сейчас же после супов в наши бокалы обильно хлынули вина. По обычаям старинного гостеприимства, хозяин заранее узнавал любимое питье каждого своего гостя и ставил перед его прибором соответственную бутылку. Русский вице-канцлер поступил проще: перед членами каждого посольства стояли прославленные марки его страны.
Мозельские и рейнские вина замыкали приборы фон Либермана, Лютцероде, Гогенлоэ и Лерхенфельда, бургундское и бордо высилось перед нашими приборами; перед Фикельмоном стояло токайское, марсала наполнила бокалы ди Бутера, Симонетти и Кастельново; наконец, глиняные бутылки с ликерами Нового Света играли своими звездами и флагами перед представителями Соединенных Штатов.
Наступил момент для первого тоста.
Бенкендорф поднялся с торжественным и почти грозным видом. Протянутой рукой он высоко поднял свой бокал и, как бы подавленный чувством неизъяснимого благоговения, провозгласил тост «за его величество государя императора».
Оркестр заиграл новый гимн композитора Львова, все поднялись с выражением великого счастья и беспредельной преданности. Министр Уваров произнес спич.
— Да будет наша первая мысль и наше первое чувство, — выпевал восторженным голосом Уваров, — признательность к нашему великому монарху, который блистает под эгидою святой веры, герой в порфире, гражданин на троне, миротворец на поле брани, законо-
152
датель и просветитель, коего глава украшена первою диадемою в свете и который в Древнем Риме заслужил бы славный венок гражданской доблести!
Снова гимн, снова молитвенные улыбки и трепетные взгляды.
Отряд ливрейных подростков быстро и бесшумно менял тарелки, высокие лакеи разливали вина в разноцветные бокалы. Нам начали разносить рыбные кушанья. Богатая добыча русских рек и северных морей со всех сторон вонзалась на узких и длинных блюдах в сомкнутую фалангу гостей. Огромные цельные осетры и стерляди, взъерошенные воткнутыми в них серебряными вилками с ажурными орлами, казались какими-то сказочными тритонами или редкостными дельфинами южных морей...
Михаил Виельгорский рассказывал между тем о полученных из Парижа от Керубини последних музыкальных новостях:
— «Гугеноты» производят фурор. Это несравненно выше «Роберта-Дьявола». На первом представлении театр был наполнен избраннейшей публикой. Цена мест в партере возвышалась с каждым часом и достигла к поднятию занавеса нескольких сот франков. Весь первый ярус был занят дамами в самых блистательных нарядах.
— Не удивительно, — продолжал Барант, — после спектакля был назначен у господина Ротшильда бал, который был удостоен присутствием герцогов Орлеанского и Немурского...
— Однако надлежит ли брать для музыкального развлечения такие кровавые темы? — заметил Уваров. — Ведь Мейербер представил католическое духовенство в ужасающем виде.
— А какие предметы ваше превосходительство рекомендовало бы композиторам? — спросил Барант.
— Я высоко ценю выбор нашего Львова, написавшего недавно гимн на слова Жуковского «Боже, царя храни»... Вот настоящий предмет, возвышающий душу и открывающий путь для вдохновения певцов.
— Скоро мы услышим первую русскую оперу, — сообщил Виельгорский, — «Ивана Сусанина» Глинки. Это выше Мейербера.
— Неужели, барон, — обратилась к Баранту наша хозяйка, — наследник нового французского престола находит возможным удостаивать своим высоким посеще-
153
нием балы этого Ротшильда, при его происхождении и профессии?
— Король французов и его наследник, — отвечал Барант, — ценят заслуги крупных деятелей своей страны независимо от их происхождения, графиня. И заметьте, это не только справедливо, но и мудро: кто может поручиться за чистокровность своего рода? Какой вельможа в состоянии доказать, что среди его предков не было Ротшильда?..
Барант умел парировать удары. Намек был беспощаден: всем было известно, что граф Нессельроде происходил по матери от франкфуртского банкира-еврея.
Но все сделали вид, что не заметили сарказма.
Долли Фикельмон рассказывала о новых салонных играх, забавлявших в зимнем сезоне всю Вену. В большой моде были «песни в действии»: за клавикордами исполнялись куплеты, которые тут же служили темой для пантомимы. Это легче и проще домашнего спектакля.
— Возобновились и рыцарские карусели, — продолжал австрийский посланник, — в день именин эрцгерцога были устроены четыре заезда в костюмах эпохи Людовика XIII.
— Но самое занимательное, — заметил молодой советник австрийского посольства, — это игра в дипломы. В обществе сочиняют забавные свидетельства на всевозможные смешные звания — старой девы, обжоры, донжуана, несчастного обожателя, глупца, неверной жены, обманутого мужа, покинутой любовницы и т. д. Дипломы рассылаются под условными подписями знаменитых обжор, повес или рогоносцев. Получающие звание могут обижаться, но зато отправители патента веселятся от всей души.
— Но получивший диплом даже не может ответить на него, — он не знает, от кого он его получил? — заинтересовался кто-то.
— Конечно, но он может послать кому угодно диплом на любое звание. Обмен таких посланий чрезвычайно занимателен...
Вокруг нас задымились жаркие — фазаны и каплуны, пулярды и дикие утки, хрупкие рябчики и тяжеловесные бедра замаринованных оленей.
Барант расхваливал искусство графских метрдотелей.
— Мы учились всему в Париже, — отвечал Нессельроде, — я помню, барон, знаменитые обеды Талейрана, в сорок восемь блюд.
154
После жарких, как бы разделяя обед на два приема, нам подавали холодный ромовый шербет для возбуждения аппетита и успешного продолжения трапезы. Затем снова следовали мясные соусы, в приготовлении которых сказалась в полной мере изобретательная фантазия поваров. Глухари с устричным соусом, павлиньи крылья под шампанским, рагу из черепахи, бекасное соте — все изысканности и все причуды кухонного искусства возбуждали и взнуздывали утомленный аппетит гостей.
Одной из занимательных тем общей беседы была поездка французских принцев в Берлин и Вену. Секретная цель путешествия была всем известна. Наш новый премьер Тьер решил во что бы то ни стало добиться сближения Франции с Австрией. Это был политический акт огромной трудности и неисчислимых международных последствий. Путем к осуществлению его Тьер наметил женитьбу нашего наследника — принца Орлеанского — на молодой австрийской эрцгерцогине.
Быстро была налажена поездка двух старших сыновей Луи-Филиппа в Германию и Австрию. В политических кругах Европы чрезвычайно интересовались исходом этого романического путешествия.
— Говорят, принц Орлеанский очень красив и ловок, — обратилась к Баранту Долли Фикельмон.
— Таково общее мнение у нас, графиня. Он великолепный стрелок и первый всадник.
— Многие легитимистки,— заметил с лукавой улыбкой ди Бутера, — увидев принца, примкнули к орлеанской партии.
Так беседовали за столом у вице-канцлера.
Я внимательно всматривался в русских министров и представителей европейских дворов. Живой сгусток современной истории словно переливался предо мной радужными тонами. Парадные фасады политических деятелей, собравшихся на пиршество петербургского вице-канцлера, возвещали мир и благоволение. За ними старая Европа копила взрывы народных возмущений, судорожно билась в смертельных схватках, мучительно металась и обливалась кровью. Испанию раздирала на части долголетняя гражданская война, Голландия протянула руки к горлу младенческой Бельгии, попранная Польша еще трепетала от ран и унижений, в Париже не прекращались покушения и казни, вольный город Краков был грубо растоптан тремя державами, а на востоке император Николай готовился к захвату новых террито-
155
рий и грозил бросить свои несметные штыки в каждый очаг европейской вольницы. Весь материк, казалось, раскинулся вокруг нас сплошным военным станом, со всех сторон взметая холодный ужас великих разгромов и бесчисленных смертей...
— Маэстро Россини не только славный артист, он великий гастроном, — говорил Нессельроде, — и мы чтим этого волшебника, вкушая его любимые блюда и слушая его лучшие мотивы.
И действительно, нежные звуки любовной каватины из Ченерентолы воздушно слетали с высоких хоров галереи, как бы осеняя своей мелодической волной этот круг мирных друзей, беседующих среди цветочных куп и полных чаш о странствиях принцев, празднествах банкиров и ристалищах европейской аристократии.
— Примите в знак дружеской приязни, — произнес Чернышев, передавая графине огромный цветок пиона из стоящего перед ним вазона. — Я люблю цветы, — продолжал он, щуря свои узкие глазки, — они напоминают мне молодые свежие лица...
— Вы всегда славились, граф, как ценитель прекрасного в жизни.
— Старый кавалергард, графиня, — произнес военный министр, — и притом ваш преданный слуга, — протянул он свой бокал с шампанским к хозяйке...
Каватина из Ченерентолы оборвалась на высоком взлете любовной мольбы. Все были зачарованы ласкающим звучанием этой сладостной мелодии, соединенной с тончайшим вкусовым ощущением от апельсиновых и земляничных желе, савойских бисквитов, мороженого и тортов.
— Как жаль, что Россини перестал работать, — произнес Матвей Виельгорский, — вот уже десять лет, как он не написал ни одной оперы!...
— Говорят, его смутили успехи Доницетти и Беллини, — произнес Симонетти.
— Скорее эти непонятные триумфы Мейербера и Галеви, — вставил Геккерн. — Но я верю, что великий итальянец снова зазвучит, когда жиды закончат свой шабаш.
Мы любовались искусством графских кондитеров. На фундаменте своих пирогов и пудингов они воздвигали колоннады, фонтаны и крепости, украшая эти хрупкие сооружения военными трофеями, пальмовыми ветвями, касками, лирами и палитрами.
156
— У вас не повара, а зодчие и ваятели, граф, — восхищался ди Бутера.
— Мой первый кондитер тщательно изучил в королевском кабинете эстампов в Париже фантазии Палладио и Пиранези, — с чувством смиренного самодовольства разъяснил нам Нессельроде.
Гости отяжелели от обилия яств, но и несколько оживились от огромного количества опустошенных бутылок. Пир развернулся, и празднество изысканного и безмерного чревоугодия, казалось, достигло апогея. Над разоренными блюдами и пустыми графинами невольно возникало изумление перед человеческой способностью поглощать всякую снедь. Я удивился, что в ход не были пущены знаменитые в быту римлян рвотные перья фламинго или серебряные урыльники Тримальхиона.
Обед был закончен. Гости с поклонами и похвалами дефилировали мимо нашего Амфитриона.
— Это только традиции старой дипломатии, — отвечал послам, их советникам и атташе Нессельроде. — Искусство тонкой еды всегда эскортировало представителей европейских держав. В старину посольства служили молодым дворянам одновременно школой дипломатии и гастрономии. Нам надлежит восстановить этот славный обычай. Нужно помнить, что высокое искусство кухни цветет при благосостоянии государства и неизбежно падает в эпоху революций...
* * *
Беседа продолжалась в кабинете министра за чашкой густого явайского кофе. Общий разговор принял более свободный характер, и отдельные группы касались и острых современных тем.
Барон Геккерн рассказывал о впечатлениях своей последней поездки по Европе. Он был поражен ростом третьего сословия в Германии и Голландии.
Из недавнего безразличного факта оно становится крупной политической силой. Это уже партия со своими вождями, газетами, клубами. Она разрастается и стремится заглушить голоса сановников и государственных деятелей.
— Я получил недавно письмо от князя Меттерниха, — рассказывал нам наш хозяин, — он, между прочим, пишет мне по поводу текущих дел: «Моя самая тайная мысль — что старая Европа в начале своего конца»...
157
— В Европе неспокойно, — заметил Бенкендорф, — одна Россия остается грозной наблюдательницей политических бурь, страшная для мятежников, ободрительная для монархов. В России бунты в настоящее время невозможны, господа, — обратился он к послам.
— Причины их в прошлом бывали сложны, но весьма любопытны для историка, — сказал Барант. — Я изучаю теперь «Пугачевский бунт» Пушкина...
Уваров при этом имени изменился в лице.
— Напрасно, барон, — почти со строгостью заметил он, — это зажигательная и вредная книга, написанная опасным пером.
— Лучше читайте Карамзина, — поддержал его Бенкендорф. — Пушкин — не мыслитель и не ученый, он только стихотворец, ценимый преимущественно женщинами...
— О, далеко не все женщины ценят его, — неожиданно возгласила вице-канцлерша. — Не знаю, как вы терпите его в Петербурге, граф, — обратилась она к Бенкендорфу, — ведь это самый озлобленный враг монархии и аристократии. Вы готовите себе будущего Робеспьера или Марата...
На темном мундире начальника главной императорской квартиры переливал огнями миниатюрный портрет царя в золоте лаврового обрамления. Император Николай, казалось, невидимо присутствовал при этом разговоре и грозно следил за ним, как страж всенародного безмолвия на рубеже Европы.
— Имена этих кровожадных бунтарей нам не страшны, графиня, — невозмутимо произнес Бенкендорф, — их подражатели в зародыше гибнут у нас. Сочинители же наши служат своими перьями царю и отечеству.
— В Париже против русского посольства, — заметил Уваров, — вы, верно, видели трактир, в котором неистовые мятежники сжарили и съели сердце принцессы Ламбаль. Я спрошу вас: возможно ли подобное в России? Хвала творцу, у нас нет пагубной свободы тисненья.
Но здесь разговор неожиданно принял новый оборот. В согласный хор торжествующего легитимизма ворвался новый голос. Заговорил представитель Англии.
— Замечательно, — задумчиво и медленно произнес лорд Дэрам, — что в России вполне разделяют то воззрение на писателя, какое господствует у нас только в среде земельной аристократии. Наши тори считают, что
158
генерал, адмирал или министр, при достижении известного успеха в своей деятельности, бесконечно важнее всех поэтов и всех философов...
— Разве возможно другое мнение, милорд? — изумился Нессельроде.
— Оно возможно, граф, и оно существует. Кое-кто ставит у нас Шекспира выше лорда Эссекса. И кто знает, не затмит ли через столетье все громкие имена нашего сегодняшнего собрания имя одного поэта — Пушкина?..
Великое недоумение прошло по нашему собранию. Министры и генералы были откровенно задеты словами дерзкого радикала, посланного Пальмерстоном к русскому двору. Уваров и Бенкендорф насупились над чашками душистой явы, Чернышев приподнял выше густые шнуры своих эполет, графиня Нессельроде злобно нахмурилась, пока лорд Дэрам с глубокой невозмутимостью оглядывал свысока парадное сборище, сохраняя в нем, согласно древним преданиям своей островной родины, гордое и блистательное одиночество.
XI
— Меня высылают из России, молю вас, спасите меня.
Передо мной стоял человек с горящими глазами в синем форменном мундире, держа под мышкой увесистую папку с документами. Барант поручил мне принять его.
— Кто вы такой?
— Альфонс Жобар, профессор греческой, латинской и французской словесности Казанского университета.
— Кто же может вас выслать из пределов России?
— Министр народного просвещения Уваров.
— Вы совершили какое-нибудь служебное преступление?
— Напротив, я не перестаю раскрывать их.
— Изложите же мне ваше дело, — попросил я его с некоторым удивлением.
Я услышал странную повесть.
Француз по происхождению, Жобар воспитывался и преподавал в Балтийских провинциях, откуда был назначен профессором в Казань. Из его рассказа я понял, что это был человек с сильной волей, с горячим темпераментом и боевым задором. Замыслы и страсти превращают
159
таких людей в фанатиков. Охваченные своей идеей, они в достижении цели не знают ни снисхождения, ни пощады, ни уступки.
Жобар был страстно пленен мыслью о человеческой справедливости. Понятие законности было для него лишено всякого государственного холода и носило черты какой-то высшей правды. Он поставил целью своей жизни добиваться всюду во что бы то ни стало торжества этого начала и неуклонно шел к осуществлению своего задания. Жил он в суровом одиночестве, как настоящий аскет.
Человек с такими идеями и характером попал в русские учебные заведения, в которых свирепствовали интриги, взятки, зависть и произвол. Он был поражен картиной всевозможных злоупотреблений и решил вступить в открытую войну с ними. От ректоров и попечителей он поднялся к высшим представителям власти и, не найдя в них сочувствия своему обличительному негодованию, вступил в борьбу с самим министром народного просвещения. Вскоре Уваров стал его жесточайшим врагом.
Незадолго до нашего приезда Жобар решился где-то на улице Петербурга подать записку самому царю.
— И вот тут-то произошло нечто неслыханное, — продолжал, задыхаясь, мой собеседник. — Взбешенный Уваров прибегнул к самому подлому средству борьбы. Он объявил меня сумасшедшим.
— Но позвольте, как же это возможно без осмотра, без врачей, своей властью?
— Увы, этот гнусный прием применяется в некоторых случаях русской администрацией. Еще летом я получил официальную бумагу, что ввиду «расстройства в идеях» я должен выехать за границу.
— Что же вы сделали?
— Я обратился во врачебный отдел Московского губернского правления и добился медицинского освидетельствования...
— Ну и,что же?
Жобар извлек из своей папки бумагу, исписанную канцелярским почерком и испещренную печатями и подписями.
— Читайте.
Это было удостоверение врачебного отделения в том, что ординарный профессор и кавалер Альфонс Жобар находится в совершенно здравом состоянии рассудка.
160
Он торжествующе взглянул на меня. Я порадовался такому обороту дела.
— Итак, вы выиграли тяжбу. В чем же затруднение?
Оказывается, к Пасхе Жобар послал Уварову свое «красное яичко» —письмо, широко распространенное им в публике, в котором он обстоятельно доказывал, что ученые труды Уварова представляют собою научный плагиат и списаны с исследований какого-то немецкого профессора.
Как раз в разгаре этой борьбы появилась сатирическая ода Пушкина «На выздоровление Лукулла», заклеймившая Уварова с такою потрясающей силой, о какой и отдаленно не мог мечтать Жобар. Он с восторгом отозвался об этом стихотворении, в котором знаменитый русский поэт пригвоздил к позорному столбу его врага за алчность и казнокрадство.
Я вспомнил беседу об этом памфлете у Строгановых.
— Какое же отношение имеете вы к сатире господина Пушкина?
Он снова извлек из своей папки пакет.
— Прочтите, прошу вас. Я стал читать.
Посланье господину Уварову,
министру народного просвещения, президенту Академии наук, автору ученых толкований на древних классиков, переводчику «Клеветникам России» и пр., и пр.
При чтении прилагаемого стихотворения, которым Пушкин, ваш излюбленный поэт, только что обогатил русскую словесность, я пришел в восторг, и, хоть давно утратил привычку размерять свою речь, я не мог удержаться, чтобы не переложить на французские стихи эту изумительную оду, внушенную ему, без сомнения, особым покровительством, которым Ваше превосходительство удостаивает чтить сынов Аполлона.
Желая привлечь и на мою неведомую Музу благосклонный взор Мецената Севера, я осмеливаюсь повергнуть к подножию Геликона французский перевод последней песни русского Пиндара.
Твердо решившись ознакомить Европу с этим необыкновенным сочинением, я предполагаю направить его к моему брату, литографу, типографу, книжному торговцу и редактору «Промышленника» в Брюсселе, со всеми
161
толкованиями, каких может потребовать понимание текста. Смею надеяться, что Ваше превосходительство удостоит почтить меня благоприятным ответом и даже, может быть, даст аудиенцию искреннейшему почитателю Ваших доблестей и дарований, почтительнейшему из Ваших подчиненных
А. Жобару,
действительному ординарному профессору словесности греческой, латинской и французской в Казанском университете, чиновнику 7-го класса и кавалеру ордена св. Владимира 4-й степени.
К письму действительно был приложен стихотворный перевод столь прошумевшей сатиры.
— Ваш перевод известен поэту? — поинтересовался я.
— Конечно, я послал ему мой труд вместе с копией моего письма к Уварову.
— Как же отнесся к этому автор?
Жобар, порывшись в папке, протянул мне письмо. Оно было написано свободным красивым почерком в очень изящной французской прозе.
Пушкин в дружеском тоне благодарил своего переводчика за честь и мило шутил на тему о потерянном рассудке, который его корреспондент успел «чертовски вернуть себе». Он просил отказаться от напечатания перевода, появление которого могло доставить ему весьма тяжкие неприятности.
— Я, конечно, исполню волю Пушкина, — продолжал Жобар, — но вопрос теперь не в этом: вот новый приказ о моем немедленном выезде из России. Это равносильно для меня голодной смерти под забором. Умоляю вас — примите меры...
Я взял у несчастного нужные бумаги и обещал действовать.
Барант лично обратился к Уварову. Французское посольство направило в министерство народного просвещения ряд энергичных отношений, основанных на красноречивых документах дела. Но все наше заступничество оказалось тщетным. Министр проявил обычно свойственную ему неумолимость, жестокость и мстительность. Соблюдая с нами формы высшей вежливости, он ни на шаг не отступил от принятого решения. Мы почувствовали, что ненависть этого человека не знает границ в
162
преследовании тех, кого он считает своими противниками.
Жобар был выслан из России. Воля Уварова осталась непреклонной.
XII
Большой весенний парад с дефилированием конных и пеших войск всех видов оружия был назначен на десять часов утра.
Зрелище развертывалось в двух шагах от французского посольства, на огромном Марсовом поле. Здесь при Петре происходила звериная травля.
Карета Баранта подъехала к самому началу военного спектакля. Я сопровождал ее верхом, чтобы иметь возможность свободно передвигаться вдоль плаца и с различных сторон следить за редким зрелищем.
Экипажи послов и сановников выстроились своеобразным ярусом подвижных лож вдоль боковой границы площади ближе к Мойке. За ними легко гарцевали казаки, оттесняя за положенную черту бесчисленных зрителей.
Народ густо теснился вокруг утоптанного поля. Летний сад был запружен толпою. Окна, балконы и кровли окрестных домов были унизаны любопытными. Человеческая масса заливала ступени высоких подмостков с краю площади.
Мне пришлось снова, как на балу в Зимнем дворце, наблюдать пустые и пышные формы особой правительственной театральности. В военном деле Николай проявляет с исключительной силой эту страсть к нарядным зрелищам и трескучему блеску, к потрясающим зрительным и слуховым эффектам. Он особенно любит поражать иностранцев необыкновенной выправкой и невообразимой правильностью своих пеших и конных сил. Это не армия, а гигантский кордебалет в подчинении строжайшим законам единообразия и симметрии.
Мы подъезжали как раз в тот момент, когда под дробный стрекот барабанов темно-зеленые колонны пехотных полков выстраивались в прямолинейные шеренги на утоптанной пыли плац-парада.
В однообразных суровых мундирах на девяти медных пуговицах, перед нами выстраивались полки гвардейской пехоты, ведавшие в России высшей политикой со дня
163
смерти Петра до смутного воцарения Николая. Вот они, прославившие свои наименования в жестокой истории дворцовых переворотов, — преображенцы, семеновцы, измайловцы, московские гренадеры, павловцы и егеря. На правых флангах становятся хоры их музыкантов, обвитые, как серебряными удавами, своими гигантскими тромбонами и валторнами, воздевающими в небо разверстые пасти, полные притаившихся грохотов и стонов.
Перед каждым хором музыкантов на некотором расстоянии высится огромная фигура тамбурмажора. На эту должность в русской гвардии вербуются великаны. Их наряжают в блестящее разноцветное и пышное облаченье. Весь в серебряных галунах и золотых нашивках, под пышными эполетами генеральского образца, в огромной треуголке с петлицами и кокардами, он напоминает мне разряженных ярмарочных шарлатанов, зазывающих праздничную толпу в наши народные балаганы. Гордый, как петух, он стоит в непринужденной позе, подперев рукой левый бок, щегольски выставив вперед правую ногу и свободно вытянув высокую трость с вызолоченной булавою. Во всей русской армии, кажется, ему одному предписана некоторая свобода и небрежность движений. Не поворачиваясь к полку, он отдает своим блестящим жезлом условные сигнальные знаки. По взмахам его булавы полк готовится к генерал-маршу или к движению под знамена. В этой нелепо разряженной фигуре возвещена вся театральность николаевского парада.
Петербургское общество расположилось вокруг плаца в своих открытых каретах. В одном из экипажей я узнал родственницу Пушкиных — старую фрейлину Загряжскую. На запятках ее экипажа ливрейный грум держал на вытянутых руках высокий ворох мантилий, платков и меховых накидок. Старуха смертельно боялась простуды. Кутая свою сутулую фигуру в турецкую шаль, она бойко болтала с двумя своими молодыми спутницами. То были ее племянницы — сестры Гончаровы. Младшая — бледный ангел — казалась задумчивой и рассеянной, старшая, с южным лицом и горящими глазами, видимо, с увлечением следила за развертывающимся зрелищем. «Кружевная душа» отсутствовала: ей предстояли роды. Сам Пушкин находился в отпуску в Москве.
Едва закончилось торопливое и размеренное вы-
164
страивание пехоты, как медные кличи труб разодрали воздух, и конница бодрой рысью хлынула на площадь.
Каждый полк русской кавалерии, а иногда и каждый эскадрон имеет лошадей особой масти. Вороные, гнедые, серые, караковые, чалые, белые кони сплошь несут на себе, по признаку единой и общей окраски, целый полк вооруженных всадников. Одинаково убраны скакуны для всего полка: в одном грива и хвост развеваются пышными прядями по ветру, в другом хвосты подстрижены под самую репицу, челки срезаны, грива стоит короткой и твердой щеткой, как у буцефалов античных фронтонов.
Совершенно бесполезное в стратегическом отношении, это правило тешит вкус царя к единообразию его войсковых частей. Можно представить себе, каких усилий стоит этот подбор конницы по мастям.
Я подъехал к экипажу Уварова и сообщил ему мое удивление.
— Наши кавалерийские ремонты,— отвечал он,— производятся в губерниях с обильными пастбищами, питающими целые табуны разнообразнейших конных пород...
Пестрыми пятнами обрызган Царицын луг. Прямыми рядами гвардейские эскадроны голубых жандармов, бело-золотых кавалергардов, желтых и синих кирасир выстраиваются за батальонами пехоты. Во второй линии — лейб-драгуны и красные казачьи сотни.
И, наконец, за конницей с грохотом и звоном стала занимать края плац-парада легкая артиллерия в запряжке. Со стороны старинной площади Коннетабля медленно подкатывали пушки вместе с черными пороховыми ящиками, выстраиваясь по прямой линии под охраной канониров.
Потребовалось не больше получаса, чтобы огромная площадь была заполнена всеми видами войск, расположенных по ней отчетливыми и стройными группами, как точеные фигурки по квадратам шахматной доски.
XIII
Перед фронт войск в сопровождении своих адъютантов выехал брат царя Михаил.
На него возложено командование парадом.
Великосветский каламбурист, он славится своей свирепостью в строю. Военный люд Петербурга трепещет
165
при его имени. Он унаследовал от своего отца, сумасшедшего императора Павла, страсть к жестокой муштровке войск, доходящей до истязания. Его тупое лицо с ярко-рыжими бакенбардами, густыми бровями и усами в момент решительных команд становится звероподобным.
И вот издалека раздался условный сигнал. Конные горнисты играли фанфару. Площадь вздрогнула и окаменела.
— Смирно!.. — почти с отчаянием раздирая рот под густою огненной порослью, командует начальник парада. — Палаши и сабли вон!
Бесчисленными отголосками рассыпается по плацу верховная команда, повторенная начальниками всех частей.
И вот беглой молнией пробегает по всему фронту войск блеск от обнажившихся лезвий. Быстрым зигзагом перерезает площадь солнечная вспышка — и все застывает.
Хоры музыкантов грянули гвардейский поход. Из разверстых пастей серебряных удавов полились приветственные клокотания, сотрясавшие воздух трескотней и раскатами триумфального грома.
Начинался спектакль. Окруженный безмолвными статистами, среди эскорта разряженных генералов, взъерошенных золотом расшивок и перьями шляп, к нам по прямой линии скакал на гнедом иноходце первый актер.
Всадники мчались с той стороны, где стройный бронзовый Суворов, слегка приподымаясь на пьедестале и словно фехтуя тонкой шпагой, бережно прикрывает щитом папскую тиару и короны неаполитанскую и сардинскую, которыми хотел завладеть Бонапарт.
Разыгрывается сцена встречи. Рыжекудрый Нерон российской гвардии, облаченный тяжелым титулом генерала-фельдцейхмейстера, срывается с своего места и, салютуя саблей, несется галопом навстречу родственному начальству. Приблизившись замедленной рысью к прискакавшим всадникам, он опускает саблю к шпоре и рапортует о составе собранных войск.
Начинается главное действие площадной феерии. Всадники объезжают шагом фронт.
Мелким треском рассыпаются барабаны, гулко поют валторны.
Царь готовил собравшимся нежданное зрелище верховной кары.
166
— За усердную службу достойно награждаю, за нерадивость примерно наказываю, — таким речением охотно пугает своих подчиненных этот всероссийский автократ, считающий свою власть неограниченной.
Я часто вспоминал по этому поводу меткое слово госпожи Сталь:
— В России существует монархия, ограниченная убийством.
Император Николай должен был бы чаще вспоминать о судьбе своего отца и деда.
Но, видимо, он глубоко убежден в своей «священной» неприкосновенности. Только этим можно объяснить тот жестокий карательный спектакль, который был предложен зрителям во время майского парада.
Царь, оказывается, был подробно осведомлен о каких-то непорядках в егерском полку. Он решил всенародно обрушить свой гнев на командира пред лицом собранной гвардии и толпившихся зрителей.
Подъехав к фронту егерей, он махнул рукой, чтоб музыка прекратилась. В наступившей тишине он неожиданно прокричал:
— Ненавижу противозаконье! Нарушителей моей воли караю нещадно. Примером этого да будет командир егерей.
И, обратившись к одному из своих адъютантов, он отрывочно приказал:
— Снять с него эполеты и аксельбанты.
Флигель-адъютант бросился исполнять приказание.
Несмотря на торопливость движений, ему нелегко было оторвать от военного мундира крепко пришитые к нему воинские атрибуты. Сам осужденный дрожащими руками отстегивал борт мундира и пытался поскорее освободиться от почетных шнурков.
Наконец аксельбанты очутились в руках царя. Он вызвал из застывшего строя одного молодого офицера и, небрежно бросив ему сорванные отличия, грозно крикнул:
— На, но смотри умей их оправдать!..
В это время подкатила фельдъегерская тройка с двумя жандармами.
— А этого, — продолжали сыпаться распоряжения, — в крепость, а затем — под суд.
Оборванный, бледный, обесчещенный гвардейский командир был увезен с плац-парада под охраной жандармов...
167
Но парад продолжается. Всадники выезжают перед фронт войск.
Открывается церемониальный марш. Огромные тромбоны военных оркестров выдыхают из своих медных легких призывные и победные темпы. Гвардейская пехота проходит густыми колоннами мимо нахмуренного всадника, не перестающего отдавать приказы, бросать частям установленные возгласы и рассыпать во все стороны своих адъютантов с высочайшими распоряжениями.
Горят медными бляхами гренадерские шапки, сверкают кожаные кивера, вспыхивают остриями гренад гладкие каски, трепещут и бьются султаны и перья на офицерских треуголках. Пылают на солнце павловские шишаки, пронизанные вражескими пулями. Все в движении и звучании. Гулко топочут и гремят оркестры, знамена и штандарты описывают огромные дуги и, трепеща полотнищами, склоняются своими копьями к копытам гнедого иноходца.
Сидящий на нем всадник доволен. Чувствуется, что первый актер исполняет роль великого полководца. Среди марширующих полков он представляется себе Цезарем или Ганнибалом. Беспомощный и неумелый на войне, он самоуверен и самоупоен на параде. Он хочет быть славянским Людовиком XIV или всероссийским Фридрихом Великим. Ему кажется, что он вписывает свое имя в анналы военной истории.
С топотом и звоном приближается кавалерия. С высоты гнедого коня раздаются команды, и штаб-трубач трубит сигналы к различным аллюрам.
Полевые жандармы проезжают шагом, рысью несутся кирасиры в черных панцирях, мчатся галопом конно-гренадеры. Светлые кавалергарды пролетают в карьер, со свистом разрезая воздух и учащенным топотом потрясая почву плац-парада.
Предводительствуемые сухим и длинноногим командиром Грюнвальдом, весело и буйно проносятся марш-маршем эскадронные колонны. Впереди на правом фланге мчатся трубачи, высоко вздымая длинные серебряные трубы.
Вот несется шестой эскадрон на белоснежных конях. Впереди своего взвода мчится на лоснящемся иноходце поручик д'Антес. Парадная форма кавалергарда блещет на солнце. Каска с восьмиконечной звездой схвачена под подбородком крепкой металлической чешуею. Над ней
168
литой орел распластывает на огненной макушке свои когтистые лапы, воздевает в небо два горбатых клюва и, расправляя свои серебряные крылья, словно плывет по воздуху над белым всадником. Солнечные лучи ударяют в кирасу и отдаются ослепительными бликами. Прямой палаш горит на солнце гигантской свечою, и в дробном топоте конницы, в бряцании и звоне вооружения, туго обтянутый сукном и крепко окованный металлом, с бодрым, радостным и хищным лицом несется перед своим сверкающим взводом, играя обоюдоострым мечом, белый муж на белом коне.

Я подъезжаю к экипажу Загряжской. Старая фрейлина вспоминает смотры «при покойном императоре Павле». Александрина Гончарова равнодушно следит за движением войсковых частей — мысли ее далеко... Но зато старшая сестра не может скрыть своего восхищения. Лорнетка с квадратными стеклами словно срослась с ее горящими глазами. Она жадно впилась взглядом в проносящийся отряд и, кажется, вся поглощена созерцанием юного поручика шестого эскадрона кавалергардов в панцире витязя и крылатом шлеме.
Она не в силах маскировать светским безразличием свои чувства.
— Какое восхитительное зрелище, не правда ли? — обращается она ко мне. — И как прекрасно ведет свою часть ваш кузен!..
— Перед вами старый сенсирец, — отвечаю я с улыбкой. — Жорж д'Антес может с достоинством представлять Францию воинских подвигов и славных сражений.
— О, я уверена, что на войне он проявил бы себя героем! — восклицает моя собеседница, опуская лорнетку и устремляя на меня свой горящий взгляд.
Зрелище перестает занимать ее. Она равнодушно оглядывает пролетающие вихри новых военных отрядов, поражающих взгляды одеждами и вооружением. Вслед за кавалергардами проносятся гусары в красных мантиях, атаманские отряды в бирюзовом одеянии, лейб-казаки в алых мундирах, кавказские эскадроны в мохнатых папахах и лезгины в легких одеждах, на тонконогих конях.
— Это какой-то воинский карнавал, — говорит мне с иронической усмешкой советник австрийского посольства.
Пока мы беседуем, артиллерийская дивизия с грохо-
170
том и звоном орудий проходит в облаках пыли, поднятых копытами гвардейских скакунов. Сквозь громыхание цепей и затворов еле слышатся приветственные и ободрительные крики, слетающие с высоты гнедого иноходца.
Парад закончен. Бесчисленные латунные барабаны бьют отбой. Посольские кареты отвозят иностранных министров на завтрак во дворец. Всадники, производившие смотр, возвращаются к Дворцовой площади. Батальоны и эскадроны медленным движением под барабанную дробь и кличи труб оставляют огромную площадь.
Бушующее море коней, мундиров и кирас спадает; площадь расстилается пустыней.
Черная лазаретная фура объезжает Марсово поле. То здесь, то там темнеют поверженные фигуры солдат, сброшенных с лошадей, упавших во время вихревого марша или задетых на ходу колесом проносящегося орудия. В присутствии царя, в движении парадного смотра, в неумолимом ходе военного празднества все эти эпизоды проходят незамеченными, церемониал неуклонно продолжается, эскадроны проносятся по упавшим, отставшим и свалившимся, триумф полководца ни на мгновение не отклоняется от предначертанных уставов.
Черная фура второпях подбирает поверженных. Это незаметный выкуп русской армии за успех весеннего парада.
* * *
Рассказу моему предстоит перелом.
После смерти Пушкина друзья его издали одну неоконченную историческую повесть, в которой поэт изобразил своего предка, арапа Ганнибала.
Я прочел недавно этот прелестный этюд, воскрешающий старый Париж эпохи Регентства, когда «французы смеялись и рассчитывали, и государство распадалось под игривые припевы сатирических водевилей».
Судьба царского негра увлекла меня. В этой повести, написанной лет за десять — двенадцать до смерти, Пушкин мимоходом роняет несколько мыслей о великой опасности брака. Эти строки поразили меня. Приятель арапа отговаривает его от женитьбы.
« — Послушай, Ибрагим, последуй хоть раз моему совету: брось эту блажную мысль — не женись. С твоим ли пылким, задумчивым и подозрительным характером,
171
с твоим сплющенным носом, вздутыми губами, с этой шершавой шерстью бросаться во все опасности женитьбы?...»
Говорят, у поэтов и мудрецов есть особая зоркость ко всему окружающему, неизменно придающая их наблюдениям свойство безошибочного предвидения. По ходу моего рассказа я должен перейти теперь к изложению событий, которые в личной истории самого поэта поразительно подтвердили все тревожные опасения, высказанные доброжелательными друзьями его легендарному прадеду Ибрагиму Ганнибалу, скрывавшему под своей мрачной внешностью африканца пылкий, задумчивый и подозрительный характер
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит.
Пушкин
I
Летом в жизнь Петербурга входит вода. Сугробы и льды сменяются живыми потоками, зыбью и кристальными отражениями чугунных перил и бронзовых групп в стоячей глади каналов. Дуги мостов образуют овалы, неподвижные сверху, струящиеся и зыбкие внизу. Отстраиваются гавани, идет починка набережных, мелькают гребные катеры на Неве, выстраиваются на рейде фрегаты, корветы и торговые корабли. Мачты поднимаются целыми рощами над широкой зыбью Невы, густая сеть морских канатов занавешивает горизонт. Вдоль набережных носится легкий запах деревенских прудов, в гаванях пахнет смолою и пряным духом трюмов. Петербург начинает напоминать большую голландскую гавань.
«После Стокгольма, Амстердама и Венеции, — прочел я у одного путешественника, — едва ли найдется еще город в Европе, столь щедро наделенный водами, как Петербург. Четырнадцать рек и девять каналов опоясывают его во всех направлениях, и почти четвертая часть города омывается волнами Финского залива»...
С наступлением лета в обществе перестают говорить о парадах, разводах и смотрах. Гвардия переходит в лагери. Пыльные плацы пустеют. Но понемногу всех начинают занимать предстоящие морские маневры. В тот год
172
много говорили о июльском празднестве на рейде первой военной гавани. Царь решил показать иностранным дипломатам свою балтийскую эскадру и с этой целью наметил грандиозный смотр флота в кронштадтских водах. Передавали, что, в подражание Петру, Николай проведет перед новыми судами старинный парусный бот, положивший начало русскому кораблестроению.
Когда черные дни петербургской зимы сменились белыми ночами северной весны, город опустел. Члены французского посольства остались во дворе на Миллионной, но я постоянно ездил навещать д'Антеса в его лагерной избе. По соседству, на островах, расположились в летних замках и дачных павильонах наши зимние знакомцы — Строгановы, ди Бутера, Полетики, барон Геккерн, Пушкины.
Общество развлекалось. Прямо против Новой Деревни высилось новое заведение минеральных вод, где давались летние балы и постоянно гремела музыка. Трубачи кавалергардского полка каждый вечер играли гимны. Кавалькады скакали по липовым аллеям и просекам парков. По нарядным дачам, вдоль готических и китайских домиков, бродили странствующие тирольцы и чужеземные фигляры. На воде раздавались серенады. «Житье-бытье на Черной речке очень веселое», — повторяли мне местную поговорку однополчане Жоржа.
Кузен мой твердо решил использовать благоприятную топографическую обстановку летней жизни для окончательной победы. Натали Пушкина, по его словам, не могла уже скрыть своего душевного смущения перед его непоколебимой двухлетней страстью и с явной тревогой, колеблясь и как бы склоняясь на уговоры, выслушивала его настойчивые признания, слабея в своих отказах и уже не веря своим собственным доводам.
Между тем д'Антес всеми средствами старался обворожить неприступную красавицу. Вместо обычных зимних подношений — театральных билетов и цветов — он посылал ей теперь на дачу новые французские романы при нежных, влюбленных и подчас шутливых записках. На помощь мундиру и блестящей выправке призывались последние моды парижской словесности и заманчивые соблазны светского остроумия.
Сделаю одну оговорку. Мне часто приходилось слышать от русских друзей Пушкина, будто д'Антес был невежествен, груб, дурно воспитан и умственно ограничен. Это едва ли верно. Бурбонский лицей и Сен-Сирская
173
школа вместе с фамильными традициями, идущими из Германии, сообщали ему не один только внешний лоск. Его выдающиеся способности, в которых не приходится сомневаться в наши дни, когда он начинает играть заметную общественную роль как член Генерального совета Верхнего Рейна, заметно сказывались уже в его молодые годы. Он уже тогда безошибочно находил вернейшие пути ко всем видам успехов, руководствуясь врожденной тягой к большим состояниям, придворным титулам, праздной и беспечной жизни, полной забав и наслаждений. Его живая речь и особенно счастливый дар остроумной шутки уже в то время признавались всеми окружающими. Не удивительно, что он покорял сердца. В глазах же Пушкиной он имел еще одно преимущество: он питал к ней чувство глубокого сердечного увлечения, невольно привлекающего к себе ответное внимание женщин. Недаром поэт в своем последнем письме заговорил о волнении своей жены перед этой «великой и возвышенной страстью»...
— Да, плод созрел, — говорил мне в начале лета д'Антес, — остается только сорвать его.
— Ты не боишься мужа? — спросил я как-то Жоржа, — ведь ревнивость его так известна...
— Я выработал тонкий стратегический план. Сам генерал Менуар остался бы доволен моим тактическим проектом. Осада ведется исправно, и крепость падет. Важно учесть тыловую опасность. Для введения противника в заблуждение необходима осторожная диверсия. Я решил предпринять ее. Ты соображаешь, в чем дело?
Я должен был сознаться, что теряюсь в догадках.
— Между тем это проще, чем взятие Тулона. Для отвода глаз мужу и всему свету я начинаю ухаживать за старшей сестрой. Всюду — на гуляниях, на фейерверке, в минеральных водах, в Петергофе — я не отойду от мадмуазель Катрин. Старая дева готова на все, лишь бы быть со мною, — она сама устроит мне надежное свидание с Натали.
— Но чем же окончится ее роль?
— Это мне совершенно безразлично. Мне нужно теперь надежное прикрытие для достижения главной цели, — а для этого все средства хороши...
— Какая опасная игра! — невольно вырвалось у меня.
— Другого выхода нет. Вино откупорено, нужно пить его.
174
— Ты помнишь неосторожность двойных преследований на охоте?
— Катрин Гончарова — не добыча для меня. Она послужит мне только ширмой для завоевания младшей сестры. Поверь, что я сумею удержаться на должной границе и ни на мгновение не упущу из виду главной цели.
Мне пришлось вскоре наблюдать стратегическое наступление и тактическую диверсию моего кузена.
* * *
Из кондуитного списка кавалергардского ее величества полка поручика барона де Геккерна:
Графа: Каков в нравственности?
Ответ: Аттестовался хорошим.
II
ИЗ ЛЕТНЕГО ДНЕВНИКА 1836 ГОДА
Не застав д'Антеса в его лагерной избе, я узнал от Трубецкого, что он отправился к Пушкиным, куда просил зайти и меня. Через двадцать минут я уже находился на каменноостровской даче. В ожидании хозяев я присел на скамью у самого дома и погрузился в раздумье.
«Правильно ли я выполняю поручение парижского министерства? Не следует ли заменить портреты и картины посольских депеш статистикой, топографией, чертежами и точными сводками?..»
Неизвестный голос прервал мои размышления:
— Так это вы, виконт д'Аршиак? Представитель моего любимого народа, сын великой страны, подарившей миру Расина и Мольера? О, садитесь, садитесь. Я хочу услышать от вас о Париже, о бульварах, о театрах, об институте! Что мадмуазель Марс, что мадмуазель Жорж? Как декламируют теперь александрийцы трагедий? «Que ces vains ornements, que ces voiles me pèsent»...1 Как это читала Жорж! Боже, как она это читала! Ее напев еще звучит в моих ушах и готов исторгнуть
________________________
1 Как эти несносные украшения, как эти покрывала меня тяготят (фр.) — отрывок из «Федры» Жана Расина.
175
слезы из глаз моих... О расскажите же мне о театре, об ораторах, о Париже. Садитесь, садитесь, дорогой виконт, прошу вас, говорите!
Передо мной стоял маленький толстенький старичок с круглым обтянутым брюшком и вьющимся петушиным хохолком. Удлиненное красноватое лицо его, с пухлыми губами гурмана, было необыкновенно живо и изменчиво. Светлые глазки его, с несколько опущенными краями, светились мыслью, одутловатые щеки не переставали играть тонкими улыбками. Быстрые движения свидетельствовали о пылком темпераменте, еще далеко не угашенном годами. При некоторой ветхости костюма, воротнички ослепляли своей белизной, а шейный бант был повязан с щеголеватостью парижских вертопрахов эпохи Директории. Несмотря на торопливую живость движений и слов, в его жестах и выражении было много особой старинной грации, напоминавшей мне манеру Фуассак Ла-Тура. Он принадлежал к поколению людей, знавших современников Людовика XV и Елизаветы.
Это был отец поэта, старший в роде Пушкиных. В молодости гвардеец и стихотворец, он пронес через всю свою жизнь страстное поклонение Франции и прославился даром увлекательной беседы. В этом отношении он поистине мог соперничать со своим знаменитым сыном. Разговор его не переставал искриться каламбурами, стихами, изречениями и остротами...
Я попытался удовлетворить его любопытство. Но, прослушав меня с вежливой улыбкой две-три минуты, он снова стал забрасывать меня восторженными возгласами и возбужденными расспросами, на которые, впрочем, еле давал мне возможность отвечать.
— Вы говорите, Гизо, Лакордер... Но ведь я знал Францию старого режима — тончайший цвет эмиграции прошел через мою гостиную. Вольтерьянец по убеждению, я всегда отдавал дань таланту и несчастью. Ксавье де Местр писал у меня свои миниатюры, граф Монфор читал свои записки, де Русло увлекал нас своей беседой, волшебница Першрон чаровала своей музыкой... Восхитительное время! Куда, куда ты скрылось?
Он вынул из бокового кармана сафьяновый футляр и, раскрыв его, протянул мне превосходно выполненный миниатюрный портрет на слоновой кости.
— Это кисть Ксавье де Местра, — с гордостью произнес он.
Я увидал в овале лицо молодой женщины в прическе
176
 эпохи ампир, с падающими на щеки черными
локонами, заколотыми большим испанским гребнем. Я невольно залюбовался
длинными, чуть-чуть насмешливыми глазами, тонким орлиным носом и стройной
лебединой шеей незнакомки.
эпохи ампир, с падающими на щеки черными
локонами, заколотыми большим испанским гребнем. Я невольно залюбовался
длинными, чуть-чуть насмешливыми глазами, тонким орлиным носом и стройной
лебединой шеей незнакомки.
— Моя покойная жена, — с несколько театральной грустью воздел к небу глаза Пушкин-отец. — Что за женщина! Что за ум! Она писала письма лучше мадам де Севинье! О, Надина, зачем я пережил тебя, друг мой, верная спутница, хранительница дней моих?
Старик всхлипнул и смолк. Он страдал одышкой, и речь его прерывалась легкими приступами удушья.
Я узнал потом, что Пушкины жили очень беспорядочно и шумно. Старик, впрочем, не долго предавался своим грустным размышлениям.
— О, моя бедная, спи с миром! Но скажите, дорогой виконт, разве мужчина в шестьдесят пять лет закончил свое земное поприще? Разве Людовик XV перестал в этом возрасте посещать свой олений парк?
Я поторопился успокоить все его сомнения.
— Вы правы, — обрадовался он, — мужчина в мои годы только вступает в свою зрелость, он только начинает понимать прелесть девичьей свежести, аромат распускающегося цветка, пленительность девственного чувства. О, эти милые шестнадцатилетние девушки, где вы, где вы? Я готов служить вам, я хочу снова любить вас...
Какая-то истома овладела им, глаза полузакрылись, дыхание стало тяжелее и ровнее. Он с блаженным утомлением опустил веки, голова склонилась в белоснежный галстук, — и старик, не договорив своего любовного признания, задремал.
Я смотрел на его грузный профиль раздобревшего русского барина, сумевшего расцветить и утончить полускифский быт своих соплеменников страстной влюбленностью в парижские нравы, театры и литературу. И мне думалось о том, что в глубокие сугробы северных равнин, в беспорядочный и дикий быт крепостного душевладельца эта влюбленность в изящную жизнь и блестящую поэзию далекой Франции вносила свой строй, единство и смысл. Шутя, любуясь и развлекаясь, он незаметно заражал поклонением Корнелю и Вольтеру своих знакомых, друзей и родных, создавая вокруг себя новую умственную среду, озаренную и облагороженную этим влечением к строгому складу французского классического стиха. Пусть александриец торжественной трагедии слу-
178
жил ему только развлечением и игрою — судьба вознаградила его за тонкий вкус и стремление к художественным радостям. Легкие веяния этой беспечной и мимолетной жизни, пройдя сквозь культуру и гений его сына, приобрели крепость и глубину законченного духовного типа. Я понял, почему Пушкин так часто представлялся мне чужестранцем среди русских. Наследие предков подготовило великолепный расцвет его творчества, незаметно насытив его образами и строфами бессмертных певцов латинского гения. Недаром русский поэт так прекрасно говорил о Данте и Расине — он принадлежал к той же расе великих европейцев.
Появление Пушкина прервало мое созерцание.
— Сегодня в «Journal de Saint-Petersbourg», — сказал он мне, — крупная политическая новость: новое покушение на короля французов.
В посольстве мы уже несколько дней имели подробные депеши о событии. Нессельроде немедленно же переслал Баранту первые телеграфические известия. Я поделился с поэтом сведениями о некоторых подробностях покушения. Некий Луи Алибо, имя которого стало вскоре знаменем республиканцев, стрелял из особого складного ружья в карету короля, промахнулся и был на месте задержан. Палата пэров, превращенная в верховный трибунал, в течение одного дня закончила следствие и вынесла террористу смертный приговор. На другое утро Алибо был гильотинирован на площади Св. Иакова, согласно старинному ритуалу казни отцеубийц.
Новое покушение мгновенно взбудоражило Париж и вызвало оживленные толки во всех европейских столицах. Снова заговорили о «прогнившей Франции», о разложении власти, о наказанном узурпаторе. Шансы легитимистов стали быстро подниматься.
— Впрочем, мы с вами, вероятно, различно расцениваем это событие, — закончил я, — говорят, вы противник Июльской монархии и сочувствуете интересам Генриха V?
— Это говорят у нас о каждом носителе придворного звания, хотя бы он и был облачен им вопреки своему желанию. Здесь крепко укоренилось мнение, что все окружающие императора разделяют его политическую программу.
— Но ведь оппозиция трону была бы у вас опаснейшим безрассудством?
— Мое мнение на эту тему, дорогой виконт, вы узна-
179
ете, когда сбудется моя давнишняя мечта и я попаду в чужие края. Быть может, мне удастся тогда опубликовать мои размышления о России и русских. Вы узнаете тогда, что отсутствие общественного мнения в моей стране, равнодушие к справедливости и правде, презрение к мысли и человеческому достоинству доводят меня подчас до отчаяния.
— Когда же я прочту эту статью?
— Не растравляйте моей самой глубокой раны. Если бы вы знали, как я тоскую по Парижу, Риму и Лондону!.. С детских лет путешествия были моей любимой мечтой — граница имела для меня что-то таинственное. Всем существом своим стремлюсь я посетить Камеры народных представителей, клубы, митинги, театры... Все наши путешественники посещают ваших знаменитых людей — великих ораторов, писателей, ученых. И только мне пока не дано собирать материалы для книги «Путешествие в Европу»...
Взгляд его омрачился глубокой болью.
— Кого из наших писателей вы хотели бы навестить?
— Из молодых Сент-Бева, Мериме. Быть может, старика Шатобриана. Я когда-то увлекался им.
Узнав, что Проспер Мериме мой друг, Пушкин стал живо расспрашивать меня об этом «остром и оригинальном писателе». Он рассказал мне, с каким увлечением прочел его сборник иллирийских баллад и как стал даже жертвою тончайшей литературной мистификации, переведя на русский язык сочиненные автором «Клары Газуль» славянские песни. Его несколько утешало, что в ту же западню попался и Мицкевич. «Вы видите, что я дал обмануть себя в очень хорошем обществе», — прибавил он.
Мы довольно долго беседовали с ним о нашей словесности. Весь пронизанный токами французской культуры, Пушкин, видимо, был пресыщен ею и с чувством некоторого утомления говорил о нашей новейшей поэзии. Его интересовали в ней отдельные явления; но он не скрывал от меня своего мнения об общем упадке романтической Франции сравнительно с великой эпохой трагедии. Его влекло теперь к более суровым и мощным течениям творчества — Англия и отчасти Германия пленяли его мысль. Шекспировская драма и философская лирика Гете выступали перед ним как высшая ступень творчества, рядом с которой легкие жанры парижского восем-
180
надцатого века и даже опыты романтиков в одах, балладах и драмах представлялись ему малозначительными. Испробовав в молодости мимолетные формы наших придворных поэтов, он стремился теперь к строгому стилю элегии, драматической повести, исторического романа. «Прекрасное должно быть величаво», — цитировал он мне как-то свой стих. — Есть особая прелесть важной простоты, которую я выше всего ценю в искусстве».
Беседу нашу прервало появление трех сестер, возвращавшихся с прогулки в сопровождении моего кузена. С кудрявыми букетами полевых цветов, осененные большими соломенными шляпами с широкими светлыми лентами, оживленные движением и воздухом, слегка покрытые налетом загара, в белых платьях, под маленькими сквозными зонтами, они словно противопоставляли отвлеченностям нашей беседы свою непосредственную женскую влюбленность в жизнь и звенящую радость существования.
— А, добро пожаловать, самый модный из петербургских мужчин, — шутливо приветствовал поэт входящего гостя.
В то время в России распространились наши салонные обозначения: модный мужчина, модная женщина. Вырабатывалось и само понятие, обозначаемое этим эпитетом. Молодые красавцы стремились быть обворожительными и опасными, беспечными, но облеченными громкой великосветской славой. Они ставили себе за правило появляться во всех известных гостиных, показываться в балете и опере, руководить танцами на первых балах, весело заигрывать с начальниками, покорять всех знаменитых красавиц, а главное, безгранично верить в себя и нравиться всем во что бы то ни стало. Такова была программа и практика д'Антеса. В сезон 1836 года он, несомненно, считался самым модным мужчиной петербургского света.
Обменявшись с нами приветствиями, новоприбывшие расположились перед дачным домиком. Александрина, беседуя с нами, распускала принесенные связки полевых растений, подрезала их стебли и расставляла тонкими пучками по вазам. Жорж и Катрин, продолжая, видимо, начатую раньше беседу, сели в стороне. Кузен мой превосходно выполнял роль влюбленного кавалера. Он занимал свою собеседницу забавными историями и увлекательно хохотал, сопровождая свои россказни нежными взглядами. В смеющихся глазах его смуглой слушатель-
181
ницы вспыхивал временами тревожный блеск сдержанных вожделений.
— Мой друг Трубецкой влюблен сразу в обеих Тальони — мать и дочь, — донесся до меня веселый говор д'Антеса.
— Мне кажется, что при страстной любви это невозможно, — возразила Катрин Гончарова.
Эта худощавая девушка, запоздавшая стать женщиной, казалось, исходила тихим пламенем.
— Я докажу вам, что это бывает, — с многозначительным взглядом настаивал д'Антес, — хотите?
Он продолжал заливаться своим резвым смехом. С рассеянной улыбкой Наталья Николаевна направилась к балкону.
Детвора выбежала и окружила мать. Кормилица вынесла в атласе и кружевах розового младенца. Наталья Николаевна ласковыми и осторожными движениями, как бы прикасаясь к хрупким и драгоценным предметам, приблизила к себе детей и нежными, заботливыми и словно окрыленными руками тихо гладила их шелковистые головки и румяные вздутые щечки. Она наклонилась к ним и почти присела к земле, чтобы видеть их взгляды, слышать их лепет, серьезно-шутливо отвечать им непонятным воркованием и по очереди прикасаться губами к выпуклым беленьким лбам. Она опустилась затем на скамью и, прижав к своей высокой пышной груди розовый сверток, стала медленно покачивать его, радостно всматриваясь в гримаски сморщенного личика. Баюкая ребенка, она, казалось, отплывала от нас в какой-то особый мир, недоступный для всех окружающих, где ее охватывала блаженная дремота высшего, ничем не омрачаемого счастья.
В это мгновенье, в своем простом летнем платьице, в домашней прическе, небрежно рассыпавшей кудри по ее плечам, с открытыми загорелыми руками, без украшений и драгоценностей, она вызывала во мне новое восхищение своим точеным обликом. Натали Пушкина была в своей подлинной стихии, она, казалось, достигла высшего проявления своего существа. Сколько ни приходилось мне впоследствии снова видеть эту первую красавицу Зимнего дворца, сумевшую заворожить своим холодом все мужские сердца Петербурга, от робкого камер-пажа до грозного императора, — она запомнилась мне навсегда в этом простом и тихом обличьи счастливого материнства. В пестром архиве моих петербургских воспоми-
182
наний, в моей живой и разноликой коллекции северных портретов, украшенной столькими знаменитыми профилями государственных деятелей, воителей и законодателей, я до сих пор неизгладимо храню чистые контуры этого бесстрастного женского образа, так неожиданно озаренного предо мной в этот летний вечер лучами заботливой ласки и сердечной нежности.
III
Весною петербургская гвардия была взволнована попыткой военного бунта. Вспышка оказалась единичной и была быстро подавлена. Но гвардейские офицеры были встревожены и готовились к большему политическому взрыву.
— Император узнает, что такое вандейский шуан, — восклицал д'Антес. — Я боролся за Бурбонов, я буду сражаться за Романовых. Выше, выше знамя легитимизма!..
— Помни, что ты в чужой стране и что было бы безрассудно жертвовать жизнью для иностранной династии, — усмирял его воинственность осторожный Геккерн.
— Ты забываешь, отец, — горячо возражал посланнику д'Антес, — что революция, как и война, — самый верный путь к возвышению и почестям. Откуда вышли все эти Бенкендорфы, Орловы и Чернышевы? Из последнего гвардейского возмущения. Пусть только вспыхнет мятеж в петербургском гарнизоне, — на другой же день я флигель-адъютант его величества...
Но революционная опасность оказалась преувеличенной. Вот что сообщал Барант в официальной депеше своему министру:
«...Во время учения офицер полка гвардейских гренадеров, недовольный маневрированием своего батальона, приказал ему войти в казарму. Один взвод не послушался команды и остался на месте. Вторичный приказ не внушил большего послушания: выступил вперед унтер-офицер и от лица всех изложил жалобу против своего начальства, заявив, что взвод не двинется, если им не пообещают справедливого удовлетворения их претензии. Одну минуту казалось, что весь батальон склонен принять участие в этом мятежном упорстве. Тем не менее полковник приказал схватить зачинщика и всех упор-
183
ствующих; унтер-офицера приговорили к шести тысячам ударов палками, т. е. к смерти. Я получил от военного министра разрешение присутствовать при обряде наказания»...
Бунт в гвардии, военное возмущение, дворцовый переворот! В Петербурге эти слова имели мрачный и грозный смысл. Со дня смерти Петра гвардия вершила судьбами русского трона. Она возводила на престол или сбрасывала с его ступеней всех этих Анн и Екатерин, императоров-мальчиков и императоров-младенцев, голштинских племянников и ангальт-цербстских невесток. Гвардейская казарма заменяла партию, Камеры, политические клубы, народное собрание, государственный совет, подчас даже самый закон о престолонаследии. Офицеры — измайловцы, семеновцы и преображенцы — между пирушками и разводом составляли заговоры и распоряжались короной. Отец и дед Николая I были присуждены к смерти этой негласной политической организацией, собственноручно выполнявшей свои приговоры. Сам Николай едва не погиб от ее руки, когда за десять лет до нашего приезда военный заговор с распущенными знаменами вышел на Сенатскую площадь и царские телохранители — полки лейб-гвардии — выстроились мятежным каре против Зимнего дворца.
Было от чего содрогаться при первой вести о брожении в гвардии и торопливо принимать крайние меры к подавлению бунта. Горсть непокорных людей поднимала в напуганном сознании власти кровавые преданья целого столетия. Призрак восстания на Сенатской площади повис в воздухе и томил царя. Вот почему одиночное выступление гренадерского взвода было растоптано зверской расправой.
Получив разрешение военного министра присутствовать при экзекуции, мы поднялись ночью. К моменту утренней зари мы уже находились на одной из отдаленных казарменных площадей.
Это был военный плац, предназначенный для экзекуций.
В бледном свете холодного и ветреного утра перед нами выстраивался карательный батальон, одетый в суровую караульную форму, без знамен и музыкантов. Одна только команда барабанщиков сопровождала воинскую часть.
В стороне под усиленным пешим и конным конвоем уныло серела группа осужденных. Несколько генералов,
184
кутаясь в плащи и придерживая треуголки, треплемые порывами ветра, готовились к наблюдению за правильностью предстоящей медленной и сложной казни. Толпа, оттесняемая военными всадниками, молчаливо и угрюмо окружала плац.
Ввиду государственной важности преступления к шести часам прибыл в коляске сам военный министр.
Нахмуренный и грозный, с каской на бровях, обошел он фронт, еле бросив положенное приветствие, спешно и с неудовольствием отвечал на воинские почести, небрежно взмахивая своей крупной рукой в плотной кремовой перчатке. Убедившись, что все готово к экзекуции, он дал знак к началу.
Немедленно же полковой командир скомандовал:
— Слушай на краул!
Батальон взметнул перед собой ружья.
Конвойный унтер-офицер в сопровождении трех солдат вывел к свободному флангу шеренг первого осужденного. Белокурый молодой мужчина с выдающимися скулами и короткими усами озирался затравленным зверем. Светлые глаза его были дико расширены испугом. Оголенный до пояса, он дрожал, как в ознобе, от утреннего ли холода и ветра, от предстоящей ли смертной муки...
Это и был главный осужденный — унтер-офицер мятежного взвода, осмелившийся потребовать справедливости у своего военного начальства.
Оно ответило ему кратким приговором:
— Шесть раз через тысячу человек. Это было окончательно, как гильотина.
И вот, открывая мрачный обряд, аудитор выступил вперед и громогласно на всю площадь прочел сентенцию военного суда.
Доносились бесстрастные формулы приговора:
— ...Прогнать сквозь строй в тысячу человек два раза... три раза... шесть раз...
Снова раздалась команда полковника:
— На плечо! Тесаки в ножны, третья шеренга через ряд направо вперед! Ряды вздвой, марш!..
Третья шеренга особой эволюцией вступила попарно в разомкнутый строй первых двух. Образовалась длинная улица из двух тесно сомкнутых человеческих рядов по пятьсот человек в каждом.
Новая команда разорвала воздух:
185
— Смирна-а-а, ружья в левую руку! Унтер-офицеры и барабанщики по своим местам!
Против человеческой шпалеры, как бы замыкая ее поперечной стеной и образуя тупик, выстроились унтер-офицеры и барабанщики.
Внутри шеренг прошли профосы, раздавая рядовым огромные гладкие прутья.
Это и были шпицрутены — слово, от которого стыла кровь у нижних чинов русской армии. Этим составным немецким термином обозначались ровные палки почти в сажень длиною, крепкие и толстые, но при своем размере и свежести сохраняющие большую гибкость.
Это усиливало при падении действие удара.
Некогда датский посланник при дворе Петра Юст Юль писал, что русский кнут до того тверд и остер, что им можно рубить, как мечом. Что же сказать о шпицрутенах императора Николая?
Орудье казни было готово. Каждый строевой с ружьем у левой ноги держал в правой руке наготове свой смертоносный прут.
Отдан был приказ барабанщикам.
Гулко прокатилась по плацу напряженно-мелкая дробь двенадцати барабанов.
Конвойный протянул приговоренному длинный обнаженный тесак и с помощью солдат связал ему руки у самой чашки эфеса.
Барабаны неумолимо, отрывисто и нервно ударили бой к экзекуции.
Конвойный фельдфебель медленно двинулся по человеческой просеке, ведя за тесак покорно согбенного полуголого человека. Острие обнаженного оружья мешало ему произвольно ускорять движение, чтоб ослабить или избежать удар.
Прутья взлетали и с резким свистом ложились с двух сторон на обнаженную спину.
Я не отрывал от нее глаз. Первые удары оставили крестообразные розовые полосы. Еще несколько шагов, и весь верх спины покрылся широкими рубцами и вздулся горбом; еще два-три шага — и кровь хлынула из всех пор воспаленной кожи, так что последующие удары уже сыпались на совершенно открытое, растравленное мясо, превращая его в сплошное кровавое месиво.
Прутья неутомимо свистели, взлетали, падали с мокрым лязгом на спину истязуемого и в темных брызгах опускались к ногам шеренги.
186
Вначале до нас доносились мучительно-жалобные стоны наказываемого, молившего о пощаде. Потом они смолкли. Мы только слышали свист от взмахов и ужасные скользкие всплески от падения гладких тяжелых дубинок на вспухшее и мокрое тело.
Казалось, огромное орудие пытки действовало на наших глазах с бездушием и точностью часового механизма.
А верховные палачи в полной генеральской форме, играя на ветре плюмажами своих черных треуголок, как опытные механики следили за правильным и точным действием своего многорукого аппарата. Конвойный с осужденным дошли до конца улицы, повернули обратно и снова двинулись в первоначальном направлении. Прогулка обещала быть бесконечной.
Полуголый человек тяжелыми шатающимися шагами еле волочился, крепко привязанный к тесаку. Из фронта каждый раз выступал на шаг очередной солдат, взмахивая своим саженным посохом, и тяжело опускал его на багровую спину. За силой каждого удара строго следили присутствующие офицеры. Распорядитель экзекуции не переставал, надрываясь и явно усердствуя перед высшим начальством, кричать батальону:
— Крепче бить... Не давать пощады... Милосердствующих тесаком.
И гигантская машина умерщвления, под грозные окрики полковника, работала без перебоя равномерными взмахами и тяжеловесными ударами.
Порывы резкого ветра, проносясь по плацу, поднимали вихри пыли, засыпая едким прахом иссеченную спину.
Осужденного уже четыре раза проволокли по шереножной улице. Он уже не ступал, а еле плелся, спотыкаясь, шатаясь и падая. Искаженное лицо обескровилось, волосы липли к вискам, взгляд блуждал. Лоскутья изрубленного мяса свисали клочьями с его плеч и ребер. Когда конвойный повернулся для пятого тура, по толпе пронесся подавленный ропот. Глухо раздались недовольные возгласы, сердитые вопросы, жалостливые всхлипывания женщин. Кто-то с глубоким причитанием оплакивал погибающего.
Тогда-то бритый военный, в очках, сопровождаемый нижним чином, с небольшой походной сумкой под мышкой, подошел к командиру.
То был полковой лекарь с фельдшером.
187
По правилу, командующий экзекуцией, приняв доклад военного врача о том, что «наказываемый не в состоянии вынести далее наказания», обязан приостановить экзекуцию.
— Но ведь он еще держится на ногах, — сурово заметил на доклад лекаря полковник.
— Он продержится не более минуты, — уверенно определил тот.
Командующий экзекуцией не взял на себя послабления приговора: при казни присутствовал сам военный министр.
Командир подошел к Чернышеву и, прикоснувшись рукой к треуголке, сообщил ему о докладе лекаря.
Узкие глазки министра бросили свысока взгляд на прямолинейную улицу меж двух фаланг, по которой с последними усилиями волочился пришитый к тесаку голый человек, оставляя за собой кровавый след.
 Каменное лицо министра не шелохнулось. И, еле
шевельнув тугими шнурами аксельбантов, он слегка махнул своей кремовой
перчаткой:
Каменное лицо министра не шелохнулось. И, еле
шевельнув тугими шнурами аксельбантов, он слегка махнул своей кремовой
перчаткой:
— Продолжать!
Полковой врач дает истязуемому спирт для продолжения экзекуции. Снова свист и взмахи. Бессильные,
188
расшатанные ноги, обнаженное мясо, спекшаяся кровь и темный след по песку улицы.
Еще несколько шагов, и истязуемый падает.
— На телегу!— деревянным голосом командует министр.
Истерзанное тело кладут на легкую повозку. Лишенная покровов спина зияет сплошной язвой. Два солдата взявшись за оглобли, медленно провозят телегу меж карательных шеренг под новые удары неумолимых шпицрутенов. В толпе слышатся рыданья, окрики испуганного недоумения, пронзительные и жалобные причитания. Предсмертный ужас веет над военным плацем. Тело истязуемого слабо вздрагивает, еще две-три бессильных судороги, и оно застывает недвижно.
— Следующих! — раздается бесстрастная команда Чернышева.
Труп вывозят из рядов и бросают в сторону. Он пролежит здесь целые сутки на страх всем недовольным.
Громко и повелительно полковник прочитывает по списку имена очередных приговоренных.
Конвойный унтер-офицер приводит партию обреченных, которым предстояло совместно длинной вереницей пройти сквозь строй.
Казнь длилась весь день. К вечеру нам поднесли на подпись особые экзекуционные листы с описанием результатов дня. Мы узнали из них, что четверо присужденных к шести тысячам ударов скончались до выполнения приговора. Остальные, выдержав меньшее количество шпицрутенов, отправлялись полуживыми в Сибирь.
— Имейте в виду, что шпицрутены — почетное наказание, — объяснял Баранту Чернышев, увозя его в своей коляске с военного плаца. — Это не кнут, исключающий возможность оставаться в рядах армии...
Министр ласково погладил палевой замшей свои шелковые усы.
— Заметьте, барон, — продолжал он, как бы отвечая на удивление посланника, — заметьте, что наказание выполняется не рукою палача, а товарищами осужденного. Он не обесчещен и может продолжать свою службу царю.
— О, все же не всегда, ваше сиятельство, — коротко возразил военному министру Барант.
189
* * *
Когда в 1827 году управляющий Новороссийскими губерниями подал рапорт царю о тайном переходе двух евреев через Прут, предлагая установить за карантинные преступления смертную казнь, Николай написал на рапорте следующую резолюцию:
«Слава богу, смертной казни у нас не бывало и не мне ее вводить. Виновных прогнать сквозь тысячу человек двенадцать раз».
IV
ИЗ ЛЕТНЕГО ДНЕВНИКА 1836 ГОДА
Сегодня я застал Пушкина за чтением. Он сидел у стола на балконе в просторном домашнем костюме, с широко открытым воротничком сорочки, еле схваченным свободным узлом синего шарфа.
Вольный наряд поэта шел ему лучше мундира и фрака. Неправильность черт, небольшой рост и восточный отпечаток на его лице требовали свободной одежды, больших складок, легких тканей. Пушкину шли откидные воротнички, небрежно повязанные галстуки, плащи и мягкие черные шляпы, принимающие любые формы. Цилиндр, треуголка и шитый золотом тугой воротник резко контрастировали с его непокорными кудрями и необычным обликом белого негра.
Перед поэтом на столе лежали в синих обложках томы какого-то французского издания.
— Это Монтень, — сообщил он мне. — В последние годы я постоянно возвращаюсь к нему. Когда жизнь впервые вызывает в нас чувство глубокой усталости, нет ничего целебнее Монтеня. С ним еще можно пройти некоторое расстояние...
Я раскрыл одну из синих книжек. Это было последнее издание «Опытов».
— Я давно учусь у него, — отвечал я Пушкину, — задолго до первой жизненной усталости я, как видите, обратился к нему...
— Но всю целебную силу его заветов вы почувствуете позже. Только в пору, когда жизнь начинает еле заметно убывать в нас, когда молодость уходит, когда задор и отвага свертываются и тонкий ужас медленного умирания незримо сопутствует всем нашим думам, — вот когда эти записи уединившегося мудреца,
190
все познавшего, во всем разочаровавшегося и снисходительного к человеческим слабостям, освежают вас, как горный ключ в душный полдень.
Пушкин произносил эти слова медленным голосом с еле заметным налетом усталости. Не в первый раз я уловил в беседе с ним то легкое ощущение утомления, которое сообщает обычно глубокую и невозмутимую тишину нашему внутреннему строю.
— Я люблю этого писателя, — продолжал он. — Дух французского Возрождения нисходит на меня с его страниц. Я люблю его образ, его историю, его книги. Мне близки его живость и подвижность, его страстность и энергия. Как хороша его молодость, полная пороков и блеска, гордости и поклонения прекрасному... И затем — эти притязания на подвиги и славу! Он хотел участвовать в политических актах, в государственных советах, в походах и осадах. Он любил войну и подвиги великих капитанов...
— Кажется, всем этим Монтень близок вашим вкусам? — вырвалось у меня.
— Что может быть лучше жизни, полной движения и воли? Я всегда любил завоевателей, я хотел когда-то писать историю Суворова или Ермолова... Но не этим близок мне теперь Монтень: мне дороже всего его позднее отвращение к рабству придворной жизни, королевским милостям и столичной суете.
— Но из этого заколдованного круга, кажется, труднее всего найти выход?
— Вы помните, как поступил Монтень, приближаясь к своему сороковому году? Он оставил людей, службу, общественные обязанности и уединился в своем далеком замке, чтоб среди любимых книг, в общении с музами, обрести полное душевное спокойствие. Я иногда мечтаю о том же. Мне хотелось бы где-нибудь в глуши, за сотни верст от столиц, на холме среди озер и пашен, над сонными потоками медленной реки поставить свои книги и уйти в мирный труд...
— И некогда смерть ласково придет в уединенный приют смежить утомленные веки?
— О нет! Я помню завет Монтеня: не император только, но каждый мужественный борец должен умереть стоя.
— Это не относится к писателям, дорогой Пушкин, и сам Монтень, как вы знаете, опочил на дедовской постели.
191
— Кто может предсказать нам нашу смерть? Кто знает, когда и где пробьет наш последний час? Быть может, через полстолетия, быть может, завтра...
— Однако Монтень настраивает вас на мрачный лад. Вы полны сил, вы творите, — к чему эти похоронные мысли?..
— Вы ведь помните, дорогой д'Аршиак: философствовать — это учиться умирать.
V
Беглая запись дневника восполняется живыми преданиями памяти.
На расстоянии десятилетия мне слышится ровный, медлительный голос поэта, полный мудрой безнадежности. Глубокое спокойствие озаряло в то время его беседы. Холод разочарования придавал его словам особую осеннюю ясность и твердую отчетливость. Он чувствовал и говорил иногда, что потерял главную привлекательность в глазах публики — молодость и новизу литературного имени. Он отмечал это без горечи и раздражения, как неизбежный закон каждой литературной судьбы. Труд непризнанный, но безустанный, углубленный и одинокий — вот ответ художника на торопливые хулы читателей и задорные насмешки журналистов. Отрицанием они вознаграждают себя за недавние поклонения.
В одну из таких бесед он прочел мне свой сонет, призывающий поэта к неуклонному выполнению его одинокого подвига вопреки легкомысленным суждениям толпы.
Последний год в жизни Пушкина был полон больших, драматических, тяжелых, но отчасти и радостных событий. Смерть матери, рождение дочери, работа над историческим романом, создание европейского журнала в России — все это, казалось, сообщало его существованию особый углубленный тон. Мне передавали, что в прежние годы Пушкин отличался необыкновенной подвижностью, быстротою жестов и походки, беспрерывной сменой душевных расположений, заразительным хохотом, живой веселостью и даже подчас рискованной обнаженностью разговора. Мне не пришлось наблюдать его таким. Накопленные годы, очевидно, успели сообщить общему темпу его жизнеощущений некоторую замедленность, быть может увеличив груз его житейской озабо-
192
ченности, но зато и прояснив до высшей прозрачности его внутренний взгляд на жизнь и мир. Бремя творческих забот и некоторая усталость от прожитых годов, вероятно, вызывали эту медлительную отяжеленность его жизненной поступи. Он, видимо, стал вдумчивее и тише в своих отношениях с людьми. Только потрясения последних месяцев резко нарушили равновесие его душевных сил.
Лето 1836 года было, как мне кажется, тем моментом в его бурной и переменчивой судьбе, когда он стал впервые обретать зрелое душевное спокойствие. Он знал, к чему стремится, и казался примиренным с будущим. Утомленность от пройденного пути настоятельно требовала уединения и покоя. В приближении к своему сороковому году он ощутил всем своим существом потребность отойти от мелькающей суеты человеческих сближений и разрывов, чтобы сосредоточиться на едином и главном — на своем творческом труде. Он говорил мне не раз, что единственное счастье на земле — тишина и свобода. Ничего иного он уже не ждал и не хотел от жизни, в длительность которой он почему-то не верил. Смерть, казалось ему, может прийти неожиданно и быстро. Он не жалел об этом и не боялся оставить «пустыню мира». Он только стремился заполнить оставшийся обрывок своего существования душевной тишиной и внутренней свободой.
Но в этом даре покоя и воли для полного развития своих созревших творческих сил ему было отказано. Глубокий трагизм его судьбы сказался в том, что в самую напряженную минуту его краткой жизни, когда он так томительно затосковал по одиночеству и миру, его имя безжалостно поволокли по уличной грязи, а незримые враги поэта сгрудили вокруг его домашнего очага такие скопления клеветы и ненависти, под тяжестью которых он свалился замертво.
VI
Одним из покровителей д'Антеса в Петербурге был известный парижский рисовальщик Огюст Рикар, ставший в России «императорским архитектором» Монферраном. Его ценили за смелые планы и мощные строительные работы. Он воздвиг перед Зимним дворцом огромный монолит, обточенный в монументальную колон-
193
ну, он поднял в Москве сорвавшийся некогда с высоты гигантский колокол, он строил над Невою новый собор из самых редких минеральных пород, превосходящий размерами римского Петра и лондонского Павла. Монферран согласился показать свое сооружение членам французского посольства.
Архитектурные работы в северной столице входили в круг наших интересов. В те годы Петербург как бы перестраивался, стремясь привить к дворцовому типу старой резиденции завоевания новейших европейских открытий. Военные планы и непомерное честолюбие императора Николая заставляли его вступить на этот путь технических и строительных нововведений. Русский абсолютизм бессознательно и медленно подчинялся призыву Сен-Симона к победе человека над природой, к развитию техники, к росту индустрии. Грандиозные предначертания великого учителя Жюля Дюверье об улучшении человеческой жизни прорытьем каналов и туннелей, постройкой мостов и дорог стояли на очереди эпохи и осуществлялись самой историей. Даже царское правительство было вынуждено принять эти требования времени.
Столица отстраивалась. Первые железные дороги прокладывались между Петербургом и его окрестностями. В Кронштадте выгружались английские локомотивы, впервые приведенные в движение накануне моего отъезда из России. Лондонское общество освещения переносным и несжатым газом строило свой центральный завод для перевода столицы с устарелых плошек и карселевых ламп на новейший европейский способ освещения. Здание министерств уже освещалось газом. На Пулковской возвышенности воздвигалась обсерватория. В помещении Главного штаба родственник Бенкендорфа Шиллинг фон Канштадт производил первые опыты передачи депеш путем электромагнитного телеграфа. И для завершения строительной пышности столицы над Невою с лихорадочной быстротой воздвигались громоздкие и грузные громады чудовищного собора в честь никому не ведомого Исаакия Далматского.
— Санкт-Петербург — отдаленная копия Амстердама, — разъяснял нам по пути строитель этой новой Вавилонской башни. — Петр I, попав из азиатских пагод московского Кремля в низменную равнину Голландии, бредил всю жизнь каналами, верфями и золотыми иглами нидерландских городов. Так какой-нибудь странствующий студиозус, поучившийся в чужих краях, всю
194
жизнь мечтает о заморском университетском городе своей молодости. Но на этот раз студент оказался самодержавным деспотом. И он решил воздвигнуть в снегах и болотах своей угрюмой родины новую искусственную Голландию.
Мы подъехали к огромной пустынной площади. Большой участок ее был отгорожен заборами и покрыт высокими лесами. Двенадцать ярусов дощатых сооружений обшивали со всех сторон гранитную основу воздвигаемого здания. Целый городок кипел и грохотал за оградой гигантской постройки. Под суровые окрики надсмотрщиков тысячи рабочих звенели молотками, обтачивали плиты, замешивали густую цементную массу, волокли камни и, с помощью рычагов и цепей, поднимали на головокружительную высоту гранитные монолиты и мраморные глыбы весом в десятки тысяч пудов. Из-под громоздких деревянных обшивок уже обрисовывались отполированные розовые столпы с бронзовыми капителями коринфского ордена.
— Какой чудесный материал! — говорил нам между тем Монферран, — мы добываем эти отломы на островках Финского залива. Этот камень несравненен по твердости, окраске и способности принять зеркальную полировку. В состав его входит темный кварц, красноватый полевой шпат и черная слюда. Взгляните на игру этих окаменевших зерен...
Пока мои спутники изучали образцы редких минеральных пород, я всматривался в группы людей, копошившихся у огромных обломков. Невероятный труд, казалось, преображал этих строителей, превращая их в живые рычаги многорукой и единой человеческой машины. Их мускулы напрягались, их жилы вздувались и наливались кровью, их ноги, казалось, прочно врастали в землю под гнетущим бременем вздымаемых глыб. Я внимательно всматривался в лица и торсы этих каменщиков, гранильщиков, плотников, землекопов, кузнецов и чернорабочих. В то время уже прочно установилось мнение, что дипломат должен всячески расширять круг своих наблюдений, не замыкаясь в знатном обществе дворцов и столичных гостиных. Стало очевидным, что наблюдения необходимо направлять в народную толщу и материал для депеш собирать на улице, в кабачках, среди мастеровых, на ярмарках, перед балаганами. Я не раз погружался в эту пеструю толпу, стремясь разглядеть в ней исконные черты славянского племени, совершенно стер-
195
тые в привычных обликах великосветского Петербурга под парижскими прическами и парадными мундирами.
Но когда из дворцов, кабинетов и канцелярий попадаешь на улицу, на окраины, в гущу праздничных площадей, начинаешь воспринимать черты русской истории и подлинный облик самого народа. Извозчики, ремесленники, дворники, носильщики, городской люд воскресных зрелищ, уличные продавцы и нищие до сих пор сохраняют во всей первобытности неизгладимые черты Древней Руси. Я любил вглядываться в этих людей и представлять себе по их обликам, жестам, костюмам и говору полудикие племена, описанные Корбом. Армяки и женские шали, бороды и тулупы, короткие рубахи и длинные голенища, ясные взгляды и лукавые усмешки — все это переносило меня в Россию тринадцатого или пятнадцатого века. На фоне снежных сугробов, под обнаженными деревьями и низко нависшим свинцовым небом, рядом с каким-нибудь уличным продавцом, закутанным в косматую шкуру и словно запрятавшим лицо в густую рыжую поросль, я живо представлял себе Новгород, Суздаль, уделы и сам себе казался тогда гостем или заморским послом, прибывшим в золоченой колымаге ко двору Ивана III.
Такое же раздумье овладело мной на кипящей площади огромной постройки. Древний лик народа, казалось, полнее всего раскрывался предо мною в молчаливых артелях каменотесов, воздвигавших над гранитами Невы гигантское сооружение Монферрана.
Мы поднялись на верхнюю площадку огромного куба, служащего основанием храму.
— Отсюда мы вознесем золотой купол, подобный вершине Дома инвалидов в Париже! — воскликнул наш проводник. — Он будет господствовать над всеми башнями и колокольнями города...
Мы взглянули вниз. Петербург с высоты необыкновенно красив. Он теряет при таком осмотре свою мрачность и однообразие. Тысячи светло-зеленых или пепельно-серых крыш раскидываются живописным узором, устремляя ввысь золотые иглы башен, сверкающие на солнце, как обнаженные шпаги. Бесчисленные каналы и речки омывают островки огромного города, прорезанного широкой водной дорогой Невы.
Мы увидели с высоты, что от пристани к постройке через всю Адмиралтейскую площадь протянуты тонкие стальные брусья особой дороги.
196
— Это для подвоза финляндского гранита, — сообщил нам архитектор. — Работы по постройке чугунного пути как раз заканчиваются, я могу вас познакомить с самим строителем — знаменитым венским инженером Герстнером.
Мы снова очутились на площади у самого основания бесчисленных стропил, сплетающих сложный дощатый узор строительных лесов.
Из-за остроконечных конусов щебня и гравия, из-за высоких штабелей досок и бревен к нам вышел коренастый человек, с крепким бритым лицом, решительными жестами и весело искрящимися глазами.
Он широко и радостно протянул нам руку.
То был профессор практической геометрии Венского политехникума, чех по происхождению, кавалер Мальтийского ордена, воспитанник английских изобретателей, строитель и концессионер первой железной дороги на европейском материке — инженер, утопист и фантаст Франц Антоний фон Герстнер.
Этот неутомимый пролагатель новых сообщений, свободно говоривший о мгновенных переездах в двадцатом столетии, когда пар, электричество и воздушные шары с моторами и рулями отменят пространство и время, любил, чтоб его величали, по обычаям восемнадцатого века, кавалером, искал придворных связей и гордился своим мальтийским отличием. Многие считали его шарлатаном и уверяли, что новый международный авантюрист, типа Сен-Жермена и Калиостро, морочит министров и монархов. Чугунные дороги — это тот же философский камень, но только переложенный на вкусы и нравы девятнадцатого века. Герстнер с улыбкой выслушивал эти толки и продолжал соединять города и страны крепкими металлическими нитями. Он мечтал заковать всю нашу планету в тонкую и несокрушимую сеть стальных полос.
С живейшим интересом к последним завоеваниям науки мы осмотрели его работы.
Он показал нам узкий рельсовый путь, воспроизводящий в малом виде его чугунные дороги.
— Прощайте, мальпосты и дилижансы! — восклицал он, ведя нас вдоль своей сверкающей колеи. — Стальные рельсы скоро свяжут Париж с Версалем, Вену с Триестом и Берлин с Потсдамом. Из Петербурга в Царское Село паровая повозка вас домчит в полчаса. Мы протянем железные пути от Невы в Москву, Нижний, Варшаву и Таганрог. Мы соединим Балтику с Каспийским морем.
197
Мы посмеемся над остряками, которые не верят, что два параллельных прута могут преобразовать равнины, долы и горы.
Он со звоном ударил киркой по блестящему рельсу.
— Поверьте, мы убедим Канкрина пожертвовать извозным промыслом и водяным сплавом. Мы заглушим жалкий лепет русских министров о том, что провиденье назначило для России на зиму санную дорогу. Мы покроем все страны железными путями — Урал, Волгу и Вислу мы свяжем с обеими столицами. Из Петербурга магической силой паров вы домчитесь в три дня до Парижа. Рельсы пересекут пустынные пески Азии и Африки. Непобедимые локомотивы прорежут прерии и саванны обеих Америк... Мы победим пространство и время!
Кавалер Герстнер говорил с непреклонной убежденностью. Казалось, он позволял себе прихоть фантазировать и грезить среди стропил, лесов, гранитных плит и стальных полос. Но уже теперь, когда я пишу эти строки, его мечта сбылась. Все европейские столицы связаны железными дорогами. Первые полотна проложены в бескрайних пространствах Нового Света. Петербург вскоре соединится с Москвою чугунным путем.
— Паровой двигатель совершит чудеса, — говорил нам в заключение венский технолог. — Можно ли достаточно оценить гениальное изобретение Стефенсона? Основать на колесах полную машину с печью, котлом, цилиндрами и нагнетательными насосами, одарив ее могучими силами и беспрекословным послушанием, — это ли не самая возвышенная задача практической механики?
И кавалер Герстнер пригласил нас испробовать той же осенью его железный путь.
Наш осмотр был закончен. Монферран проводил нас по переулкам строительного городка к открытой площади. Мы выразили ему на прощанье наше восхищение его грандиозным зодчеством.
— Я продолжаю работу наших соотечественников, воздвигавших колонны и арки этого города, — отвечал он, — я завершаю великий труд Леблона, Деламота, Блонделя и Томона. Не удивительно, что Петербург — самый европейский город. Над ним немало потрудились руки голландцев, немцев, итальянцев, а главное — парижан. Сюда приезжали зодчие французского двора, генерал-архитекторы Людовика XV, знаменитые ваятели, рекомендованные энциклопедистами русской императрице.
198
Один из них воздвиг этот бесподобный памятник, — вон там, перед нами — этого бронзового всадника, взлетевшего на обрыв утеса. Фальконе, говорят, вложил тайную мысль в свой монумент: когда-нибудь императорской России придется низвергнуться в бездну с высоты своей безрассудной скачки. А пока будем крепче строить памятники, дворцы и храмы на этой зыбкой болотной топи.
Широким вольным жестом он указал на свой гигантский куб.
Из-под густой деревянной обшивки зеркально блистали черные колонны, увенчанные золотыми коринфскими капителями. Мимо нас по стремянкам воздушных галерей текли, под окрики подрядчиков и десятских, толпы мускулистых каменщиков, молчаливых и упорных, вздымающих на неслыханную высоту обломки финских скал и, кажется, способных низвергнуть их одним ударом на этот чудовищный город дворцов, штабов и казематов, словно распластавшийся многопалым спрутом по бесчисленным островам Невской дельты.
VII
ИЗ ЛЕТНЕГО ДНЕВНИКА 1836 ГОДА
— Я нашел сегодня в одной книге неожиданные, странные и притягательные мысли,— сказал мне Пушкин.
Он взял со стола томик и протянул его мне. На обложке значилось:
ХУДОЖНИКАМ
О ПРОШЛОМ
И БУДУЩЕМ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ
Учение С е н-С и м о н а
Брюссель
1831
— Мне многое знакомо в этой книге, — улыбнулся я. — Автор ее в родстве со мною. Рост сенсимонизма в Европе — одно из замечательнейших явлений наших дней, и я не перестаю следить за ним...
Пушкин раскрыл томик.
— Я весь день сегодня под впечатлением одной фразы из этой книги...
199
И он быстро отыскал нужную страницу:
— Вот слушайте.
И медленно, словно вчитываясь в каждое произносимое им слово и вдумываясь в его скрытый смысл, он прочел:
— «Дерзайте же быть учителями человечества, скажем мы художникам, и узнайте у Сен-Симона, чему сегодня нужно учить людей».
Он задумался и долго молчал.
— Мне всегда казалось, что художники, выполняя свои великие жреческие задачи, не должны поучать людей. Но за последние годы история заставляла меня не раз задумываться над этим вопросом...
Он опустил желтенький томик на колени и так же медленно продолжал:
— Выше всего ставлю я в человеке качество благоволения ко всем. Как это ни странно, оно почти недостижимо в нашем обществе, — но не к этому ли должны теперь призывать поэты?
И, снова раскрыв книгу, он прочел мне:
— «Всюду, где мы ощущаем жизнь, имеются явления, которые одновременно относятся к сознанию и силе. Действием и мыслью обнаруживается перед нами жизнь, и этими же путями мы сами ее проявляем вовне. Но что мы чувствуем к себе, что мы провозглашаем как самый общий факт — это то, что всякое действие, как и всякая мысль, есть следствие желания, симпатии, любви. Есть размышления, которые предшествуют действию; есть вдохновения, предваряющие рассуждения. Но нет ни действия, ни мысли, которые не были бы порождены любовью, понимая под этим словом все, что относится к желанию, к чувству, к воле» 1.
Я открыл желтый томик и стал читать вслед за Пушкиным отрывки, столь напоминавшие мне вдохновенные речи моего парижского друга Жюля Дюверье.
— «Сен-Симон открыл новую эру, в которой доблесть, как и ценность, не будет измеряться более силою удара шпаги или меткостью в нацеливании пушек»...
Мимо нас, под грохот оглушительного «марша Петра I», рысью топотали кавалергарды, возвращаясь с
__________________________
1 Этот отрывок из «Изложения учения Сен-Симона» в экземпляре пушкинской библиотеки отчеркнут карандашом (Exposition de la doctrine de Saint-Simon. Bruxelles, 1831, I, 88).
200
учения в лагери. Сквозь кусты и деревья поблескивали каски, и широкий поток конных воинов медленно и тяжеловесно катил свои живые валы по утоптанной лесной дороге.
— «В будущем, — продолжал я читать, — воинов не будет. Работники и ученые — вот все общество. Все могущество и вся слава тем, кто питает и учит людей. Достаточно, что в течение шести тысяч лет власть и слава принадлежали тем, кто их убивает»...
— Но был ли этот мыслитель способен на борьбу? — прервал мое чтение поэт.

Он всегда боролся словом, не боясь последствий.
И я рассказал Пушкину об известном политическом процессе двадцатых годов. Сейчас же после убийства герцога Беррийского кожевенником Лувелем Сен-Симона обвинили в моральном соучастии, в призыве к цареубийству, в оскорблении величества. Почти накануне террористического акта он опубликовал свою параболу о Бурбонах, в которой доказывал, что внезапное исчезновение короля, наследника и всех членов правящего дома не принесло бы Франции никакого ущерба. На суде поседелый мыслитель мужественно заявил, что он высту,-
201
пил против всей существующей системы политических отношений, призывая своих современников к иному строю.
Я продолжал перелистывать книгу...
— «Любите человечество так, как оно возжелало теперь, чтобы его любили, и эта любовь, согрев ваше сердце, оплодотворит ваш гений».
Поэт оставался погруженным в глубокое раздумье.
— «Дерзайте же быть учителями человечества», — медленно произнес он наконец, — вот чего, может быть, мне не хватало до сих пор...
* * *
...Мне хорошо запомнились эти слова, голос и взгляд поэта. Все говорило в те дни о повороте его жизненной дороги. Он словно остановился на распутьи и в долгом раздумьи выбирал дальнейшее направление. Сквозь последний этап его примирения с властью, казалось, снова поднималась тревожная мятежность его молодых лет, на время лишь окованная ледяным дыханием Зимнего дворца. Потребность уйти от мундирного Петербурга в благоухающую и врачующую мудрость великого сомнения не давала все же сладостного забвения на мягком изголовьи древнего скепсиса. Поэт продолжал господствовать над ироническим созерцателем, взмывая со дна сознания мучительно неукротимые вопросы и снова ощущая великую влюбленность в жизнь и братскую тягу к людям. Он словно по-новому хотел любить человечество, чувствуя, что только такой возврат вскроет застывшие источники его души и оплодотворит его гений. Это было нарождением новой веры, открытием неизвестного направления, вступлением на неведомую дорогу.
Но в этот момент жизненный путь Пушкина начал внезапно и стремительно обрываться.
VIII
Летом мы получили известие, что весь Париж взволнован поединком двух видных политических деятелей и знаменитых публицистов — Армана Карреля, редактора «National», и Эмиля Жирардена, издателя «Presse».
Я хорошо запомнил облик Армана Карреля по июльским дням 1830 года, когда он обращал сокрушительную
202
речь к народу с высоты балкона разгромленной редакции «National». Трагический исход поединка, принадлежность обоих противников к литературной и государственной жизни придали этому событию широкую огласку. Вечером на даче у Пушкиных мне пришлось беседовать об этом происшествии.
Пушкин чрезвычайно интересуется самым фактом литературной и политической дуэли, невозможной в России. Он просил меня рассказать ему подробности этого столкновения.
Я сообщил ему все, что было известно в посольстве. Орган Карреля «National» обвинил Эмиля Жирардена в попытке прибегнуть к сентябрьским законам, направленным против свободы печати, вместо того чтобы действовать своим пером и словом. В своем ответе «Presse» довольно резко назвала Армана Карреля, который счел нужным потребовать удовлетворения.
22 июля в семь часов утра противники встретились в Венсенском лесу. Вооруженные двумя Ле-Пажами, они сражались на сорока шагах расстояния, с правом для каждого пройти десять шагов до барьера. По сигналу только Арман Каррель стал приближаться к черте, выстрелив на ходу и слегка задев ногу своего противника. Эмиль Жирарден немедленно же, не покидая своего места, выстрелил и тяжело ранил Карреля в правый бок. Рана была признана смертельной. На третий день Каррель скончался.
Похороны его явились манифестацией всех лучших представителей литературы и науки. На погребение явились Шатобриан, Беранже, Александр Дюма, Араго. Рабочие, городская беднота и студенчество провожали знаменитого публициста. Общественное мнение было взбудоражено. Хранитель государственной печати внес в палату законопроект о строжайших наказаниях за дуэли. В печати появился ряд статей против отжившего средневекового предрассудка.
— Не говорите так, — прервал меня Пушкин, — бывают случаи, когда поединки неизбежны. Дуэль свидетельствует о мужестве, о бодрости, о весельи духа.
— Но литературную полемику можно разрешить и без кровопролития. Арман Каррель должен был сберечь свою жизнь для своего же дела...
— Арман Каррель поступил честно и смело. Он погиб не как литератор и журналист, а как боец и герой,
203
открыто и прямо глядя в ствол вражеского оружия. Мужественный характер, славная смерть!..
— Я думаю, что вы нашли бы иной исход из положения.
— Вы ошибаетесь. В молодости я слыл бретером. Я выходил к барьеру по всякому поводу. В Лицее я был первым по фехтованию и считался непобедимым на эспадронах. Впоследствии я в совершенстве овладел пистолетом. Стремясь придать твердость и силу мускулам правой руки, я ходил с железной палкой необычайной тяжести. Одно время ружейный ствол с привинченной рукояткой служил мне тростью для прогулок.
— Проказы молодости! — воскликнул я.
— Нисколько, — возразил поэт. — До сих пор я считаю поединок наилучшим разрешением вопросов чести. Могу сказать вам, что еще три месяца тому назад я готовился к дуэли с одним петербургским графом, разговор которого с моей женою мне не понравился...
— Я допускаю в вас вспыльчивость, дорогой Пушкин, но не кровожадность.
— Вы мало знаете меня. Гневность у нас в роду — предки моей матери были горячи. Когда бывали сердиты Ганнибалы, то всех людей у них выносили на простынях — таковы были экзекуции наших дедов.
— Вы, как поэт, должны были преодолеть эти нравы и явить в вашей стране высокий пример человечности.
— Вы считаете, что поэт не может быть убийцей?
— Говорят, Бомарше был отравителем, но я не очень верю этому.
— Почему же? Вспомните Бенвенуто Челлини. Тонкий художник, несравненный мастер чекана, но кровожадный и мстительный. Когда его однажды, в молодости, обидели, он зашипел, как змея, и бросился с кинжалом на целую свору своих вооруженных врагов. И это чувство, сознаюсь, мне понятно. Вы, может быть, и правы, что поэту надлежит обуздывать в себе приступы ненависти. И все же я всегда почитал мщение одной из первых христианских добродетелей.
— Мне кажется, что смерть врага не ослабляет нанесенной обиды, а только усугубляет ее новыми угрызениями.
— Есть оскорбления, которые смываются только кровью. И кто знает: может быть, эта раса ушедших смельчаков, всех этих Буонарроти, Челлини, Макиавелли, вносила в жизнь начало мужества и целительного
204
гнева. Они безжалостно разрушали накоплявшуюся вокруг них вражду, зависть и ненависть, а в творчестве своем достигали великого освобождения и спасительной ясности. Когда вокруг вас скопляются темные силы человеческой низости, вы должны с оружием в руках выходить на бой с ними...
Из белого откидного воротника высоко вздымалась смуглая голова поэта в обрамлении густых, черных кудрей. Такие курчавые бронзовые мужи с крупными губами и орлиными профилями сопровождают обычно вооруженных герцогов на полотнах старых феррарцев.
— Писатель должен владеть оружием и поднимать его в защиту своей чести. Как солдату, ему надлежит умирать стоя. Вот почему, д'Аршиак, я произношу вечную память Арману Каррелю. Он жил в непрестанной борьбе и сумел в самой смерти своей оставить нам высокий урок героического...
IX
В начале июля состоялся в Петергофе придворный вечер. От кавалергардского полка были приглашены танцующие господа обер-офицеры: ротмистры Бетанкур и Полетика, штаб-ротмистры Скарятин и Олсуфьев; среди поручиков на первом месте значилось имя барона Жоржа де Геккерна.
— Я осуществлю на петергофском вечере мой план в большом масштабе, — говорил мне Жорж, — перед лицом всего двора я буду вести мазурку и кадриль в паре с фрейлиной Гончаровой. Это даст мне право на решительный натиск в главном направлении.
На другое утро происходил большой морской парад.
* * *
В своих записках о Москве резидент брауншвейг-люнебургский Вебер сообщает, что царю Ивану Васильевичу Грозному был прислан в подарок из Англии маленький гребной бот. Через добрую сотню лет голландский корабельный подмастерье Карштен Брант, заброшенный судьбою в подмосковный поселок иностранцев, установил на ветхом суденышке мачту и парус для речных потех московского царевича. Историки Петра признали его ранние прогулки по Яузе первопричиной «возведения
205
России на степень морской державы», прославили переход царя от водоплавных утех к морским викториям и возвели утлое изделие английских верфей в сан «дедушки русского флота».
Сам Петр воздавал своей юной потехе своеобразные почести. Он ежегодно проводил церемониальным порядком старинный челн перед Балтийским флотом под оглушительный грохот пушечных салютов и протяжные напевы православных молебнов.
Император Николай, считая себя продолжателем дела Петра, претендует на звание возродителя русского флота. Он решил щегольнуть перед представителями иностранных держав своей эскадрой и устроил смотр своим кораблям в назидание морским державам Запада.
Особый церемониал, разработанный самим царем, определял сложный обряд проведения старинной английской галеры мимо нового русского флота, выстроенного на Кронштадтском рейде.
— Друг мой, это не морской парад, это военная демонстрация, — говорил мне Барант, пока посольская карета мчала нас по Петергофскому шоссе. — Протест Франции и Англии против узурпаторского Ункиар-Скелесского трактата, закрывшего нам Дарданеллы, не перестает тревожить императора Николая. Он прекрасно понимает, что союз морских держав против континентального блока России, Австрии и Пруссии чреват для него великими угрозами и — кто знает? — быть может, гибельными разгромами. Недаром ему мерещится, что Пальмерстон мечтает сжечь Кронштадт. Отсюда его тщеславная и наивная попытка превратить свою страну в великую морскую державу и перещеголять английскую эскадру количеством и боеспособностью своих вымпелов. Excusez du peu, не правда ли? Сегодня он собирается поразить нас мощью своего военного флота, призванного расстроить коварные планы западных кабинетов. Посмотрим же, какие силы готовы отразить соединенную флотилию Франции, Англии, Испании и Португалии...
Аллеями Петергофского парка, мимо гротов и водоемов, под взглядом золотых тритонов и бронзовых гладиаторов, вспоминая на каждом шагу стройные и вычурные сады Ленотра, неторопливо сошли мы по Монпле-зирской террасе к пристани.
Перед нами на взморьи вытянулась целая флотилия, готовая к отплытию.
206
Впереди придворных яхт стоял под кайзер-флагом на грот-мачте царский пироскаф «Ижора». К нему направились шлюпки с министрами, посланниками и высшими чинами двора.
Члены посольских свит, придворные, представители петербургского света были приняты на борт соседнего судна «Александрия». По разукрашенному трапу я поднялся на палубу вместе с советниками и секретарями петербургских миссий. На скамьях и креслах кормовой площадки расположилось под парусиновым тентом обычное общество петербургских дворцов и гостиных: Вяземский, Бетанкур, Полетика с женою, мой друг Жорж де Геккерн (отец его находился на палубе царской «Ижоры»), старуха Загряжская под грудой мантилий и шалей, на этот раз в сопровождении всех трех своих племянниц. Госпожа Пушкина снова застенчиво озаряла своим победоносным ликом придворный круг.
Мне показалось, что лицо ее чуть заметно преобразилось. Оно было так же спокойно и величественно, но стало живее и человечнее. Какое-то еле уловимое выражение сердечного волнения неожиданно согревало ее рассеянный взгляд и бесстрастную улыбку. Мифологическую героиню сменила женщина. Под белой тканью летнего платья ее мраморный торс, казалось, впервые шевелился тревогой и смутным желанием, а чуть тронутое золотистым загаром лицо радостно раскрывалось свежим дуновениям морского ветра и бодрящим утренним лучам северного солнца. На сверкающем и зыбком фоне моря оно казалось еще свежее и ослепительнее, чем под искусственными лучами хрустальных шандалов и бронзовых люстр.
В двенадцатом часу «Ижора» распустила пары и дала сигнал к отплытию. Вслед за передовым кораблем двинулась наша «Александрия», а за ней вся флотилия пироскафов, яхт и катеров, увозящая петербургских зрителей на редкое зрелище морского парада. В сопровождении гребных баркасов, парусников и паровых судов мы плыли на близком расстоянии от «Ижоры» и сквозь подзорные трубы могли отчетливо видеть все происходящее на палубе царского судна.
У самой рубки стоял император Николай. В круглой морской шляпе, без плюмажа и султана, но с козырьком и кокардой, в золотых морских эполетах на черном сюртуке, он изображал сегодня великого мореплавателя. Рядом, с телескопом и картой в руках, стоял морской ми-
207
нистр. В группе, окружавшей их, я узнал плотный корпус Чернышева, седую голову Баранта, сухопарую фигуру Дэрама, змеиный затылок Геккерна. Несколько сбоку, в стороне от этой группы, я заметил крохотную фигурку Нессельроде. Вице-канцлер блистал в ботфортах со шпорами и белых брюках с серебряными галунами. Вяземский с усмешкой указал мне на него.
— Как смешны эти низкорослые министры! Для России нужно еще физическое представительство в своих сановниках. Черт ли в этих лилипутах?
Под легкий западный ветерок мы неслись по металлическим волнам Финского залива. На палубе общество вскоре разговорилось, словно в салоне на Английской набережной. Жорж не отходил от группы старой Загряжской с ее молоденькими племянницами...
— Судьба кораблей бывает прелюбопытна, — занимал обычной болтовней своих слушательниц д'Антес.— Например, английский линейный корабль «Беллерефон». В каких сраженьях только он не участвовал, какие победы не одерживал! И вот именно ему пришлось отвозить Наполеона на остров Святой Елены... Теперь его корпус отвезен в Портсмут, в доки, на слом...
— Как грустна судьба Наполеона, — задумчиво произнесла Александрина Гончарова.
— Вы жалеете поджигателя Москвы, мадмуазель?
— «Хвала! Он русскому народу высокий жребий показал», — прочла она чуть нараспев неведомые нам стихи.
— О, в жизни Бонапарта было много забавного, — с легким хохотом рассказывал д'Антес. — Он как-то спросил одного неаполитанца: правда ли, что все итальянцы мошенники? «Non tutti,— отвечал тот,— ma buona parte»1.
— Буонапарте... хорошо, — одобрил свежий исторический анекдот князь Вяземский.— Каламбур отменный...
Все смеялись. Д'Антес, как всегда, развлекал общество и завоевывал сердца.
Идалия Полетика, громко смеясь, выражала свое восхищение веселому рассказчику. Катрин Гончарова, необыкновенно бледная, сжав сухие губы, с горящими глазами жадно слушала д'Антеса. Ее младшая сестра,
______________________
1Не все, но большая часть (ит.).
208
легко и воздушно вздымая свою прекрасную голову, внимательно всматривалась в лицо моего кузена застенчивым и нежным взглядом чуть-чуть раскосых глаз. Эта еле заметная неправильность в лице Пушкиной сообщала какую-то тревожную странность ее отточенному облику, фантастически преображала законченную безупречность ее черт и, может быть, вызвала данное ей прозвание «красоты романтической». Вслушиваясь в бойкую болтовню Жоржа, она словно любовалась им и, казалось, ласкала увлекательного собеседника своим неправильным, глубоким и благодарным взглядом. Неужели же трехлетняя страсть Жоржа была близка к победе? Неужели он сумел своей настойчивой преданностью смутить и взволновать это бесстрастное и неподвижное сердце?
Мы быстро неслись по серой зыби Финского залива. Бесцветные волны отливали вблизи темной зеленью, словно сталь — ржавчиной. Впереди выступали очертания острова Котлина с его батареями и крепостными сооружениями. Перед нами вырастал Кронштадт в граните своих батарей, среди дремучего леса мачт. Вскоре мы обогнули первые форты и вступили в линию военной гавани. Перед нами на рейде выстроился весь Балтийский флот.
Слегка покачиваясь на взволнованной поверхности и чуть поскрипывая снастями, плоские широкогрудые корабли с тонкой и крепкой паутиной своего такелажа вытянулись тремя линиями на несколько верст. В левом ряду стояли фрегаты и корветы, в правом бриги, яхты и шхуны, между ними двадцать шесть линейных судов. Из люков зловеще поблескивали на солнце тонкие стволы бронзовых единорогов и грозно разевали пасти сизые дула чугунных коронад.
Военный флот был развернут на страх врагам, в грозное поучение морским державам Запада. Впереди на малом рейде стоял под адмиралтейским флагом военный пароход «Геркулес». На шканцах — между средней и задней мачтой — был воздвигнут высокий помост, покрытый алым сукном с пышными свесами до самой палубы. На высоте его был установлен знаменитый ботик. Старинный русский челн, сколоченный из гнутых узких досок, напомнил мне гребной флот Христофора Колумба по старинным гравюрам кабинета эстампов. Бот был окружен стражей. Алые ступени помоста были заняты
209
почетным караулом гвардейского экипажа из гардемаринов, дворцовых гренадер и офицерских чинов. На нашей площадке продолжалась беседа.
— Что может быть лучше морских поездок? — восхищался д'Антес. — Как упоительно мчаться на какой-нибудь золоченой яхте по гладкому лону вод. Особенно вдвоем, не правда ли? — обратил он свой дерзкий взгляд к Пушкиной.
Та молча улыбалась, ласково и внимательно глядя ему в глаза.
— Вам приходилось много путешествовать по морю? — спросила с ноткой раздражения Идалия Полетика.
— О да, сударыня. Однажды в бурную ночь, на утлой бригантине, я переправился с итальянского побережья в Марсель, чтобы подготовить восстание верноподданных и доставить власть законной регентше Франции...
— Регентше?
— Ее высочеству герцогине Беррийской.
— О, вы, кажется, слишком ревностно служили ей, — вспыхнула глазами смуглая фрейлина.
— Моему богу, моему королю, моей даме — вот мой девиз.
— Кто же теперь ваш король и ваша дама, барон? — с вольтеровской улыбкой, кутаясь в шотландскую шаль, протянула Загряжская.
— Мой господин — император Николай, даму же мою не смею назвать...
Но тут же с развязной галантностью военного кавалера д'Антес склонил голову перед женою поэта.
Госпожа Пушкина продолжала безмолвно ласкать моего кузена своим загадочным взглядом.
Оглушительная пальба прервала эту сценку. Передовой корабль нашей петергофской флотилии, приближаясь к малому рейду, салютовал ботику тридцатью одним выстрелом. «Геркулес» двинулся на большой рейд. Наши суда последовали за ним в кильватере под непрерывные пушечные салюты.
Поверхность моря покрылась густыми клубами дыма. Общая картина кордебаталии местами скрывалась от нас летучими белыми завесами. Оглушительный грохот пальбы сотрясал наши суда. Церемониал, выработанный царем, тщательно исполнялся его адмиралами. Сухопутные войска, расставленные по бастионам кронштадтской гавани, при проходе ботика брали на караул и били поход.
210

На каждом корабле стража отдавала честь с барабанным боем, и экипаж, рассеянный по марсам и реям, оглашал воздух пятикратным «ура».
Я внимательно следил за эволюциями матросов. Быстро, согласованно и ловко карабкались они на грот-, фок- и бизань-мачты «Александрии». Однобортные куртки черно-зеленого сукна желтели крупными отметинами погонов, а черные лакированные кивера ярко сверкали на солнце скрещенными медными якорями. Уверенно и бодро работали гибкие мускулы, и мощные молодые голоса сливались в один протяжный хор многоголосого приветствия.
Между тем «Геркулес» обошел всю корабельную линию и стал на якорь против адмиральского корабля. Рядом стали «Ижора» и «Александрия». На ботике взвился старинный штандарт.
— Этот легкий нарядный корвет, — указал нам д'Антес на крайний корабль, — напоминает мне «Карла-Альберта», на котором регентша плыла в 1832 году к французскому побережью...
— Он был так же разукрашен флагами? — спросила Александрина.
— Гораздо лучше — он был весь в геральдических лилиях...
— Он несся к трону, а причалил к тюрьме, — назидательно произнесла Загряжская. — Вот коловращение земных сует!
— Пора бы вам, дорогой Геккерн, забыть вашу королеву, — ядовито заметила Идалия.
— Тем более, что герцогиня Беррийская давно уже не регентша Франции, — вставил я.
— И даже не герцогиня Беррийская, — продолжал Вяземский, — она стала просто графиней Луккези-Палли.
— Можно спорить о ее державных правах, — отвечал д'Антес, — но, впрочем, я уже признал, что принадлежу другой родине, другому властелину, другой даме.
Навстречу поднятому петровскому штандарту со всего флота, крепости и отдельных фортов гулко гремели орудия. Все мачты распустили флаги.
Тогда-то по особому сигналу царь отправился с «Ижоры» на «Геркулес» поклониться древнему ботику. Под гул всеобщей канонады к нашей «Александрии» плыл двадцативесельный катер. Царь приглашал желаю-
212
щих приветствовать вместе с ним патриарха русского флота.
Через несколько минут мы всходили на палубу «Геркулеса». На алом помосте, как на плахе, высилась узкая и длинная трехсаженная галера, свежевыкрашенная, е вычурными украшениями на срезанной корме. Львиные пасти и резные кораблики оживляли гнутые доски бота.
Царь уже отдал честь старинному челну и спокойно беседовал с посланниками. Заметив, что Барант внимательно читает список кораблей Балтийского флота, он обратился к нему:
— Вы, вероятно, еще не читаете бегло по-русски, — не помочь ли вам?
Но здесь произошло некоторое замешательство.
Ряд судов Балтийского флота назван именами русских побед над французами. «Бородино», «Березина», «Бриенн», «Кульм», «Фершампенауз» соседствуют в этой номенклатуре с мифологическими богинями и древними героями — «Беллоной» и «Венус», «Приамом» и «Агамемноном». Николай почувствовал неловкость положения.
— Каждая нация чтит воспоминания о своих победах, — попробовал он смягчить впечатление, — вы, как политик, должны это понять, барон.
— Совершенно верно, ваше величество, — отвечал Барант, — в нашей эскадре есть «Аустерлиц» и «Фридланд».
Царь с явным неудовольствием отвернулся. В это время он увидел Пушкину. Личину мореплавателя мгновенно сменила маска паладина. Стройно выпрямившись и вызвав улыбку на своем хмуром лице, он кавалерственно приблизился к первой красавице своего двора и, кажется, всей своей империи. По-рыцарски он предложил ей услуги простого гида. Облокотившись о колесо штурвала, он стал называть ей окружающие корабли. Обычно игривый и самовлюбленный в присутствии женщин, словно хвастающий перед фрейлинами своей выправкой, своим взглядом, своей мощью, царь на этот раз кокетствовал перед дамой своими морскими силами. Как всегда, его тешила прямолинейность, точность и законченность военного зрелища. Морской смотр сохранял строгий расчет военного парада на Марсовом поле. Балтическую стихию пытались подчинить вкусам императора: он с гордостью показывал случайной зрительнице ровный ряд выстроенных судов.
213
— Заметьте, сударыня: с края линий, кажется, видишь один корабль!
И собеседница императора, словно любуясь зрелищем, глядела вдаль своим рассеянным взглядом.
Если бы она знала, чего стоила эта стройность, размеренность и точность... Ни в одном флоте нет таких жестоких взысканий, как в русском. До сих пор судовые экипажи Николая подчинены морскому уставу Петра I, с его средневековыми санкциями четвертования, колесования, вырезывания ноздрей, повешения на реях, аркебузирования, битья кнутом и кошками. Многохвостая плеть из просмоленной пеньки заменяет в карательной практике флота смертоносные шпицрутены сухопутных войск. Арестантские роты под начальством инженер-генералов надрываются над постройкой новых судов. Но все это приводит только к внешней парадности и к праздному блеску морских спектаклей.
Царь продолжал кокетливо выгибать свой стан перед Пушкиной, обволакивая ее жадными взглядами своих водянистых глаз.
Между тем церемониал заканчивался. Отдавались сигналы к отплытию в Петергоф. Для обратного путешествия император пригласил фрейлину Загряжскую с ее племянницами на борт «Ижоры» принять участие в царском завтраке.
Мы простились с нашими спутницами. Старуха Загряжская проводила д'Антеса своей саркастической усмешкой, Александрина с некоторой тревогой оглянула нас, старшая Гончарова обожгла моего кузена беспокойным, сухим и горящим взглядом. Пушкина с глубокой и нежной задумчивостью протянула на прощанье свою руку для поцелуя.
Мы вернулись гребным катером на «Александрию». Пироскаф наш распустил пары и двинулся в обратный путь.
Мы вышли из военной гавани. Граниты и мачты Кронштадта медленно уплывали от нас. Маленькое общество наше, несколько поредевшее, обменивалось впечатлениями от морского празднества. Д'Антес отошел в сторону.
Флегматичный и бледный Медженис, вяло помахивая розовым клювом, излагал мне свои соображения о русском флоте.
214
— Все эти военные суда — игрушки императора, не более, — медленно говорил он, раздвигая коленца своего телескопа, чтоб лучше оглядеть развернутую эскадру. — В течение шести месяцев этот флот заперт льдами. Остальное время он служит для упражнения морских кадетов. У русских нет моряков — экипажи состоят сплошь из иностранцев; гавани и рейды так неглубоки, что суда необходимо строить широкими и плоскими, это делает их медленными и неповоротливыми. Все они построены из дурного материала — ель не выдерживает ядер.
Видно было, что атташе великобританского посольства спокойно гордится своим отечественным флотом. Мне хотелось вызвать Жоржа на рассказ о нашей средиземноморской эскадре. Но кузен мой куда-то исчез.
Через несколько минут я нашел его на корме судна. Опершись о перила, сурово и молча следил он за кипящей игрою брызг под тяжелой броней руля, не отрываясь пристальным взглядом от клокочущей пены.
— Друг мой, тебя, кажется, можно поздравить? Пушкина смотрит на тебя влюбленными глазами.
Д'Антее остановил на мне свои холодные зрачки.
— Дело невероятно осложнилось, — произнес он сухим и резким голосом. — Со вчерашнего вечера Катрин Гончарова — моя любовница.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Le martyr perpetuel et la per-
petuelle immolation du Poete...
V i g n y. Chatterton1
I
Легитимисты.
Из политической партии они давно стремились стать духовным орденом, священной дружиной, рыцарским ополчением.
Из французской эмиграции 1793 года, из реставра-
__________________________
1 Вечное мученичестве и вечное жертвоприношение «Чаттертон» (фр.).
215
торов бурбонской монархии, из приверженцев Священного союза они превратились в международную организацию с вождями, агентами, ораторами, писателями, трибунами и газетами.
Им принадлежало павлинье перо Шатобриана; им вырабатывал программу кантианец и вождь европейских олигархов Меттерних; они числили в своих рядах всех королей Северо-Восточной Европы.
Николай I считал себя их верховным вождем. Это было совершенно необходимо при сомнительности его прав на российский престол. Яростной защитой интересов «законности» он словно стремился придушить глухие толки о своем узурпаторстве.
Военный бунт в день его восшествия закалил его ненависть к революции. Он провозгласил себя вождем международного легитимизма, главою сторонников Генриха во Франции, Карла в Испании, Вильгельма в Нидерландах, Франца в вольном городе Кракове.
Он мечтал о вооружении своей партии. Он хотел превратить сентиментальное братство 1814 года в несокрушимую боевую фалангу, облеченную смертоносной арматурой современной войны.
И легитимисты действительно вооружались повсеместно. С 1830 года они усилили свою злость и отравили смертельным ядом свою мстительность. Свержение Бурбонов, отпадение Бельгии, восстание в Польше, гражданские распри в Испании отточили их ненависть и взнуздали их бдительность. Они объявили беспощадную войну всем смельчакам, посягающим на абсолютную цельность и полноту их владычества.
С вооруженными противниками они боролись смертными приговорами — виселицами, гильотинами, расстрелами. С идеологическими противниками они боролись смертными приговорами — убийствами из-за угла, безнадежными заключениями, гибельными ссылками, кровавыми провокациями.
Череп, ощеривший зубы, давно заменил на их боевом щите связки геральдических лилий.
«Смерть врагу!» заглушило пустозвонный лозунг благоденствия народов под скипетрами монархов.
Я был свидетелем их сплоченного выступления в Петербурге, когда их месть и ненависть выросли несокрушимой стеной на пути одного поэта.
II
— Государь недоволен Пушкиным, — говорила нам Идалия Полетика, — я это верно знаю от фрейлины императрицы. Бенкендорф только ищет повода, чтоб убрать его из Петербурга...
— Чем это вызвано? — спросил д'Антес.
— О, очень многим, — заметил муж Идалии. — Книга о Пугачеве, памфлет на Уварова, эпиграммы на лучших представителей власти и знати, оскорбительные попытки подать в отставку — все это вооружило против него двор.
— Мне известно, что будут приняты решительные меры, — продолжала Идалия. — Успокойтесь, д'Антес, — с ревнивой насмешливостью и обычной беззастенчивостью бросила она, — Натали будет ваша...
— Но если его сошлют в деревню, жена последует за ним, — меланхолически заметил мой кузен.
— Неизвестно. Способы освободиться от него еще не окончательно продуманы, но дело может быть поставлено так, что он будет устранен не каким-либо приказом властей, а гораздо более сложным образом.
— Каким же?
— При его вспыльчивости и горячности нетрудно будет в самом обществе создать такую ситуацию, в которую он попадет, как в силок. Но терпеть его больше не станут, можете мне в том поверить.
— Он действительно вооружил против себя всех. У него такие мощные враги, с которыми ему едва ли удастся справиться.
— Кто же?
— Уваров, Бенкендорф, Нессельроде — этого ли еще не достаточно?
— Это все?
— Нет, если хотите, есть еще.
— Кто же?
— Сам император.
Последнее было несомненно. При всем умении двора скрывать свое подлинное отношение к отдельным лицам, Даже для нас, членов иностранных посольств, было ясно, что Николай не выносит Пушкина. Русский царь вообще питает глубокую антипатию к писателям — к Пушкину же он относился с особенной враждой. Это был его политический противник, враг его дела, опасный вольнодумец, Достойный преследований и гонений. Но политика требо-
217
вала осторожной и тонкой игры с этим врагом. Разумно было, ненавидя, ласкать и, готовя гибель, притворяться милостивым.
Для моей книги о России представляли интерес отношения императора к первому писателю страны. Я обратился с осторожными вопросами к другу поэта — князю Вяземскому. Вот что он сообщил мне.
В России придворные поэты были издавна в моде. Николай I считал необходимым ввести в свой круг выдающегося писателя для стихотворных похвал и живописи исторической. Если Ломоносов придал особый блеск эпохе Елизаветы, Державин — времени Екатерины и Карамзин — царствованию Александра, Пушкин мог лучше своих предшественников возвеличить и увековечить образ и деяния Николая I. Вот почему в самые дни своей коронации молодой император вызывает к себе опального поэта и словно стремится ввести его в круг своих милостей и щедрот.
Николай до известной степени даже заискивал перед Пушкиным. Фридрих ухаживал за Вольтером — и этим подал пример всем европейским венценосцам. Царям нужны поэты, как актеру журналисты — это создатели их репутаций. Николаю I мерещились оды и гимны в его честь, написанные самым блистательным пером его империи. Отсюда — милости, расточаемые поэту: он посылает ему в дар экземпляр свода законов, собирается закрыть газету, непочтительно отозвавшуюся о Пушкине, открывает ему архивы, назначает оклад и дает придворный чин. Он не перестает предоставлять поэту темы для его будущих похвал и прославлений. Он словно становится перед своим художником в позу великодушного покровителя муз, являя ему те широкие жесты щедрости и благоволения, которые надлежало запечатлеть для потомства парадной кистью восхищенного одописца.
Правда, милости оказывались постепенно и сдержанно. Внешний эффект не всегда соответствовал внутренней сущности акта. Оклад был ничтожен, звание смехотворно. Первый писатель страны числился в рубрике «вторые чины двора». Поэт с европейским именем был поставлен в ряд с молодыми, совершенно безвестными и ничем не примечательными людьми. Я просматривал как-то список дворцовых товарищей Пушкина. Камер-юнкеры Любомирский, Вонлярлярский, Скарятин, Шишко, Салтыков, Волконский, Кулаковский, Чихачев — кто они?.. И выве-
218
дет ли их когда-нибудь из безвестности даже солнечное имя поэта, ставшего волею царя их товарищем?
Но к середине тридцатых годов взаимные отношения остыли. Поэт не оправдал возлагавшихся на него надежд. Героическая поэма о новом Петре не была написана, к истории царствования Николая I Пушкин не готовился.
И вот из-под тронных милостей стала все отчетливее выступать старинная вражда Николая к его партийному врагу, к явному стороннику его «декабрьских друзей», к неугомонному памфлетисту, дерзавшему клеймить своими пасквилями его ближайших сподвижников и даже его брата — «ангела Александра».
Понемногу отношения уяснились, и царь не переставал душить поэта, облачая его придворными званиями, требуя от него чиновной службы, контролируя его отлучки, отказывая ему в отставке, строжайше запрещая ему путешествие за границу.
К этому прибавлялось еще одно обстоятельство. Император Николай был необыкновенно влюбчив. Актрисы французского театра поведали мне любовные тайны Зимнего дворца. Каждая юная и красивая женщина глубоко волнует российского самодержца. Фрейлины, придворные дамы, танцовщицы, актрисы, ученицы театральных школ, представительницы среднего петербургского общества входят в обширный и таинственный круг царских забав. Мне пришлось как-то слышать от Пушкина, что царь завел себе целый гарем из театральных воспитанниц. Воля царя непреклонна в его потехах, как и в его приказах: он намечает себе женщину — рано или поздно она становится его любовницей.
В Петербурге, где нет тайн, давно уже было известно, что царь влюбился в Пушкину. Общество насторожилось. Что выйдет из этого любовного поединка? Пока же перешептывались, пересмеивались, недоумевали: Пушкина не пускают в деревню. Почему? Царь оказывает необычайное покровительство д'Антесу: не поощряет ли он из личных целей ухаживания кавалергарда за женою поэта? Не в его ли альковных интересах устранить ревнивца-мужа и поставить рядом с предметом своей тайной страсти податливого карьериста?
Царь не любил Пушкина, и это было всем известно. Взаимная ненависть накоплялась тайно и медленно, вражда отлагала годами свою накипь, сгущался и отвердевал отстой недовольства и неприязни, подавленных негодований и затаенной злобы. И наконец — прорвалось.
219
Пушкин был одинок в высшем кругу столицы. Он безжалостно осмеял в своих эпиграммах, памфлетах и крылатых словах всех представителей влиятельного Петербурга — министров, генералов, академиков, цензоров, журналистов, полицию и двор. Голицыны и Уваровы, Нессельроде и Дондуковы-Корсаковы, Борхи и Булгарины — все были заклеймены в его остротах и куплетах. При дворе знали и помнили его эпиграммы на Александра I, Аракчеева и Фотия. Все это смыкало врагов поэта в единую фалангу и создавало против него сплоченный фронт ненависти и мести.
Не отдельные лица были причиной гибели Пушкина — не д’Антес, Геккерн или Нессельроде взятые порознь, а все петербургское общество в целом, глубоко враждебное к поэту, беспощадно клеймившему их политическое и сословное исповедание и кидавшему им в лицо свои отравленные и бессмертные сарказмы.
В 1836 году Пушкин оказался крепко схваченным тесным кольцом вражды. Он был бессилен хитро и осторожно разомкнуть его, как сумел бы на его месте другой, более спокойный и рассудительный. От его гневных порываний кольцо сжималось все теснее и неумолимее.
III
«Безумная осень, или женитьба Жоржа де Геккерна» — так острил к концу 1836 года мой кузен, еще не подозревая, к чему приведет его брак с Екатериной Гончаровой.
— Я выступаю в роли Сганареля, — беспечно шутил д'Антес, — какой вздор!.. Брак поневоле, когда нет женщины, которая бы отказалась от меня.
И он заливался долгим хохотом, как от забавнейшего офицерского анекдота.
Но зато хмурился голландский посланник. Он словно чувствовал, что веселые дни Жоржа д'Антеса завершились в Петербурге и одновременно наступали самые черные дни в биографии барона Луи фан Геккерна.
Я склонен думать до сих пор, что за всю долголетнюю дипломатическую деятельность голландского посланника, при сложнейших политических колебаниях европейского мнения, даже в момент свержения Бурбонов и распадения Нидерландов, перед ним не возникало задач та-
220
кой непреодолимой трудности, как в памятную петербургскую осень 1836 года.
— Этот брак недопустим, — мрачно возражал посланник, взывая к моему суду, — вы только подумайте: красавец, перед которым открыты все пути военной и придворной карьеры, аристократ чистой крови, с рентой в семьдесят тысяч годового дохода, незапятнанный легитимист, призванный, быть может, породниться с царствующими фамилиями, — и эта долговязая, черномазая старая дева без гроша приданого! Это ли не ужасно для отцовского сердца?
— Ты не прав, отец, — мадмуазель Катрин, на мой взгляд, во многом напоминает свою младшую сестру. Цвет лица, осанка... И затем, ты забываешь, что, ставши братом Натали, я тем вернее могу сделаться ее другом... Лишний шанс на победу!
— Какой ужасный мезальянс, — сокрушенно покачивал головой первый знаток европейских родословных. — Ведь Гончаровы купеческого рода... Этого ли достоин потомок Гацфельдов и Рейтнеров, носящий одну из самых блистательных фамилий Нидерландского королевства?
— Ба, Париж стоит обедни, — продолжал смеяться д'Антес, — поверь мне, госпожа Пушкина стоит даже брака с мадмуазель Гончаровой...
Но посланник был мрачен. Женитьба д'Антеса была для него страшным ударом. Так стареющая и страстно влюбленная женщина воспринимает брак своего любовника. Это всегда крушение личного счастья, самопожертвование, начало заката.
Д'Антес был первой и последней страстью барона Геккерна. До него он знал только развлечения, греховные наслаждения, изощренность и фантастику разврата. Порок, создавший глухую и темную славу нидерландскому посланнику, был приобретен им еще в его флотские годы. Он процветал в экипажах кораблей дальнего плаванья, на которых юный Луи-Борхард служил юнгой. С тех пор он сохранил вкус к матросам, прислужникам портовых таверн, уличным торговцам. Как многие сластолюбцы, он охотно спускался с высоты своих утонченных привычек в грубый быт конюхов, егерей, цирюльников, лакеев. Это взнуздывало его утомленную чувственность и обостряло его эмоциональную пресыщенность, но с годами оставляло, как всякий тайный порок, густой осадок разочарования и стыда. Начинало тянуть к настоящей влюбленно-
221
сти, к изящному и чистому роману. Так какой-нибудь морской офицер, познавший продажных женщин всех цветов и мастей, мечтает о юной английской леди и женится на титулованной красавице.
Роль эту выполнял в жизни Геккерна молодой французский аристократ, случайно повстречавшийся ему в одной из дипломатических поездок. Белокурый и светлоглазый Жорж д'Антес, с его гибким станом и крепкими мускулами, с женственными движениями и силою юного воина, сразу ослепил и увлек его. Как последняя осенняя страсть, влюбленность барона Геккерна захватила его целиком и связала навсегда. Предстоящий брак наносил непоправимый удар его позднему счастью.
И вот тогда в голове рассудительного дипломата возник безрассуднейший план, надолго прервавший ход его политической карьеры.
«Если уже терять Жоржа, то со смыслом, — рассуждал барон. — Он обожает первую красавицу в Европе, а должен жениться на этой метле. Госпожа Пушкина во всяком обществе окажет честь своему мужу, укрепит его положение, будет содействовать его успехам. Ни для кого не тайна, что император в нее влюблен. Какие пути, какие возможности для нас обоих!»
Предстоящий переворот в жизни Жоржа помрачил отчетливое и дальновидное мышление нидерландского посланника. Умный и находчивый политик стал непоправимо ошибаться. Первую грубую ошибку он допустил, написав письмо Наталье Николаевне Пушкиной.
В семейных архивах сохранился черновик этого документа:
«Сударыня, я вдвое старше вас, и это дает мне право говорить с вами, как отцу с дочерью. Я надеюсь, что вы не откажете выслушать меня внимательно и вникнуть в ту тяжелую драму, которую вы, быть может невольно, зародили в лоне моей семьи.
Вы знаете, что сын мой — единственное счастье моей жизни — уже два года живет мечтою о вас. Это благородное и сильное чувство до сих пор не встретило с вашей стороны достойного ответа. Между тем вы не можете скрыть ни вашей душевной растроганности перед такой рыцарской преданностью, ни вашего глубокого волнения перед этой возвышенной страстью. Отдайтесь же вашему влечению, прекратите напрасную борьбу, не пытайтесь отвращать неизбежное! Подумайте о великих страданиях, причиняемых вами безумно любящему вас сердцу, и
222
не испытывайте судьбы, — знайте, что сын мой близок к самоубийству, что он тяжко болен и медленно умирает от любви к вам. Подумайте, нет ли в жизни обязанностей стоящих выше супружеских? И не следует ли расторгать неудачные браки во имя верховного закона великого чувства? Вдумайтесь в это и решитесь порвать с печальным прошлым, чтобы смело начать новую жизнь, полную любви, роскоши и свободы. Осчастливьте себя и верните мне моего сына.
Молю вас взвесить и принять все, что с отеческим чувством вам советует ваш покорный и преданный слуга
Б. де Г.»
Ответа не последовало. Но вскоре барон Геккерн получил известия из дома Пушкиных.
IV
— Пакет из нидерландского посольства, господин виконт.
Мне подают записку на голландской бумаге с рельефным львом, потрясающим мечом и стрелами. Спешное приглашение от барона Луи фан Геккерна.
Я еду на Невский. При свете канделябров переливается эмаль табакерок, перламутр ларцов и стекло венецианских бокалов. В широких деревянных квадратах поблескивают омары и устрицы под ниспадающими гроздьями винограда и тяжело виснет пернатая дичь над синими камбалами и багровыми тушами. Анатомы в широкополых фетрах и каноники в просторных рясах угрюмо глядят из глубокого сумрака портретных фонов.
— Друг мой, у нас беда, — встретил меня посол в состоянии крайней встревоженности.
— Что-нибудь в полку с Жоржем? — осведомился я.
— Хуже, гораздо хуже. Садитесь и слушайте.
Он пододвинул ко мне коробку с сигарами и смочил виски своими крепкими и сладкими духами.
— Сегодня в три часа как снег на голову приезжает ко мне или, вернее, к Жоржу один наш отдаленный знакомый — штабной офицер Россет. Это брат известной красавицы фрейлины, вышедшей теперь за одного из чиновников Нессельроде, некоего Смирнова. Вы их не знаете, они уже с год в Берлине. Узнав, что Жорж дежурит в полку и вернется домой не раньше завтрашнего дня, он
223
вручил мне для передачи сыну форменный картель — от кого бы вы думали? — от Пушкина... Это было действительно неожиданно.
— Россет, — продолжал посланник, — подтвердил вызов и просил меня безотлагательно дать ответ.
— И вы согласились?
— Я немедленно же отправился к Пушкину. Разговор с Россетом давал мне право взять на себя представительство Жоржа в этом деле. Не будь этого обстоятельства, я был бы скован и не мог бы действовать от имени адресата письма, которое, как вы понимаете, я не был уполномочен вскрывать. Но устная беседа разрешила все затруднения. Я заявил Россету, что, узнав от него содержание письма, считаю себя вправе как отец распечатать его и отвечать за моего сына...
— Но чем был мотивирован вызов?
— В письме — ничем. Вот вам эта записка. Как видите, голый картель в безукоризненно учтивой форме. Пушкин, очевидно, не хотел передавать бумаге свои интимные соображения. Вот почему он и прислал приятеля, давшего, правда в крайне сдержанной форме, некоторые объяснения.
— Чем же он объяснил этот внезапный взрыв?
— В последнее время, по его словам, имя Жоржа де Геккерна в высшем обществе стали сочетать с именем госпожи Пушкиной. Будучи глубоко убежденным в безосновательности подобных слухов, муж считает все же необходимым довести до сведения д'Антеса, что он не допустит, чтобы имя его жены было сопряжено с чьим бы то ни было именем...
— Так что причина вызова — светские пересуды, в которые сам Пушкин не верит? Что за бретерство!
— Я до сих пор ничего не могу понять. Но все же я немедленно отвечал Россету, что долг чести заставляет меня принять безоговорочно от имени сына сделанный вызов. Я просил его сообщить Пушкину, что я через час заеду на его квартиру для некоторых личных объяснений.
— И Пушкин принял вас?
— С обычной своей вежливостью, но несколько холодно. Не имея еще определенного плана действий, я решил пока выиграть время. Остерегаясь каких бы то ни было уверений или просьб, я ограничился указанием на необходимость отсрочить дело хотя бы на день ввиду вынужденного отсутствия Жоржа. Я присовокупил, что не оставляю надежды на новый спокойный пересмотр всего
224
этого дела Пушкиным и на перемену его решения. «Я согласен отсрочить нашу беседу до завтра, — отвечал он, — но мнения своего не переменю...» С этим я и уехал. Он беспомощно откинулся на спинку кресел.
— И вот вы видите меня в состоянии полной растерянности. Как быть, как предотвратить этот ужасный шаг, который может вдребезги разбить жизнь и карьеру Жоржа и чрезвычайно чувствительно ударить по всей моей долголетней незапятнанной деятельности? Вы друг и брат моего сына, я решил в его отсутствие посоветоваться с вами. Как вы смотрите на все это? Как бы вы поступили на моем месте?..
Я постарался сообразить всю обстановку события и наметить какие-нибудь решения.
— Не покажется ли вам, барон, правильным откровенно рассказать обо всем этом Пушкину? Он человек сердца и, вероятно, будет тронут вашим волнением и горем. Вы же, как отец, имеете право на искренность в таком деле...
— Вы думаете? Я знаю только одно: что поединок этот невозможно допустить. Какой угодно ценою мы должны спасти нашу жизнь, честь, будущность...
Мы долго за полночь беседовали с посланником.
Понемногу он успокоился. Было решено, что завтра же он подробно и откровенно переговорит с Пушкиным и, во всяком случае, добьется новой более длительной отсрочки, чтобы получить простор и свободу действий.
Мы исходили оба из одного неопровержимо убедительного соображения: Пушкин в последнюю минуту остановится перед громогласным скандалом, который в глазах всего света опозорит навсегда его жену.
Это соображение несколько успокаивало нас. Мы приходили к заключению, что для выигрыша нужны только время, благоразумие, осторожность.
Таково было первое совещание двух европейских дипломатов об одной петербургской истории, которой суждено было вскоре получить самую широкую международную огласку.
V
Мы узнали впоследствии, чем был вызван неожиданный картель Пушкина. Оказывается, в начале ноября он получил по городской почте анонимный диплом на звание
225
рогоносца. Taкиe же послания были получены в двойных конвертах на его имя близким кругом его друзей и знакомых.
Мне хорошо запомнились эти смутные ноябрьские дни. Тревоги и дипломатические ходы, переговоры и ожидания, переписка и тонкое сплетение признаний, запросов и хитроумных решений. Ко всему этому мне пришлось стать вплотную, все обсуждать, во всем участвовать.
На другой же день д'Антес, вернувшись из казарм, еще в шарфе дежурного и в лядунке через плечо, просил меня тотчас же взять на себя обязанности его секунданта. Жорж был готов немедленно идти к барьеру, хотя мысль о Катерине Гончаровой и смущала его.
Но барон не допускал возможности поединка. Он убедил нас, что есть шансы на примирение с Пушкиным, с которым он будет говорить исключительно от своего имени, считая по-прежнему, что д'Антес ничего о вызове не знает. Еще возможно все спасти и избежать непоправимого скандала.
Барон вернулся от Пушкина удовлетворенный результатами своих переговоров. Тон сердечной откровенности и отеческого огорчения возымел свое действие. В ответ на просьбу Геккерна дать новую недельную отсрочку для устройства дел Пушкин проявил широкий жест великодушия. Не отказываясь от вызова, он предоставил противнику двухнедельный срок и обещал при встречах с д'Антесом ничем не проявлять своей вражды к нему.
Но главная причина удовлетворенности Геккерна вытекала из другого обстоятельства. Он встретился у Пушкина с Жуковским и из краткой беседы с ним мог заключить, что друзья поэта извещены о его вызове, естественно, взволнованны и стремятся удержать его от безрассудного шага. «Я воспользовался этой счастливой встречей, чтобы пригласить к себе Жуковского. Завтра он будет у нас. Шансы на выигрыш поднимаются. У нас объявились сильные союзники»...
И барон тут же сообщил нам вызревший у него план.
В создавшихся условиях брак д'Антеса с Катериной Гончаровой спасал положение. Необходимо было сообщить ближайшим родным и друзьям о предстоящей свадьбе. Впоследствии можно будет и развестись. Пока же брачный проект отведет все подозрения от жены
226
Пушкина и вполне удовлетворительно объяснит в глазах света близость Жоржа к семейству поэта.
— Необходимо только со всей точностью установить, — решительно заметил Жорж, — что я буду просить руку мадмуазель Катрин не для сатисфакции или примирения, но только потому, что она мне нравится, что таково мое желание и что это было решено исключительно моей собственной волей.
На другое утро Геккерн принимал Жуковского.
— Вам, конечно, известно, господин советник, что камергер Пушкин 1 прислал моему сыну вызов, который и был мною принят от его имени. Вы, вероятно, знаете также, что сын мой не замедлил одобрить мой образ действий.
— Все это мне известно, — подтвердил Жуковский.
— Вы должны понять, как важно для нас установить эти факты со всей неопровержимостью. Человек чести не может допустить в подобных обстоятельствах ни малейшего сомнения насчет своего поведения.
— Никто и не сомневается в достойном ответе барона Геккерна на полученный им вызов, — снова подтвердил Жуковский.
— Раз эти факты установлены, разрешите мне выполнить и другую, не менее священную, обязанность отца.
— Я слушаю вас, барон.
— Необходимо рассеять одно печальное недоразумение.
От официального тона посланник перешел к дружеской беседе.
— Верьте мне, Пушкин ошибается, думая, что Жорж влюблен в его жену. Это глубокое заблуждение. Сын мой любит свояченицу Пушкина.
— Возможно ли? — изумился Жуковский. — Александрину?
— Нет, старшую. Он давно уже возымел намеренье просить руку мадмуазель Катрин Гончаровой.
— Но почему же, в таком случае, ваш сын не отходит от Натальи Николаевны?
___________________________
1 Незначительный придворный чин Пушкина в светских отношениях любезно повышался. Об этом свидетельствуют документы дуэльного дела, где поэт выступает под не принадлежащим ему званием камергера.
227
— Рыцарская преданность, не более. По-настоящему же Жорж страстно любит старшую сестру и давно умоляет меня дать согласье на брак с нею.
— Как хотите, это невероятно! — вырвалось у Жуковского.
— И все же это так. Обстоятельства вынуждают меня быть откровенным: девушка беременна.
Наступила долгая пауза. Придворный поэт, пораженный неожиданным разоблачением семейной тайны, погрузился в молчаливое соображенье всех сложившихся обстоятельств.
— Но в таком случае, — произнес он наконец, — вашему сыну необходимо как можно скорее объявить о своем намереньи. Это пресечет все ложные домыслы и слухи.
— Между молодыми дело уже давно решено. Меня удивляет, что вы ничего не слыхали о предстоящей свадьбе. Я обдумывал до сих пор некоторые детали этого дела и по ряду соображений задерживал свое окончательное согласие. Но перед лицом происходящей роковой ошибки, грозящей непоправимыми бедствиями, я вынужден уступить. Необходимо только, чтобы Пушкин взял обратно свой вызов, не ссылаясь на предполагаемую женитьбу. Вы понимаете, что это бросило бы тень на честь и доброе имя моего сына.
Жуковский брался уговорить Пушкина. «Есть еще возможность все остановить!»— говорил он, уходя из посольства.
Дело понемногу стало действительно устраиваться. В середине ноября Пушкин, встретившись с Геккерном у старой Загряжской, выразил согласие считать свой вызов небывшим. Положение его свояченицы обязывало к миролюбию.
Но д'Антесу это показалось недостаточным. Он считал, что Пушкин, беря обратно свой вызов, обязан сопроводить его объяснениями всего своего поведения. Он отправил Пушкину письмо, в котором предлагал изложить ему причины вызова и мотивы отказа от него.
Ответа не последовало.
Тогда Жорж попросил меня вступить в обязанности секунданта и отправиться к Пушкину с заявлением, что назначенный двухнедельный срок истек и он готов явиться к барьеру.
228
VI
Выполняя поручение д'Антеса, я поехал на Мойку к большому трехэтажному дому, против министерства иностранных дел.
Меня проводили в кабинет Пушкина, где мне пришлось несколько минут ждать хозяина. Это дало мне возможность рассмотреть рабочую комнату русского поэта и бросить беглый взгляд на его книжное собрание.
Кабинет Пушкина отличался большой простотой. Это светлая большая комната, опрятная и чистая, без всяких украшений: ни картин, ни дорогих рам, ни фарфора и бронзы. Желтый стол простого дерева был завален рукописями и книгами, вдоль стен тянулись книжные полки. Я сразу обнаружил среди них большое количество иностранных изданий и с интересом стал рассматривать пестрые корешки этой библиотеки.
Французская литература была здесь представлена с необыкновенной полнотой. Все наши мыслители от Монтеня до Бенжамена Констана, все поэты от Ронсара до Мюссе, все сказочники от Маргариты Наваррской до Шарля Нодье, все эпики от Рабле до Бальзака. И при этом какая полнота в отборе наших трагиков и энциклопедистов, малых поэтов восемнадцатого века, моралистов, историков и публицистов! Многие библиотеки парижских литераторов могли бы позавидовать этому собранию книг русского поэта...
Я заметил на некоторых полках наших новейших авторов — Стендаля, Сент-Бева, Жюля Жанена. На столике перед диваном лежала раскрытой ваша «Гузла», дорогой Проспер, и я невольно зачитался трогательной жалобой супруги Гассана-Аги.
Еще минута, и я выполнял порученное мне дело.
Пушкин стоял передо мною, любезно протягивая мне руку.
Мы сели у письменного стола. Беседа началась не сразу. В нас обоих сказывалась напряженность необычного состояния. Мирные, вежливые, благожелательные собеседники петербургских гостиных и каменноостровских дач, мы неожиданно должны были уславливаться об убийстве. Несколько мгновений мы не могли прервать молчания.
Я впервые заметил, что Пушкин начинал стареть: морщины резкими чертами легли у его губ и глаз и словно рассекли в различных направлениях его высокий лоб.
229
Быть может, это явилось следствием заметного похудания его с лета. Волосы его, еще достаточно длинные, все же заметно редели, намечая легкую тонзуру старости и переставая виться. Серебрящиеся нити прорезывали края его бакенбард, начавшие седеть раньше головы. Выражение глубокой усталости усугубляло это общее впечатление.
При всей своей безупречной выдержке он был бессилен скрыть внутреннее смятение и душевную истерзанность. Бывают иногда страдания, принимающие такие невыносимо мучительные формы, что внешний облик человека весь видоизменяется. Даже сохраняя спокойствие, он как бы насквозь пронизан болью и не в силах скрыть ее от посторонних взглядов. Кажется, вы различаете в нем, словно сквозь опрозраченное тело, утомленно и медленно бьющееся сердце, превращенное в сплошную рану, пылающую мукою и медленно исходящую кровью.
Таким предстал мне Пушкин в тот памятный вечер. Вежливый и холодный, он умело сохранял свою обычную светскую манеру и мог еще усилием воли создать впечатление равновесия и самообладания. Но от внимательного взгляда не была скрыта рана, зиявшая в его измученном сердце.
Пауза встречи длилась недолго.
— Отсрочка, предоставленная вами в известном деле моему другу Жоржу де Геккерну, истекла, и он поручил мне передать вам, что он весь в вашем распоряжении.
Пушкин изменился в лице. При имени моего кузена он заметно побледнел. Гнев вспыхнул в зрачках его. Возмущение, казалось, заклокотало в нем и готово было бурно прорваться наружу. Сквозь тонкую внешность европейца на мгновение проглянул древний абиссинец, бурный и мстительный, с кипучей кровью и неукротимыми инстинктами.
Но европеец сдерживал хамита. Он словно медленно стыл в своем негодовании. Я заметил, что он продолжал пристально смотреть на меня, стиснув губы, но глаза его гасли. На мгновение он опустил веки.
И вот снова ясный и холодный взгляд. Губы приоткрылись, лоб разгладился, и голова вежливо наклонилась.
Победа одержана.
На заявление мое звучит в ответ спокойный и невозмутимый голос:
230

— Отлично, господин виконт. Я завтра же пришлю к вам моего секунданта для переговоров о материальной стороне дуэли.
VII
В этот вечер был большой раут в австрийском посольстве. Предполагавшийся у Фикельмонов бал был отменен по случаю придворного траура.
Накануне дворцовые скороходы разнесли придворным чинам повестку:
От двора его императорского величества через сие объявляется госпожам статс-дамам, камер-фрейлинам, фрейлинам и господам придворным кавалерам.
Государь император высочайше повелеть соизволил: по случаю кончины его величества бывшего короля французского Карла X наложить при высочайшем дворе траур на двадцать четыре дня с обыкновенными разделениями, начав оный с 13 сего ноября.
Посольство Людовика-Филиппа в Петербурге приняло молчаливо известие о смерти низложенного в 1830 году Карла X. Но императорский двор, верный принципам легитимизма, облачился в глубокий траур, прервав на целый месяц течение столичных балов и больших празднеств.
Собрание у Фикельмонов было все же многолюдно и оживленно. Австрийский посол сообщал последние известия, полученные им от своего правительства об агонии и похоронах Карла X. Молниеносная холера в несколько часов унесла последнего внука Людовика XV.
— Карл X — первый Капетинг, доживший до восьмидесяти лет, — сообщил свое историческое наблюдение Фикельмон. — За восемьсот лет это единственный правитель Франции, вступивший в девятый десяток.
— Но он вступил в этот возраст уже не будучи правителем Франции, — осторожно вставил Барант.
— Карл X умер законным королем, — довольно громко заметил Жорж де Геккерн, наклоняясь к своей даме.
В отличие от всего женского общества, облаченного в полутраур — черный креп на белом шелку, — Катерина Гончарова не хотела, видимо, омрачить своей радости
232
темным платьем и, как невеста, была вся в белом. Неофициально она уже считалась обрученной и сияла от счастья.
Близость Жоржа преисполняла ее нескрываемым восхищением.
Старый Строганов продолжал беседу о последней политической новости.
— Я помню, как в 1793 году покойный Карл X, тогда еще граф Артуа, приехал в Петербург к императрице Екатерине. Он был молод и красив. Эмигранты, кажется, сильно рассчитывали, что стареющая владычица севера не откажет ему в военных силах для обратного завоевания утраченного престола Бурбонов.
— Ему удалось добиться успеха при русском дворе?
— Он был превосходно принят самой императрицей и юным «великим визирем» Зубовым. Но наша матушка царица ограничилась лишь добрыми советами, письмом к английскому королю и поднесением странствующему принцу шпаги с алмазной рукоятью.
К двенадцати часам на раут приехал Пушкин. Как и во время утренней беседы, он был возбужден и гневен. Первым делом он отозвал свою свояченицу от д'Антеса и довольно сурово отдал ей какие-то предписания, по-видимому запрещая продолжать с ним разговор. Несчастная девушка имела совершенно убитый вид. С д'Антесом он еле поздоровался и на приветствие Жоржа отвечал дерзостью. Затем, очень холодно поздоровавшись со мной, он отошел в сторону с незнакомым мне щеголеватым юношей, которому довольно долго отдавал какие-то распоряжения. Речь, по-видимому, шла и обо мне, ибо юноша несколько раз во время пушкинских наставлений пристально всматривался в мое лицо, вдевая в глаз модное стеклышко на широкой тесьме. Все это не оставляло сомнений в теме их беседы. Поединок становился, по-видимому, неизбежным.
Только к концу вечера Пушкин подошел ко мне.
— Будете ли вы завтра с утра дома, господин виконт?
Я отвечал утвердительно.
— В таком случае, не откажите принять моего представителя, графа Соллогуба, чтобы условиться с ним об одном неотложном деле.
Я поклонился, и мы разошлись.
Между тем в углу гостиной обсуждались последние европейские новости. Виельгорский сообщал подробно-
233
сти о несчастном случае в Манчестере, стоившем жизни нашей юной певице Малибран-Гарсиа. Секретарь нашего посольства рассказывал Долли Фикельмон, что в Париже снова в моде тюрбаны и марабу. Госпожа Хитрово требовала от Баранта подробностей отставки Тьера и сведений о нашем новом премьере графе Моле. Европейская политика, моды и артистическая жизнь проносились легкими отражениями в собеседованиях петербургского раута.
Жорж предложил мне ехать в посольство, чтоб обсудить еще раз положение вещей.
— Я не могу понять, чего хочет от меня Пушкин, — говорил он мне в карете. — Связанный моим романом с Катрин, я делаю все, чтобы избежать несчастья и скандала. Но я, разумеется, буду стреляться, если меня принудят к тому. И тогда берегитесь! Жизнь свою я даром не отдам, я покажу им всем, что такое сен-сирский стрелок. Если меня доведут до крайности, они увидят, как легитимисты уничтожают своих врагов.
VIII
До утра мы перечитывали документы, относящиеся к делу, обсуждая все возможности. Положение было ясно: необходимо было устранить поединок, получив от Пушкина удовлетворительный отказ от него.
Я был встревожен не только судьбою моего кузена. Мысль, что в случае поединка жизнь Пушкина ставилась под смертельную угрозу, ни на минуту не оставляла меня. Лучший представитель русского просвещения, носитель славного имени, известного в Европе, мог теперь погибнуть, если бы мы не приняли всех мер предосторожности и не проявили бы крайней уступчивости. На нас могла бы лечь ответственность за непоправимый удар, за исторический акт неизмеримого значения. Я решил напрячь все свои способности дипломата и человека, чтобы отвести от знаменитого поэта ужасную угрозу преждевременной гибели.
Дорогой Мериме, на ваш прошлогодний вопрос у Тортони я могу с полным правом ответить ссылкой на эту ночь. В долгие бессонные часы я много и напряженно думал, стремясь найти способ отвести от Пушкина нависшую над ним смертельную опасность. В этой томи-
234
тельной и воспаленной ноябрьской ночи — мое запоздалое оправдание.
К утру линия нашего дальнейшего поведения была у меня точно вычерчена. Я решил по возможности не скрывать в предстоящих переговорах моего отношения к делу.
В одиннадцать часов ко мне приехал секундант поэта граф Соллогуб.
Он был щегольски одет, немного позировал, очевидно изображая из себя представителя модного сословия «львов», говорил несколько величаво, растягивая слова и придавая легкую небрежность своим манерам и речи. Он сообщил мне, что пишет иногда от нечего делать, но отнюдь не намерен стать литератором.
Это был, в сущности, довольно занимательный светский собеседник, какие нередко встречаются в петербургских гостиных. В виде легкого вступления к нашей деловой беседе он рассказал мне, что еще в раннем детстве полюбил Париж, театры марионеток на Елисейских полях и хрупкие круглые вафли на бульварах. Он помнил, как отец его вернулся потрясенный из оперы и в ужасе рассказал об убийстве герцога Беррийского. Он вспоминал, как играл однажды в Тюильрийском саду, когда на средний балкон дворца вышел слонообразный старик, в синем мундире, с отвислыми эполетами, и обратился с речью к толпе: это Людовик XVIII объявлял народу о рождении наследника престола герцога Бордоского, впоследствии прозванного Генрихом V.
Несмотря на небрежный великосветский тон, Соллогуб проявил в дальнейших переговорах большую серьезность, умную распорядительность и сердечное участие к своему другу.
Я начал с того, что всю ночь не спал, раздумывая о предстоящем деле. Оно глубоко взволновало меня. Не будучи русским, я превосходно понимаю, какое значение имеет Пушкин для своих соотечественников, а может быть, со временем получит и для всей Европы. Необходимо сделать все, чтобы предотвратить великое несчастье.
Соллогуб горячо пожал мне руку. Он был тронут, по его словам, таким чутким отношением иностранца к величайшей русской славе.
— Наша первая обязанность, — продолжал я, — пересмотреть все документы дела. Только вчитавшись в
235
эти материалы, можно будет вывести правильные и разумные заключения.
Я развернул свою папку.
— Вот, во-первых, этот позорный анонимный пасквиль.
Когда я пишу эти строки, передо мной лежит эта роковая записка. На тонкой почтовой бумаге прямыми «полууставными» письменами, почти клинописно вычерчен смертный приговор поэту. До сих пор кровавая сургучная печать хранит кабалистический рисунок, изображающий раскрытый циркуль и пингвина у соединенных стропил на узком пере под пламенеющими языками с божьим оком. Что означает прописное А в центре этого штемпеля под нависшими кровавыми каплями двух огненных всплесков? Каков сокровенный смысл этих эмблем? В масонских ли ложах, в иезуитских братствах или в вентах карбонариев нужно искать разгадки этих знаков? Прямоугольный жирный штемпель петербургской городской почты странно контрастирует с таинственным ребусом сургучной печати. Будет ли он когда-нибудь расшифрован и нить разгадки приведет ли от этой хитрой криптограммы к неведомому автору зловещего патента, окровавившего анналы русской поэзии самой чистой, жертвенной и благородной кровью?
Мы перечли записку. Составленная по типу венской салонной игры, она целым рядом намеков, деталей и имен свидетельствовала о самостоятельной работе ее составителя. По безукоризненному французскому стилю и специальным историческим терминам можно было заключить, что эта мерзость исходила от лица высшего общества с широким научным образованием. Пушкин, как известно, заподозрил в ее авторстве барона Геккерна. Во французском посольстве мы имели основания считать ее автором министра народного просвещения Уварова.
Вот эта записка:
Кавалеры первой степени, Командоры и Рыцари светлейшего Ордена Рогоносцев, собравшись в великий капитул под председательством достопочтенного гроссмейстера Ордена, его превосходительства Д. Л. Нарышкина, единогласно назначили г-на Александра Пушкина заместителем гроссмейстера Ордена Рогоносцев и историографом Ордена.
Непременный секретарь
граф И. Борх.
236
— Автор этого грязного памфлета заслуживает пощечины от руки палача, — сказал мне через три месяца в Париже Андрей Карамзин.
С чувством глубокой брезгливости мы перечли с Соллогубом эту гнусную пародию на орденскую грамоту.
— Понятно негодование Пушкина, — заметил Соллогуб.
— Но гнев его обращен на совершенно неповинных лиц, — отвечал я.
Мы прочли затем картель Пушкина, переданный барону Геккерну Россетом, и записку поэта, в которой он объявлял, что берет назад свой вызов ввиду дошедших до него слухов о женитьбе д'Антеса на его свояченице Катерине Гончаровой.
Последнее обстоятельство было полной новостью для Соллогуба.
— Но в таком случае, — воскликнул он, — все причины для поединка отпали! Ведь все устраивается как нельзя лучше...
— К сожалению, ваш доверитель держится другого мнения, — возразил я.
— Мы его уговорим, вы увидите, — с живостью воскликнул Соллогуб. — Я вижу, что все хотят удержать Пушкина от безрассуднейшего шага. И вы увидите, это нам удастся.
— Пока, как вы знаете, положение дела нисколько не улучшилось. Вчера я был у Пушкина с извещением, что мой друг готов к его услугам. Вы понимаете, что д'Антес желает жениться, но не может допустить, чтоб о нем говорили, будто он пошел к венцу во избежание поединка. Уговорите Пушкина безусловно отказаться от вызова, без всякой ссылки на городские слухи. Я вам ручаюсь, что женитьба состоится и мы предотвратим, может быть, большое несчастье.
До обращения к Пушкину Соллогуб хотел переговорить непосредственно с д'Антесом. Мы решили встретиться в тот же день в три часа в голландском посольстве.
Жорж, впрочем, почти не принимал участия в наших переговорах. Он настаивал только на безусловном отказе Пушкина от вызова без всякой ссылки на предстоящую женитьбу. Ввиду неопределенности положения он считал необходимым немедленно же условиться о поединке.
Мы тут же установили с Соллогубом все подробности
237
предстоящей дуэли, назначив ее на 21 ноября в восьмом часу утра, после чего секундант Пушкина написал ему следующую записку:
Я был, согласно Вашему желанию, у г. д'Аршиака, чтобы условиться о времени и месте. Мы остановились на субботе, так как в пятницу я не могу быть свободен, в стороне Парголова, ранним утром, на десять шагов расстояния. Г. д'Аршиак добавил мне конфиденциально, что барон Геккерн окончательно решил объявить о своем брачном намерении, но, удерживаемый опасением показаться желающим избежать дуэли, он может сделать это только тогда, когда между Вами все будет кончено и Вы засвидетельствуете словесно передо мной или г. д'Аршиаком, что Вы не приписываете этого брака расчетам, недостойным благородного человека.
Не имея от Вас полномочия согласиться на то, что я одобряю от всего сердца, я прошу Вас, во имя Вашей семьи, согласиться на это предложение, которое примирит все стороны. Нечего говорить о том, что г. д'Аршиак и я будем порукою Геккерна. Будьте добры дать ответ тотчас.
Прочитав эту записку, я одобрил ее содержание, но не дал ее прочесть Жоржу, опасаясь возражений с его стороны. Соллогуб позвал своего кучера и направил его с запиской к Пушкину.
Часа через два мы получили ответ поэта. Успокоило ли его то, что его требование было выполнено и поединок обсужден секундантами и наконец назначен, тронула ли его сердечная просьба Соллогуба, сумевшего найти в конце письма несколько задушевных и убедительных слов, но ответ поэта был неожиданно для нас благоприятен и миролюбив. Он выполнил условие, изложенное Соллогубом, решившись дать нам даже письменное заявление в том, что не приписывает брака д'Антеса каким-либо недостойным расчетам.
Я не колеблюсь написать то, что могу заявить словесно. Я вызвал г. Ж. Геккерна на дуэль, и он принял ее, не входя ни в какие объяснения. Я прошу господ свидетелей этого дела соблаговолить рассматривать этот вызов как не существовавший, осведомившись по слухам, что г. Жорж Геккерн решил объявить свое намерение жениться на m-lle Гончаровой после дуэли. Я не имею
238
никакого основания приписывать его решение соображениям, недостойным благородного человека.
Я прошу Вас, граф, воспользоваться этим письмом по Вашему усмотрению.
Примите уверение в моем совершенном уважении
А. Пушкин
17 ноября 1836.
Соллогуб, прочитав записку, с чувством удовлетворения передал ее мне.
— Как вы находите? — спросил он.
— Этого достаточно, — отвечал я, и, не показывая записки д'Антесу, я поздравил его с предстоящим браком, все препятствия к которому отпали.
— В таком случае, — заявил д'Антес, — я прошу вас отправиться к Пушкину и передать ему мою благодарность за его готовность кончить нашу ссору. Выразите ему мою надежду, что мы будем встречаться с ним, как братья.
Мы с Соллогубом отправились к Пушкину. Он вышел к нам из-за обеденного стола спокойный, но несколько бледный. Я передал ему благодарность д'Антеса.
— С моей стороны, — продолжал Соллогуб, — я позволил себе обещать, что вы будете обходиться с вашим новым родственником как с знакомым.
— Напрасно, — вспылил Пушкин, — никогда этого не будет! Никогда между домом Пушкина и домом Геккернов ничего общего быть не может.
Я с грустью взглянул на Соллогуба. Пушкин, заметив это, сделал усилие, чтоб сдержать себя.
— Я, впрочем, признал и готов подтвердить, что господин д'Антес в этом деле действовал как порядочный человек.
— Это все, что мне нужно, — заявил я и, откланявшись, поторопился оставить квартиру поэта во избежание новых осложнений.
Такова история ноябрьского вызова. Соллогуб был прав: в течение двух недель все окружавшие Пушкина напрягали усилия, чтобы удержать его от дуэли. В этих стремлениях мне пришлось принять участие. Я сделал все, чтобы предотвратить непоправимый шаг, и по совести могу поставить себе в заслугу, что поединок 21 ноября 1836 года не состоялся. Да запомнят это мои судьи! И, быть может, вникая в огромную трудность задачи и в достигнутый мною осенью мирный исход ее, они задумаются над вопросом — достоин ли я осуждения за то, что через два месяца я был бессилен удержать катастрофу, неумолимо предопределенную всем ходом событий.
239
* * *
Через несколько дней мне пришлось на приеме у Геккерна довольно откровенно беседовать со старым Строгановым обо всей этой истории. Как близкий родственник Пушкиных, он благодарил меня за осторожное умение, с каким я вел это тонкое и трудное дело.
Я выразил графу мое удивление по поводу необыкновенной раздраженности поэта, его неуступчивости и явно проявленной им мстительности и жестокости. Я знал, что об условиях предстоящего поединка он дал предписание Соллогубу: чем кровавее, тем лучше.
— Это у него в роду, — отвечал мне старик. — Предки Пушкина — как по отцовской, так и по материнской линии — были люди пылкие, порочные, неукротимые, с бурными и жестокими страстями. История их браков — сплошная летопись преступлений. Прадед Пушкина по отцу зарезал свою жену во время родов, дед заморил свою супругу в домашней тюрьме, вообразив, что она изменяет ему с французом-учителем, которого он чуть не вздернул на ворота своего поместья. Прадед его по матери, знаменитый негр Ганнибал, принудил свою жену, красавицу гречанку, постричься в монастырь за то, что она осмелилась родить ему белую дочь. Сын его, отец покойной Надежды Осиповны, при живой жене женился на другой женщине, представив фальшивое свидетельство о смерти первой...
— Она должна была почувствовать себя весьма польщенной,— заметил с ядовитой усмешкой Геккерн.— В этом роду, где установился обычай резать жен, фальшивое свидетельство о смерти — верх любезности и человеколюбия...
И он, по обыкновению, завершил свою остроту однотонным деревянным смехом.
IX
королевское посольство Председателю совета министров
франции Герцогу Моле
в Петербурге. от барона де Баранта
20 ноября1836 г.
Общество столицы взволновано одним происшествием, не лишенным политического интереса. Считаю своим долгом сообщить о нем вашему превосходительству.
240
В московском журнале «Телескоп», издаваемом профессором Надеждиным, была напечатана в минувшем сентябре большая философская статья в виде письма к одной даме. Это суровая критика русской истории и безнадежная оценка современного состояния государства. Смелый публицист решился заявить, что его соплеменники живут среди мертвого застоя, без прошедшего и будущего, оторванные от всех великих семейств человеческого рода, не затронутые общим воспитанием человечества и ходом всемирной истории. Сравнивая летопись своей страны с развитием Западной Европы, автор приходит к мрачному выводу, что его соотечественникам чужды идеи долга, справедливости и права и в стройном нравственном миропорядке народов родина его представляет печальный пробел. «Мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих, мы ничего не сделали для общего блага людей, ни одна полезная мысль не родилась на бесплодной почве нашей родины, ни одна великая истина не вышла из нашей среды». Таково безнадежное сужденье автора о русской истории, резко противоречащее панегирическим построениям покойного Карамзина.
При том глубоком и грозном молчании, какое полновластно господствует в России, письмо это представляется актом высокого гражданского мужества. Этот одинокий публицист бесстрашными глазами вгляделся в окружающую действительность и с ошеломляющей правдивостью высказал свое раздумье о ней прямо в лицо господствующей власти. Он знал, на что он идет, — и не ошибся.
Статья по своей смелости произвела сильнейшее впечатление на общество обеих столиц и вызвала неслыханный гнев правительства.
Вот главные сведения об ее авторе. Это известный московский барин Петр Чедаев или Чаадаев. В молодости он был на пути блестящей военной карьеры, служил в гусарах, прочился в личные адъютанты к императору Александру. Но после известного возмущения Семеновского лейб-гвардейского полка в 1820 году он был послан курьером к государю на конгресс в Троппау и вслед за тем, по невыясненным причинам, вышел в отставку. Впоследствии стало известно, что со многими деятелями 14 декабря он был в дружеской связи. Он прожил затем несколько лет в Европе — в Англии, Франции и Германии — весьма уединенно и, видимо, много работая. Поселившись по возвращении на родину в Москве, он
241
занимался преимущественно философией. Его считали одним из культурнейших представителей московского общества, и недавний русский посол в Париже граф Поццо ди Борго, как уверяют, любил говорить, что Чаадаеву необходимо постоянно разъезжать по Европе, чтоб иностранцы могли видеть «вполне порядочного русского».
Гоненья на Чаадаева за опубликование его философского письма открыл министр народного просвещения Уваров. Он сделал в соответственном духе доклад императору. Московский цензор, пропустивший статью, смещен, редактор «Телескопа» профессор Надеждин сослан. Но самому небывалому наказанию подвергнут автор статьи: он официально объявлен умалишенным и отдан на попечение московских полицейских врачей, которые обязаны ежедневно являться к нему для проверки его душевного состояния и выяснения степени опасности, представляемой им для окружающих.
В заключение приведу мнение об этом событии одного из умнейших русских людей. Поэт Пушкин, личный друг Чаадаева, сочувствуя во многом его суровой оценке русского общества, лишенного самостоятельного мнения и чувства уважения к мысли и достоинству личности, полагает все же, что Россия исторически была призвана спасти европейскую цивилизацию от татарского разгрома и своим мученичеством способствовать развитию новой Европы. Мнение — свидетельствующее о глубине и возвышенности исторических воззрений этого писателя.
Я позволю себе в заключение заметить, что стороннему наблюдателю позволительно внести одну поправку в историческое построение господина Чаадаева: в его лице Россия, быть может, впервые произносит самостоятельное и глубоко своеобразное слово об исторических судьбах Востока и Запада. Как ни печальны обстоятельства появления этой статьи, необходимо признать, что именно она отмечает знаменательный момент в истории русского умственного развития: нарождение самобытной философской мысли, быть может, призванной служить Европе и человечеству.
В следующей депеше я буду иметь честь сообщить Вашему превосходительству о приеме, назначенном дипломатическому корпусу на ближайшее воскресенье в Зимнем дворце.
Де Барант.
242
X
Всю вторую половину декабря д’Антес, простудившись на разводе, пролежал в сильной лихорадке. Роман и свидания с Катрин были, конечно, прерваны. Зато усилилась переписка между женихом и невестой. Без памяти влюбленная в него, она писала ему обо всем, что могло его интересовать, понимала все намеки в его записках, рассказывала ему свою жизнь, сообщала фамильные предания и тайны.
Для связи моего рассказа я приведу некоторые отрывки из этих писем.
14 декабря 1836.
...Ты удивляешься, друг мой, как могла я, русская девушка, так быстро и сильно полюбить тебя? Но ведь я отчасти твоя соотечественница: в жилах моих течет кровь далеких южных народов. Моя бабка по матери была француженка, и я никогда не ощущала в себе ничего северного и славянского. Моя мечта — оставить наши снежные сугробы, выехать навсегда из этого отвратительного Петербурга и поселиться с тобой под южным небом, в солнечных странах. Неужели эта мечта никогда не сбудется?..
17 декабря.
...Да, ты прав, нас три сестры, но ни одна не похожа на другую. И не только по наружности, но и еще более по склонностям души. Александрина создана быть матерью, я — возлюбленной, Натали — вечной девственницей. Окруженная легионами вздыхателей, которые забавляют ее своим поклонением, как ребенка, она глубоко равнодушна ко всем.
Верь мне, она любит только своего мужа, горячо привязана к нему, глубоко ему верна. Она и мысли не допускает о возможности изменить ему. Натали всегда была целомудренна, в девичестве — образец чистоты, в браке — идеал верности. Она создана, чтобы быть другом, женою и матерью, как Александрина, но любовницей — никогда. За шесть лет ее супружества она не перестает носить детей или растить их — у нее уже их четверо и будет еще. Если в этом браке кто-нибудь имеет право на ревность, это, конечно, не муж, а жена. Жгу-
243
чая страстность Пушкина слишком часто — увы! — переходит все границы допустимого, и счастье сестры, что она чрезмерно доверчива и многого не замечает... Иногда мне даже кажется, что он ее недостаточно любит и женился только из тщеславия на первой красавице в России. Меньшее он считал бы недостойным своего имени. На самом же деле он с ней обычно игрив, иногда нежен и ласков, подчас вспыльчив и резок, но, кажется, никогда не бывает с ней откровенен, серьезен, задушевен. Она для него только драгоценная игрушка, он гордится ею, но с ней не считается.
Ты хочешь знать мнение о тебе Пушкина? В продолжение двух лет вашего знакомства он всегда отзывался о тебе с интересом и добродушием. Он, помню, несколько раз повторял твои удачные каламбуры и от всего сердца хохотал, рассказывая их. Считал тебя всегда образцовым мужчиной, созданным для успеха у женщин. Но теперь ты должен остерегаться Пушкина.
21 декабря.
Долго ли мне еще терпеть муку этой невыносимой разлуки с тобою? Не видеть тебя, не чувствовать твоих прикосновений, не растворяться в страсти к тебе, — что может быть ужаснее этого великого отреченья? Какая гордость чувствовать в себе новую жизнь, тобою зарожденную! Пусть она растет, — чтоб сильнее слить нас воедино. Сын никогда не заслонит во мне любви к отцу, он только углубит и усилит страсть к своему прекрасному создателю. Не беспокойся обо мне, — здоровье мое не оставляет желать ничего лучшего, сестры берегут меня и следят за каждым моим шагом. Пушкин держит себя с достоинством и ни разу не разговаривал со мной об этом. Выздоравливай же скорее — я не дождусь дня нашей свадьбы. Я хочу наконец никого не бояться, ничего не скрывать, любить тебя, мой святой Иоанн, открыто и горячо перед целым светом...
* * *
...Я неоднократно беседовал впоследствии за границей с баронессой Геккерн. Из разговоров с ней я узнал многое из ее семейной жизни в последние месяцы перед браком. Как с ближайшим другом и родственником ее мужа, она была со мной чрезвычайно откровенна. Ис-
244
кренне любя свою младшую сестру, она горячо защищала ее от всяких обвинений. Описывая в подробностях семейную жизнь Пушкиных, она невольно объяснила мне многие непонятные для меня обстоятельства в истории их последних месяцев.
— Я и моя вторая сестра Александрина — мы по-настоящему женщины. В нас есть нечто от южной крови. Мы умеем любить, увлекаться, гореть страстью. Но Натали всегда была и навсегда останется девочкой. Она бесстрастна и чиста, как ребенок.
Гораздо позже д'Антес со слов жены раскрыл мне некоторые семейные тайны. Оказывается, мать сестер Гончаровых, которую никто из нас, к счастью, никогда не видел, отличалась ужасающими наклонностями. В молодости красавица, по слухам отбившая у императрицы Елизаветы Алексеевны любовника-кавалергарда, мать-Гончарова в браке сильно опустилась. Она стала ханжой, предалась пьянству и низкому разврату. Окруженная богомолками и мужской челядью, она любила погружаться в чтение душеспасительных книг и принимать ласки своих лакеев. Ей было что замаливать перед образами и лампадами своих киотов. Разнузданная, вспыльчивая и своенравная, она держала своих дочерей взаперти, как в темнице, била их по щекам и, несомненно, была причиною сумасшествия своего мужа.
— Однажды, еще в Петербурге, за несколько дней до дуэли, — рассказывал мне как-то в Париже д'Антес, — Катрин, видя мое неудержимое влечение к Натали, рассказала мне, вся в слезах, один эпизод из своего семейного прошлого.
Сестры еще были тогда подростками, почти детьми. Катрин едва минуло шестнадцать лет, Натали — двенадцать. Мать буйствовала и давала волю своим порокам. Старшие сестры старались всячески оберечь младшую от ужасного влияния и тяжелых впечатлений. Но в атмосфере неслыханной домашней распущенности это, к сожалению, не всегда удавалось. И вот однажды, в ранний утренний час, Катрин, пригладив локоны своей младшей сестренки, повела ее в далекую маленькую гостиную, чтоб засадить за французские вокабулы. Пробежав по паркету огромного зала, они стремительно влетели в тесную диванную... и застыли как вкопанные. Камин уже был растоплен, и свежие дрова с треском пылали за чугунной решеткой. Огромная вязанка поленьев подпирала мраморный пилястр... А перед пылающим
245
очагом на длинношерстной медвежьей шкуре, разметав по густому меху волосы, руки и ноги, лежала в судорогах и стонах звериной страсти мать-Гончарова под восьмипудовой тушей рыжебородого истопника.
Ужас сковал маленькую Наташу, ужас, разразившийся жестоким припадком. Он оставил навсегда свой след. Девочка была как бы морально ушиблена, она стала замкнутой, робкой и застенчивой. Она дичилась людей и любила в одиночестве слагать стихи. Она мечтала стать поэтессой. Вот почему, когда перед ней, шестнадцатилетней девочкой, предстал Пушкин, величайший поэт ее страны, он показался ей полубогом. Гордая его вниманием, поклонением и строфами бессмертных гимнов, внушенных ее расцветающей красотой, она в восхищеньи, сияя от счастья, отдала ему свое сердце — сразу и навсегда. Никого другого, по словам Катрин, Натали никогда не полюбит...
Так выступил перед нами темный угол одной старинной родословной, неожиданно озаренный ревнивою тревогою молодой баронессы Геккерн.
XI
Осенью в литературных гостиных Петербурга много говорилось о предстоящем крупном событии.
Композитор Глинка написал первую русскую оперу. Большой театр усиленно готовился к постановке «Ивана Сусанина».
— Этой оперой, — сказал мне Виельгорский, — решается вопрос, важный для искусства вообще и для русского искусства в особенности, а именно: существовать ли русской музыке?
Так относился к театральной новинке весь образованный круг столицы. Уверяли, что русские мелодии Верстовского и Геништы только слабое предвестие той могучей стихии народной музыки, какую дал в своей опере Глинка.
В начале зимы состоялось наконец первое представление.
Оно совпало с открытием Большого оперного театра после перестройки.
Здание, воздвигнутое французскими архитекторами, было по желанию царя переделано наново: круглый купол был заменен плоским плафоном; ряды высоких лож
246

были сближены, образуя пятый ярус; изящный усеченный овал зала был расширен и разбух почти до полного круга: здание увеличилось, но, по мнению знатоков, потеряло в стройности, соразмерности частей и легкости очертаний. Но зато, по желанию царя, значительно увеличились наружные украшения лож, потолка, коридоров и лестниц; всюду были рассыпаны в чрезмерном изобилии лепные атрибуты искусства, расточительно пролилась позолота, бархат отянул места и повис тяжелыми складками над барьерами лож, бронза люстр и жирандолей засверкала со всех сторон. Получился тот эффект казенной парадности, блеска и пышности, который так любезен вкусу императора Николая.
Царь — первый театрал Петербурга. Согласно старинным представлениям царской власти, зрелища отвлекают умы от смуты. В тревожные эпохи предки Николая Павловича обращались к этому испытанному средству народного успокоения. Когда в шлиссельбургском каземате был умерщвлен бабкою нынешнего царя Екатериною один из претендентов на ее престол и казнены его сторонники, — на большой столичной площади была устроена блистательная карусель — рыцарское ристалище в римских, турецких, индейских и славянских одеяниях.
Сам фельдмаршал Миних был главным судьей состязаний.
Император Николай поощряет зрелища, строит театры, выписывает иностранных актеров, субсидирует дорогие постановки. Это одна из отдушин для вольномыслия и недовольства.
Вот почему такие театральные события, как первая постановка «Сусанина», превращаются в большие придворные празднества. Театр наполняется вельможами и государственными деятелями. Сам представитель верховной власти возглавляет зрителей премьеры.
Из ложи Баранта я оглядел парадный чертог, наполненный знаменитостями столицы.
Высший круг петербургского общества расположился в партере и ложах. Послы со своими семьями. Геккерн в ложе с д'Антесом и секретарями нидерландского посольства. Министры, свита. Виднейшие сановники, опираясь о перила оркестра, благосклонно и не без игривости, озирали в лорнеты и трубки блестящую линию бенуаров. Бархатные береты и парчовые тюрбаны медлительно наклонялись из лож в ответ на глубокие при-
248
ветствия из кресел. Пернатые веера чуть заметно колыхались у обнаженных плеч, оживляя ритмическим движением искрометную игру ожерелий и брошей, струящих в легкой дрожи дыханий и поклонов мерцающие потоки своих искусственных лучей.
К началу спектакля у барьера царской ложи появилась фигура Николая в ярко-красном мундире. Как оперный премьер после удачной арии, он раскланивался с публикой, поднявшейся при его появлении. Кланялась и царица. Как полагается в театре при появлении известных актеров, публика выражала свое удовольствие громкими возгласами.
Оперный спектакль принимал облик политической манифестации.
«В России нет ничего, но есть песни, от которых хочется плакать», — вспомнились мне слова Глинки, когда прозвучала блестящая и заунывная увертюра его первой оперы.
Начало действия обнаружило мастерство композитора в народных хорах. Но уже вторая картина — бал у польского начальника — раскрыла все разнообразные возможности автора.
Польские танцы, на которых построено действие, — полонез, мазурка, краковяк, — написаны в старинном вкусе, но отделаны со всем блеском новейшей музыкальной техники. Гонец с тревожным политическим известием вносит бурю в резвые темпы мазурки. Бал продолжается с прежним вихревым порывом плясок, охваченных беспокойством зловещих предчувствий. Композитор с большим искусством вводит в национальные польские напевы драматические мотивы своей основной темы.
Польские танцы ставил преемник знаменитого Дидло балетмейстер Титюс с тем утонченным и фееричным блеском, с каким исполняются на русской сцене балетные спектакли с конца восемнадцатого века. Польские латники с широкими крыльями за плечами проносились с шуршащим вихрем по сцене.
К моему изумлению, вся эта праздничная и увлекательная картина прошла при глубоком молчании публики и не вызвала ни единого хлопка.
— Это политическая демонстрация, — тихо объяснил нам Фикельмон. — Царь не желает хлопать польским танцам и польским ариям. Только пять лет тому назад Дибич терпел поражения на путях к Варшаве. Та-
249
кие раны не залечиваются. И вот весь театр, по воле своего повелителя, безмолвствует...
В антракте мы осмотрели внимательно публику. Помимо дипломатического корпуса, комитета министров и гвардии, в театре находился весь литературный Петербург. Жуковский, Вяземский, журналисты из «Северной пчелы», семейство Карамзиных, Пушкин с тремя своими юными спутницами. Геккерны на правах родственников подходили к барьеру этой ложи. Молодые женщины весело и оживленно беседовали с «модным кавалергардом», и только Пушкин, отойдя в глубь ложи и почти скрывшись в тени, безмолвно и пасмурно наблюдал за их беседой.
Польшу сменяет Московия. Бурю патриотического восторга вызывает центральное действие оперы, когда герой, погибая в лесной глуши, куда он завел отряд поляков, поет свою прощальную арию. Царь был доволен национальным духом сцены и подал знак к рукоплесканиям, сорвавшимся ураганом.
Всем было ясно, что «Жизнь за царя» — политическая опера. Либреттист ее, барон Розен, в сущности, развернул тему монархического гимна в большую музыкальную композицию с хорами, балетами, каватинами, интродукциями и эпилогом. Текст оперы четко отражает правительственную программу. Это легитимизм Николая I в ариях, квартетах и ансамблях большого оперного стиля. Это спор о царе якобы «законном» — родоначальнике Романовых — и дерзких притязаниях узурпатора Сигизмунда. Нечто вроде столкновения Бурбонов с Орлеанами в сугробах и чащах Восточной Европы семнадцатого века. Через всю оперу проходит официальный лейтмотив придворных поэтов и дворцовых композиторов о спасении, охране и прославлении царя. Слова главных арий удивительно совпадают с патриотическими статьями правительственных газет. Это особый вид вокальной публицистики, возможной, кажется, только в России. Теноры и альты упражняются в прославлении «законной династии», в громозвучном восхвалении русской воинской мощи, в музыкальной пропаганде самодержавных идей. Поистине поразительно, с каким блеском и мощью чудесный гений композитора одержал победу над безнадежной казенщиной этого низкопоклонного либретто.
— Глинка посвящен во все таинства итальянского пения и германской гармонии, — говорил нам Виельгор-
250
ский, — но при этом он глубоко проник в характер русской мелодии. Он доказал своим блистательным опытом, что наш русский напев, то заунывный, то веселый, то удалой, может быть возвышен до трагического стиля.
— В оперу введены русские народные мотивы? — поинтересовался Барант.
— Во всей опере лишь два первые такта взяты из известного народного напева... И все же с оперой Глинки является то, чего давно ищут и не находят в Европе: новая стихия в искусстве, новый период в его истории — эпоха русской музыки.
Общий восторг разделялся, видимо, не всеми. Плотный и жирный зритель, несколько неопрятно одетый, обстоятельно доказывал Виельгорскому, что его восхищение преувеличенно.
— Увертюра полна замешательства, слишком много хоров, слишком мало арий и дуэтов, следственно, мало действия, — говорил этот ценитель, — опера, извините, скучна.
Это был редактор «Северной пчелы» поляк Булгарин, многократно заклейменный эпиграммами Пушкина. Журналист этот состоял на службе у правительства. За его чрезмерную близость к высшей полиции и серьезные услуги, оказываемые им Бенкендорфу по части осведомления шефа жандармов о жизни столичных писателей, Пушкин прозвал его фамилией нашего знаменитого сыщика Видока.
— Мы ожидали найти патриотические гимны, напевы, проникнутые русским духом и священной стариной, — говорил этот поляк, ставший идеологом российской монархии. — И мы ничего не нашли: ни поэзии, ни мысли, ни слога...
При этом его грузные щеки отвисали, придавая презрительную складку углам рта, а рачьи глаза недоуменно выкатывались.
— Вы ошибаетесь, — небрежно роняя свой монокль на широкой тесьме, заметил Соллогуб, — сегодня впервые русская тема в музыке перестает смахивать на карикатуру. В звуках Глинки так и рисуются березы и сосны, и степь бесконечная, и изба затворническая, и река многоводная...
— При этом стихи барона Розена прелестны, — защищал либреттиста Виельгорский.
251
— Помилуйте, — упорствовал Булгарин, — что значит: страха не страшусь? Какой логический и грамматический смысл в этом выражении? По-русски ли это сказано?
И его шарообразная голова с мясистым носом и плоскими бачками возмущенно уходила в смятые воротнички.
Оперой была недовольна и вице-канцлерша Нессельроде.
— Это музыка для кучеров, — строго заметила она Баранту.
Но заключительная сцена народного ликования в Кремле, с замечательным искусством поставленная машинистом и декоратором Роллером, снова вызвала бурю восторгов.
Театр встал и долго не хотел прекратить своих рукоплесканий. Занавес поднимался и застывал над картиной клокочущих толп на фоне флорентийских башен кремлевской стены. Я еще раз окинул взглядом зрительный зал.
Вдоль бархатных барьеров стоял, снисходительно улыбаясь и величественно аплодируя, весь официальный Петербург. Мало заботясь о новых путях русской музыки, он рукоплескал посрамленью Польши и возвеличению русской царской идеи в лице романовской династии. Весь спектакль был для него сплошной политической демонстрацией, вызывавшей гробовое молчание или бурные плески из недр правительственных лож.
Царь и министры ни на мгновенье не забывали о текущих соотношениях политических сил.
Я оглядел эту блещущую и пышную фалангу. Предо мною вытянулся несокрушимый фронт единой политической воли. Крепко спаянная партия. Всеевропейский легитимизм в лице своего русского отряда и санкт-петербургского штаба. Тяжеловесная, гнетущая сила, всеподавляющая и беспощадная. Верховный лозунг Меттерниха, облеченный в мундиры российской гвардии. Священный союз, заливающий кровью поля Европы и воздвигающий гильотины и виселицы на окраинных площадях и крепостных верках всех своих столиц. Недвижный оплот застоявшихся исторических скоплений, смертельно угрожающий всякому свободному устремлению в будущее.
252
Вот они все предо мной. Мертвенно-неподвижное лицо предводителя и вождя этих сил — самодержца всероссийского. В соседней ложе, щуря глаза, высится военный министр. Ордена европейских дворов излучают алмазное сияние, а толстые серебряные шнуры, подобно кудрям Горгоны, змеевидно обвивают его плотный стан, крепко схваченный кавалерийским корсетом. Впереди, с вытянутым лицом, холодным и тусклым взглядом, застылой улыбкой и крылатыми зачесами над блестящей лысиной, — гроза и ужас всех и каждого — граф Бенкендорф. Рядом с ним — сладострастный гном с горбатым клювом совы, украсивший грудь литым изображением закланного агнца на красной шейной ленточке. Это российский вице-канцлер, кавалер высшего австрийского отличия — ордена Золотого руна.
А там, в глубине и полусумраке одной из лож, искаженное гневом и мукою лицо поэта. Он одинок и кажется бесконечно утомленным и замученным. Он уже не в силах скрыть великой сотрясенности всего своего существа от невыносимого страдания. Мне кажется, я снова вижу сквозь горящий и темный взгляд вздрагивающее сердце, исходящее мукой и болью. Так должен смотреть на свору одичавших гончих затравленный олень.
И от всего этого торжественного зрелища, от великого художественного события, от исторического момента нарождения самобытной русской музыки, от новой отделки Большой Оперы, от триумфа Глинки, балетов Титюса, декораций Роллера и блистательного парада российского легитимизма мною с неизгладимой силой запоминается навсегда в глубине полутемной ложи бледное, измученное, искаженное лицо поэта с темным огнем в испуганных и негодующих глазах.
* * *
Когда Сен-Симон в своих записках доходит до 1699 года, он надписывает на полях: «Смерть Расина».
Рассказ мой докатился до 1837 года. Я могу надписать такое же заглавие и продолжать, как мой пращур:
«Расин был великим поэтом... Но немилость короля привела его к могиле».
253
ГЛАВА ШЕСТАЯ
La plus volontaire mort c'est la plus belle.
Montaigne. Essais II, 31
I
ПРИКАЗ № 1
ПО КАВАЛЕРГАРДСКОМУ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА ПОЛКУ
от 1 января 1837 года.
С разрешения Г. Командующего корпусом, объявленного в предписании его высокопревосходительства от 28 минувшего декабря за № 1358, просящему позволенье вступить в законный брак г. поручику барону де Геккерну с фрейлиной двора ее императорского величества Екатериною Гончаровой — дозволяется. О чем и делаю известным по полку.
Командир полка
Барон Грюнвальд.
II
В воскресенье 10 января состоялась свадьба д'Антеса.
Молодые, ввиду различия их исповеданий, были обвенчаны дважды.
Все было обставлено согласно старинным обычаям: «посажеными» невесты были Строгановы, жениха — барон Геккерн и графиня Нессельроде; свидетелями — супруги Бутера. Посланник Обеих Сицилий нежно относился к Жоржу за герцогиню Беррийскую, принцессу Сицилианскую. Брат невесты — Иван Гончаров и товарищи Жоржа по полку — ротмистр Огюстен Бетанкур, полковник Полетика и я — были шаферами.
Я прослушал одну за другой две свадебных службы: на фоне пасмурной византийской росписи стен, у лепного золота иконостасов, под запевы густых басов и хоры детских голосов длиннокудрый, длиннобородый патриарх обводил венчающихся с напевными речитатива-
________________________
1 Самая добровольная смерть — самая прекрасная. Монтень. «Опыты», II, 3 (фр.).
254
ми вокруг аналоя. В часовне неаполитанского посольства, среди мраморных дев и деревянных Францисков, в разноцветных отсветах витражных роз, под глубокие стоны органа доминиканский патер с острым профилем кардинала Капелари взмахивал своей лиловой рясой, обращая к новобрачным звучные стихи средневековой латыни.
Пушкина не было на венчании. Но жена его присутствовала на свадьбе сестры. Я уловил выражение печали на ее бесстрастном лице. Не впервые ли подлинное страдание, а не отдаленное предчувствие его отбрасывало свою тень на это неомраченное чело?
После двукратного венчания состоялся большой прием в голландском посольстве.
Д'Антес был сдержан, но взволнован. Он пытался быть любезным и веселым, но это явно не удавалось ему. Гораздо лучше исполнял свою роль барон Геккерн. В сущности, свадьба Жоржа была для него великим крушением и личных и материальных его расчетов. Но все же удачный политический ход разрешал возникшие трудности и устранял нависшие опасности.
И представитель Голландии, скрывая горечь пережитых обид, радовался крупной победе. Так должен был чувствовать себя Талейран после Венского конгресса, когда он отвел от израненной Франции угрозу раздела.
И вот, вслед за бракосочетанием, — две недели беспрерывных приемов, раутов, балов, спектаклей, одно сплошное и беспечное празднество, захватившее в свой круг пятнадцать полярных ночей, чтоб неожиданно и мгновенно прочертить в живой летописи слагавшихся событий свой незабываемый кровавый след.
III
Январские балы 1837 года! Я помню во всех подробностях их праздничное блистание среди огней и гирлянд, под пение и легкие вздохи невидимых оркестров. В нарядной толпе этих торжественных шествий и размеренных полетов, под ритмы плавных полонезов и переливчатых кадрилей, среди пышных сановников и пудреных старух я вижу несколько лиц — мечтательных, влюбленных, встревоженных и скорбных.
На пестром фоне разноцветных шелков и мундир-
255
ных расшивок мелькает предо мной решительный и смелый облик веселого игрока, все бросившего на карту неверной судьбе. Я вижу его гибкую молодую фигуру, стремительно кидающую привычным кавалергардским жестом бесконечную цепь танцоров в легкий круговорот котильона.
Рядом с ним озаренное всеобщим поклонением задумчивое и беспечное лицо юной женщины, высоко возносящей свою чудесную красоту над всеми житейскими треволнениями.
Вокруг них я вижу троих: один не может скрыть под напряженной маской светского спокойствия невыразимую муку глубокой душевной боли при каждом взгляде на эту сияющую чету, колеблемую ровными волнами размеренного бального танца.
Еще два лица, две сестры: одна ревниво и влюбленно не сводит своих горящих глаз с той же танцующей пары; другая с обожанием и встревоженностью матери, предчувствующей нависшую над сыном беду, пристально следит за страдальческим взглядом поэта, все зная, все понимая, все предугадывая, но не будучи в силах ничего предотвратить, удержать или остановить в неумолимом беге несущихся событий.
А между тем на балах у Баранта и Воронцовых, у Салтыковых и Разумовских, на вечерах у Вяземских, Мещерских и Карамзиных, на раутах Фикельмонов и Строгановых — всюду неощутимо росла и зрела великая тревога надвигающегося страшного бедствия, заметного лишь немногим — самым зорким и чутким.
— Будьте осторожны, д’Антес, — говорила при мне однажды сердечно-умная Карамзина, — вы — друг моих сыновей, и я могу говорить с вами, как с сыном. Не испытывайте терпения и сдержанности Пушкина, — этот великий человек не отвечает за себя в припадке гнева и страсти. Удаляйтесь от всего, что может вызвать новый взрыв, избегайте ненужных встреч, забудьте о вашем безрассудном увлечении. Не то — новый вызов, на этот раз уже безвозвратный, не то катастрофа, едва ли не смертельная...
— Я делаю все, чтоб ее избежать, все, что в моих силах...
— Делайте больше, свыше сил. Подумайте, в случае нового столкновения вы либо жертвуете собой, либо отнимаете отца у четырех малюток, Пушкина — у России, гениального поэта — у человечества.
256
Д'Антес задумывался... Но через мгновение он уже звонко предводительствовал легкими отрядами кадрили или с заразительным хохотом произносил во всеуслышанье веселые и рискованные каламбуры о двух необычайных петербургских семьях — Геккернов и Пушкиных.
Я стал замечать, что после свадьбы Жорж резко изменил свое отношение к поэту. Если осенью он был связан необходимостью женитьбы на Катерине Гончаровой, чтоб выполнить долг порядочного человека и не уронить себя окончательно в глазах ее младшей сестры, — теперь он почувствовал себя свободным. Настала его очередь занять господствующее положение и диктовать свою волю Пушкину.
— Он вздумал, — говорил мне как-то д'Антес, — распускать слухи, будто я спрятался за юбку от его пистолета. Так я же докажу ему, боится ли первый стрелок Сен-Сира дуэли с русским сочинителем. Поверь, я заставлю его выйти к барьеру, и посмотрим тогда, кто проиграет в этой рискованной игре...
Тщетно мы с посланником старались умерить воинственность моего кузена. На всех балах и приемах Жорж с подчеркнутым видом старался выказать свое обожанье госпожи Пушкиной. Он не отходил от нее, не сводил с нее глаз, приглашал на танцы, подносил угощенье. Дерзость поклоненья заострялась вызывающей насмешливостью. Д'Антесу передали ироническую остроту Пушкина по поводу его женитьбы: «Tu l'as voulu, Georges Dandin!» 1 И вот в ответ он не упускал случая задеть Пушкина, бросая мимоходом рискованные каламбуры, намеренно грубые и пошлые, которые не могли не вывести из себя раздраженного и ревнивого поэта.
— Он думает, что отомстил мне сарказмами над моей женитьбой, — заметил мне Жорж на балу у Воронцовых за несколько дней до дуэли. — Он не рассчитал, что я сумею воспользоваться своими родственными правами, чтобы сделать его рогоносцем. Увидим, кто посмеется последним...
И финальную мазурку бала первый кавалергард Петербурга уверенно, весело и заносчиво вел в паре с прославленною Афродитою Невы.
_________________________
1 Ты этого хотел, Жорж Данден! (фр.) Выражение из комедии Мольера «Жорж Данден».
257
IV
В январе 1837 года происходили первые поездки по отстроенному участку Царскосельской железной дороги от Павловска до Кузьмина. Еще в самом начале месяца состоялись пробы машин.
Мы были приглашены испытать новый способ человеческого передвижения в воскресенье 24 января в одиннадцать часов утра.
В ранний час, в мороз и солнце, двинулись мы санями из Петербурга в Павловск. Я ехал вместе с д'Антесом. По пути он подробно излагал мне новые деловые комбинации, возникавшие во Франции и других странах в связи с необходимостью строить чугунные дороги. Государства вырабатывали особые системы субсидий, ссуд, концессий, привилегий и гарантий, обогащая частные компании и отдельных предприимчивых людей. Джемс Ротшильд удвоил свои капиталы акциями Версальской железной дороги. Д'Антес мечтал приобщиться к этому источнику неслыханных обогащений и исчислял мне в миллионных цифрах возможную прибыль.
Кузен мой был превосходный математик.
Несколько сот саней теснилось в Павловске у огромного полукруглого павильона. Это был тот увеселительный вокзал с рестораном, о котором произнес ходячую остроту министр финансов Канкрин: «В других государствах железными дорогами связываются важные промышленные пункты, — у нас выстроили такую в трактир».
Тысячная толпа собралась у насыпи и протянулась вдоль рельс. Мы с трудом пробрались к месту отбытия паровых карет.
Первый обоз был готов к отправлению. Он состоял из паровоза, тендера с дровами и водою, особой повозки с английской трубной машиной, двух берлинов, двух дилижансов, двух вагонов, двух шарабанов и, наконец, из семисаженной фуры, предназначенной для строевого леса, но на этот раз занятой пассажирами. Каждый обоз простирался на триста футов в длину. Места брались с бою. Свыше трехсот человек можно было уместить в ряду разнообразных экипажей, составлявших единую цепь с паровозом. Женщины отважно занимали места и даже боролись за свое право испробовать новый способ быстрой езды.
Паровая машина гениального Стефенсона, с ее печью, котлом, цилиндрами и насосами, уже тяжело взды-
258
хала, как огромное допотопное животное, готовое ринуться в пространство.
На паровозе стоял кавалер Герстнер. Лицо его было радостно и почти вдохновенно. Он должен был собственноручно повести первый паровой поезд вдоль сугробов северных равнин. С гордостью и восхищением оглядывал он проложенные им тонкие стальные полосы, с неумолимой точностью устремлявшиеся из-под колес его огнедышащей машины в синеющие снежные дали.
Раздались пронзительные сигнальные свистки, и под звуки оркестра, заглушаемые тяжкими вздохами локомотива и грохотом бесчисленных колес, железное чудовище, выпуская из чугунной трубы густые клубы черного дыма, медленно тронулось в свой прямолинейный путь. С каждой секундой оно ускоряло свой стальной пробег, повышая ритм своих стуков и унося нас с невообразимой быстротой мимо еле мелькающих деревьев и построек. Нами овладело чувство полета и воздушной устремленности в какие-то неведомые миры.
Я вспомнил слова Жюля Дюверье:
«Машины, гром и свист которых ухо улавливает еще издали, несут в недрах своего раскаленного чрева бесконечное количество малых революций, из которых вырастет со временем великая и общая революция...»
Когда, возбужденные нашей необычайной поездкой, мы неслись в санях обратно в Петербург, д'Антес сообщил мне, что бросил последнюю ставку. Он написал письмо Пушкиной, рассчитанное на ее мягкость и глубокое обожание старшей сестры. В письме он подчеркивал, что обращается к ней не как влюбленный мужчина, а как брат, вынужденный посоветоваться с нею о важнейших семейных делах. Он намекал, что предстоящий разговор одинаково важен для обоих семейств, как Геккернов, так и Пушкиных, от которых он отведет нависшую над ними угрозу страшной беды.
Я попрекнул д'Антеса за новый неосторожный шаг. Нам было известно, что жена поэта проявляла подчас чрезмерную откровенность в беседах с мужем, — что, если она покажет ему это письмо? Каким новым взрывом разразится Пушкин?
— Идалия обещала мне устроить все с величайшей осторожностью. Она сама передаст письмо и потребует его немедленного уничтожения после прочтения.
— А если содержание его станет известным Пушкину?
259
— Тем лучше, Я хочу теперь поединка. Я докажу всем, что женился не под угрозой пистолета.
Я остался при моем убеждении, что предпринятый д'Антесом шаг был крайне опрометчив.
Но я был совершенно бессилен переубедить его.
V
В понедельник 25 января мы справляли день рождения д'Антеса. Вечером у Геккернов собрался тесный круг друзей — Строгановы, Полетики, несколько кавалергардов. Молодая хозяйка посольства, несмотря на свое недомогание, заметно оживляла холостой быт квартиры на Невском.
Пили шампанское. Трубецкой, чокаясь с бароном Геккерном, провозгласил тост за избавление от африканской опасности.
— Это было, пожалуй, труднее, чем возвратить Бельгию Голландии, — с улыбкой глубокого удовлетворения сознался посланник.
— Вы несравненный дипломат, барон, — заметил Строганов, — это, конечно, один из тончайших ходов вашей политической карьеры. Как полномочный министр при трех державах, я могу оценить этот сложный и верный маневр.
И Строганов пригласил нас к обеду на следующий же день для семейного ознаменования счастливо избегнутой опасности.
Д'Антес под каким-то предлогом повел меня к себе и рассказал мне все, что произошло днем.
С четырех часов он ждал на квартире Идалии Полетики в кавалергардских казармах приезда Пушкиной. Уверенности в успехе не было, и от надежды он переходил к унынию. В исходе пятого часа раздался звонок. Идалия вышла и вернулась с Натальей Николаевной, растерянной и встревоженной. Она собиралась о чем-то переговорить с Идалией, но та не захотела слушать, вышла, смеясь, из комнаты и, как оказалось, отправилась в город, оставив своих гостей вдвоем.
Жорж решил действовать быстро и стремительно: согласно испытанному офицерскому обычаю, он бросился к ногам Пушкиной и, выхватив пистолет, поклялся, что застрелится у ее ног, если она не согласится тут же увенчать его страсть. Но вместо того, чтоб убедить не-
260

уступчивую женщину, он ее окончательно напугал. Не подготовленная к такому воинственному натиску, бедная Натали заметалась, пришла в ужас, заломила руки от отчаяния, стала громко молить о спасении.
— Трудно было бы передать, — рассказывал Жорж, — выражение глубокого и непреодолимого ужаса, исказившего эти безмятежные черты. Казалось, какое-то невыносимое воспоминание примешалось к непосредственному испугу, и отвратительные образы из далекого прошлого возникли в ее памяти и глубоко поразили сознание.
На шум неожиданно явилась дочь Идалии. Наталья Николаевна бросилась к ней, как к избавительнице. Жорж остался один.
— Кажется, партия проиграна, — задумчиво заключил он, — впрочем, плох тот полководец, который сознается в поражении. Нужно верить в изменчивость обстоятельств и счастливую звезду...
Мы вернулись к оставленному обществу.
Идалия Полетика исполняла за клавикордами испанские песенки. Жорж потонул в шкуре белого медведя у ног влюбленной Катрин. Барон Геккерн старался разыгрывать счастливого отца, и только иногда затаенная досада прорывалась наружу. Прославленное злословие посланника нарушало его дипломатическое спокойствие. Скрытое возмущение диктовало ему неосторожные остроты.
— Брак вашего сына, барон, — заметил к концу вечера Строганов, — вносит спокойствие в две семьи: Пушкин перестанет опасаться супружеской измены...
Тогда-то барон Геккерн произнес фразу, которая вскоре дорого обошлась ему:
— Хотя мой сын и женился, это нисколько не помешает Пушкину быть рогоносцем — ведь он остается камер-юнкером его величества.
Как все дурное, что говорится нами об окружающих, фраза эта вскоре стала известна двум лицам, в которых она метила: Пушкину и Николаю. Нужно думать, что Идалия Полетика и графиня Нессельроде способствовали ее распространению. В биографии барона Геккерна эта злая острота наметила катастрофический перелом. Она прошла тогда незамеченной и, казалось, потонула в оживленном говоре и радостной музыке.
Веселые и задорные куплеты Идалии Полетики отвлекали от мрачных дум и устраняли все тревоги.
262
А между тем, как это часто бывает в жизни, мы, не зная того, давали прощальный ужин всему нашему прошлому. Петербургу, дворцам, островам, парадам на Марсовом поле и раутам на Английской набережной.
К нам уже вплотную подступила непоправимая беда.
VI
Во вторник 26 января я отправился в четвертом часу на обед к Строгановым.
Старый посланник любил от времени до времени собирать у себя днем небольшое общество, которому за вином и кофе рассказывал свою необычайную любовную одиссею. Ко сну он отходил довольно рано, и потому его «обеденные завтраки» назначались обычно на четыре часа.
В начале пятого общество из шести-семи человек рассматривало в гостиной графа редкую коллекцию курительных приборов, привезенную им из Константинополя. Строганов излагал нам историю одного старинного кальяна, пестрая ваза которого привлекла наше внимание.
Пробило половину пятого.
— Что же это, однако, — поднялся граф, — как запоздали Геккерны. Молодые обещали быть у меня вместе со счастливым отцом семейства, — иронически усмехнулся старик. — Не могу понять, почему их нет до сих пор.
Нас пригласили в столовую.
Обед был в полном разгаре, когда оба Геккерна наконец появились.
— Где же Катенька? — обратился к ним старик.
Жорж отговорился нездоровьем жены. Я сразу почувствовал, что, при всей их безукоризненной выдержке, оба чем-то озабочены. Д'Антесу не удавались обычные шутки, Геккерн был бледен и с некоторым усилием поддерживал застольную беседу.
После обеда хозяин пригласил нас в курительную. Когда мы остались вчетвером, Геккерн, осведомившись, не может ли кто-либо услышать его, попросил внимания и сообщил нам следующее.
— Надо мной стряслась катастрофа. Я получил только что от Пушкина неслыханное письмо, полное таких отвратительных оскорблений, что язык мой отказы-
203
вается повторить их. И это без всякой видимой причины...
— От Пушкина? — удивился Строганов. — Но ведь после женитьбы Жоржа на Катрин он, кажется, успокоился?
— В том-то и дело, что нет. Он в бешенстве, что его кровавые замыслы опрокинуты и его месть не удалась. Он вне себя от зависти к нашему счастью. В обществе он преследует Катрин своими низкими сарказмами. Он хочет во что бы то ни стало разрушить наше семейное благополучие.
— Как это странно, — заметил хозяин. — Но все-таки, что же он пишет?
— Я приехал, чтобы сообщить вам это и посоветоваться с вами о дальнейшем. Вы, граф, близкая родня нашей Катрин, вы самый старший и уважаемый в семье Пушкина. А главное, вы хранитель традиций дворянской чести и знаток правил ее охраны. Без вас я решил ничего не предпринимать.
— Быть может, мне следует удалиться? — спросил я, вставая.
— Никоим образом, виконт, — обратился ко мне Геккерн, — вы уже доказали нам однажды вашу дружбу к Жоржу, приняв на себя его представительство в аналогичном деле. Я счастлив, что застал вас здесь в эту трудную минуту и могу снова рассчитывать на ваше сочувствие и помощь.
Он обратился затем к д'Антесу с просьбой пересилить себя и прочесть вслух только что полученное письмо.
В настоящее время у меня нет под рукой этого документа. Но я столько раз прочел в те дни этот роковой листок, вызвавший памятную всем трагедию, что со всей точностью могу передать его содержание и общий тон.
Это было не письмо, но удар хлыстом по лицу. Я не могу себе представить более меткой и чувствительной словесной пощечины. Написанное безукоризненной французской прозой, оно одинаково поражало мастерством своего памфлетического стиля и изысканным подбором своих сокрушительных оскорблений.
Пушкин начинал в обычной форме светского обращения и делового изложения фактов. Он словно приступал к протокольному сообщению последних происшествий, заставивших его взяться за перо для письма к «господину барону». Но уже в сдержанных первых фразах слы-
264
шалея глухой гул затаенного негодования, которое прорывалось к концу вступительной части первыми резкостями по адресу д'Антеса.
Затем следовала главная часть письма — характеристика роли самого адресата. Здесь развертывалась основная тема всего послания и была сосредоточена вся сила удара. Первоклассный мастер слова сказывался в мощных романтических антитезах, которыми поэт напрягал силу наносимых оскорблений, взметая их на неожиданное острие поражающих контрастов.
«Представитель венчанной главы, вы отечески сводничали вашему сыну»... «Уподобляясь развратной старухе, вы подстерегали жену мою во всех закоулках, чтоб говорить ей о любви вашего ублюдка... И когда, зараженный французской болезнью, он был задержан дома, вы уверяли, что он умирает от любви к ней; вы бормотали ей: возвратите мне моего сына»...
На таких сменяющихся волнах обличительного красноречия была построена эта часть письма. Мне вспомнились риторические вопросы и клеймящие утверждения обвинительных речей Цицерона. В этом письме, опрокидывавшем все правила светской вежливости, чувствовалась превосходная классическая культура.
Последняя часть письма подводила итоги всему изложенному, нанося попутно несколько новых ошеломляющих ударов, главным образом, по адресу д'Антеса: «Я не могу допустить, чтоб ваш сын, после своего гнусного образа действий, осмеливался бы обращаться с речью к жене моей, ни тем менее расточать перед ней запас своих казарменных острот или разыгрывать преданность и несчастную страсть, будучи на самом деле трусом и негодяем».
Письмо завершалось угрозами обесчестить посла Нидерландов в глазах обоих дворов и, наконец, замыкалось безукоризненной формулой эпистолярной вежливости.
Я невольно вспомнил стиль Тацита, выжигающего позорные клейма на челе врага.
Некоторые фразы этого беспримерного послания поразили меня при первом же чтении. Великолепное произведение словесного искусства, оно по существу своему могло вызвать довольно серьезную критику. Странно было, что в этом хлестком картеле Пушкин говорил о том волнении, которое жена его, «быть может, испытывала перед этой великой и возвышенной страстью». Он как бы признавал, что прекрасная Натали далеко не безразлич-
265
но воспринимала чувство д'Антеса, видя в нем глубокое самоотвержение и несчастную любовь. Он словно не отказывал своему противнику в некоторых моментах счастливого соперничества. Мне показалось, что такие интимные признания в обращеньи к врагам накануне неотвратимой смертельной встречи были излишни и что поэт, нанося свою убийственную пощечину, не должен был распространяться о душевных волнениях своей жены.
Был еще момент, удививший меня в таком деле.
Обращенье к барону Геккерну оставалось недостаточно обоснованным, и, казалось, сам автор письма не обладал в этом пункте необходимым фактическим материалом. Ему приходилось оговаривать свои тяжелые обвинения всякими «по-видимому» и «вероятно», совершенно недопустимыми при тяжко оскорбительных утверждениях этой беспощадной инвективы.
Все это не могло не поразить стороннего слушателя. Строганов встал, разводя руками.
— Беспримерно! Неслыханно! Что же вы думаете предпринять, барон?
— Я полагал, что при занимаемом мною положении мне надлежит представить копию этого возмутительного документа вице-канцлеру, как прямому начальнику Пушкина по министерству иностранных дел, и графу Бенкендорфу, — для принятия мер по охране моей личности, неприкосновенной по статутам международного права и последнему венскому протоколу.
Строганов нахмурился.
— Вы же, граф, — продолжал Геккерн, — как родственник Пушкина, могли бы внушить ему мысль о необходимости письменного извинения предо мной...
— Этого недостаточно, барон, — решительно заявил старик, — необходимо немедленно стреляться. Подобные оскорбления смываются только кровью.
— Но званье, которым моему королю было угодно облечь меня, препятствует мне выйти к барьеру. Вам известно, граф, что в качестве представителя короны я не могу ронять себя до участия в тяжком уголовном преступлении. Огражденный от арестов и правительственных посягательств неприкосновенностью своей особы, я, к сожалению, не защищен от диких выходок вольнодумного сочинителя, которому, кажется, угодно подогреть свою меркнущую славу международным скандалом.
— И скандалом, которому он приносит в жертву все, — воскликнул д'Антес, — честь своей жены, счастье
266
своей семьи, судьбу и будущность Катрин, почти сестры своей!
— Он необуздан и ни с чем не считается, — сказал Строганов. — Очень-очень мне грустно за обеих сестер, но ничего не поделаешь. Честь выше всего! К барьеру должен выйти ваш сын, барон.
— Я уже говорил об этом отцу, — отозвался Жорж. — Мой долг немедленно же ответить на эти возмутительные обвинения. Он словно забыл, что сам отказался от своего вызова в ноябре.
Я напомнил, что письмо это хранится у меня в бумагах несостоявшейся ноябрьской дуэли.
— Как бы там ни было, — продолжал Строганов, — а теперь нечего мешкать, тяжесть оскорблений так беспримерна, что драться нужно завтра же, по возможности даже утром. Дело не терпит никакой отсрочки. Ступайте в мой кабинет и пишите ваш вызов, его необходимо сейчас же доставить Пушкину.
Через четверть часа письмо, подписанное обоими Геккернами, было вручено мне, как секунданту д'Антеса, для передачи его по назначению. Я тут же набросал на своей визитной карточке несколько слов Пушкину с просьбой принять меня или указать время для приема.
Карета быстро домчала меня до дома на Мойке, и форейтор, относивший карточку, тотчас же вернулся с ответом, что меня ждут.
По пути я успел обдумать предстоящий разговор и дальнейший план действий.
Письмо Пушкина изменило мое отношение к нему.
Когда вы будете читать это место, дорогой Мериме, остановитесь и тщательно обдумайте создавшееся в тот момент положение и возникшие предо мною великие трудности.
Пушкин неожиданно встал перед нами как беспощадный враг. Его воля к убийству рвалась из каждой строки его письма. Затравленный политической кликой, он хотел отомстить ненавистному обществу и обращал свой гнев на близкого мне человека. Необходимо было отразить удар и оберечь намеченную жертву. Как ни тяжела была для меня предстоящая задача, я твердо решил сделать все для ограждения жизни и чести Жоржа. Глубоко понимая значение Пушкина для России, я не мог принести ему в жертву моего друга и брата. Сообразно с этим я и решил действовать.
Ввиду исключительной тяжести оскорбления
267
серьезности предстоящей развязки я принял твердое решение строжайше соблюдать предписанные европейскими кодексами формы поединка. Предстоящий смертельный расчет требовал неумолимого выполнения принятых обычаев и установленных правил. Все это объяснит вам, быть может, Мериме, мой дальнейший образ действий, удививший некоторых друзей Пушкина.
Я поднялся по знакомой лестнице, вошел в квартиру поэта и был немедленно же проведен в его просторный кабинет. Он сидел за своим письменным столом, спокойно перебирая бумаги, и встретил меня приветливым взглядом и безукоризненным обхождением. Я был изумлен: человек, несколько часов перед тем разразившийся такой бурной вспышкой, был совершенно безмятежен и словно даже с чем-то примирен.
Все опасения мои оказались тщетны, — он почти дружески беседовал со мной. Я передал ему письмо посланника и устно сообщил ему, что барон Жорж Геккерн шлет ему свой вызов. Не вскрывая конверта, Пушкин отвечал, что вызов принимает и заранее согласен на все условия.
— В таком случае, — поторопился я перейти к материальной стороне дела, — будьте любезны назвать мне вашего секунданта.
— Мне затруднительно, по понятным соображениям, сделать это сейчас, но вы его узнаете в самом непродолжительном будущем.
— Превосходно. Я отправляюсь непосредственно к себе в посольство и буду ждать вашего представителя. Нам необходимо сговориться сегодня же, ибо встреча должна произойти не позже завтрашнего дня.
— Таково и мое желание, — наклонил голову Пушкин.
Я поклонился и вышел.
Но с этого момента порывистая, капризная, мятущаяся натура поэта начала сказываться в пренебреженьи установленных обычаев и правил дуэли. Мне пришлось занять строгую позицию и неоднократно призывать его к порядку.
Тщетно прождав секунданта Пушкина до девяти часов, я известил его запиской, что буду ждать его представителя до одиннадцати часов дома, а после этого часа — на балу у графини Разумовской.
Не дождавшись никого в посольстве, я в двенадцатом часу отправился на бал.
268
VII
Гораздо позже я узнал обстоятельства, вызвавшие последнее письмо Пушкина к Геккерну.
На следующий же день после свидания на квартире Полетики, во вторник утром, Пушкин получил по городской почте анонимное письмо. Ноябрьские пасквили по своему содержанию и произведенному действию были совершенным пустяком перед этим новым ударом из-за угла. Коротенькая французская записка в насмешливом тоне извещала «славного поэта Александра Пушкина» о состоявшейся накануне счастливой встрече. Плоские и грязные намеки были облечены в ироническую форму старинной идиллии.
Пушкин пришел в бешенство. Он потребовал объяснений от Наталии Николаевны, выслушал в крайнем возбуждении ее правдивую исповедь, в гневе ломал ей руки, настаивал на подробном и полном изложении всех обстоятельств свидания. При этом он в исступлении поносил д'Антеса и старого Геккерна, не находя достаточно бранных слов по их адресу. Фраза барона о «Пушкине-рогоносце» уже успела дойти до него. Теперь он обвинял голландского посланника и в авторстве нового анонимного пасквиля. Только после клятвы Натали в полной невинности всего ее поведения Пушкин немного успокоился, но в самом мрачном состоянии заперся у себя в кабинете. Он долго и нервно писал, разрывал написанное и снова продолжал писать.
Так добился д'Антес нового вызова. Но обо всем этом я узнал впоследствии, когда Катрин Геккерн за границей передавала мне со слов сестер некоторые эпизоды дуэльной истории. Тогда же события неслись с бурной стремительностью и поражали своей полной неожиданностью.
VIII
Я хорошо запомнил мой последний бал в Петербурге. Как все ночные празднества этой поры, — между Рождеством и масленой, — он был многолюден и ослепителен. Темные кущи лимонных и лавровых деревьев окаймляли белые стены гостиных, залитые снопами лучей от люстр, жирандолей и канделябров. Вдоль зеркально отполированных колонн колыхалось живое море
269
танцующих в разноцветных гвардейских формах, дворцовых мундирах, темных фраках и белых кружевах. И эта взволнованная человеческая стихия с ее искрящимися всплесками орденов и алмазных уборов словно обтекала округленные стены мраморного зала, с высоты которого лилась и звенела струнная музыка, прерываемая гулом литавр, вздохами флейт и медными кликами труб.
Среди этого беспечного и радостного празднества я должен был сговориться об одной смертельной встрече.
Проходя за колоннами, я увидел Пушкина, живо беседовавшего с Александром Тургеневым. Этот «маленький Гримм», как его называли у нас, недавно лишь прибыл из-за границы. Я хорошо знал его по Парижу и привык видеть в нем самого просвещенного из русских. Архивы Ватикана и Лондона были его родной стихией, лекции знаменитых профессоров — высшим наслаждением. Рассказывали, что в Иене у дверей университета его ожидала почтовая карета, в которую он стремительно вскакивал при последних словах знаменитого лектора, чтоб мчаться сломя голову в Веймар, где другому светилу науки предстояло час спустя произносить ученую речь. Мои последние петербургские недели были озарены разговорами Тургенева: он сообщал мне о новых посетителях госпожи Рекамье, о мемуарах Шатобриана, о юноше Мюссе и старце Буонарроти, о врагах Гюго и поклонниках неувядаемой Марс. Он вспоминал о своих встречах с Бейлем-Стендалем в Риме, Флоренции, Сполетто и описывал мне древний бюст Тиверия, посланный ему в подарок этим неподражаемым туристом.
Я любил слушать этого русского европейца. В морозный и снежный Петербург Тургенев вносил с собою теплый воздух континентальной Европы.
Не удивительно, что поэт, беседуя с ним, был оживлен и весел. Я поклонился и прошел в соседнюю гостиную. Через минуту Пушкин подошел ко мне.
— Я все еще не могу назвать вам моего секунданта, — заявил он, — после ноябрьской истории мне трудно найти кого-нибудь.
— Между тем необходимо спешить. Я рассчитывал сегодня на балу условиться обо всем и завтра утром закончить дело.
— Это было б лучше всего. Сговориться недолго: барон Геккерн является в этом деле оскорбленным, и я заранее принимаю все его условия.
270
— Но их необходимо обсудить и оформить. Я жду вашего представителя.
— Переменим разговор, — прервал меня Пушкин, — к нам идет князь Вяземский.
Действительно, к нам приближался знаменитый петербургский острослов. Мне показалось, что Александр Тургенев, остановившийся под аркой входа, многозначительно указал ему на нас. Друзья Пушкина с некоторой тревогой следили за ним после ноябрьского вызова, и наши переговоры на балу могли им показаться подозрительными. Но я не затягивал общей беседы и после двух-трех фраз отошел в сторону.
Пушкин заговорил с Вяземским о своем журнале:
— Напомни, прошу тебя, Козловскому его обещание дать для «Современника» статью о паровых машинах...
Я удивился этой литературной распорядительности в разгаре приготовлений к дуэли.
В зале происходило между тем бурное перемещение танцующих. Оркестр бодро и весело заиграл пастурель, открывающую четвертую фигуру кадрили, и многочисленные пары возбужденно и радостно занимали свои места для вихревого полета вдоль колонн.
Я следил за нарядной четой — кавалергардом Трубецким и юной Воронцовой-Дашковой, — когда кто-то коснулся моего рукава.
Это был мой коллега по дипломатическому корпусу — атташе при великобританском посольстве, эсквайр Артур Медженис.
С обычным своим флегматичным видом больного попугая, он отвел меня в сторону.
— Пушкин только что пригласил меня быть его секундантом и поручил мне переговорить с вами. Я еще не дал ему окончательного согласия, решив прежде узнать от вас, каковы шансы на мирный исход столкновения...
— Простите, сэр, — отозвался я, — обращаетесь ли вы ко мне, как секундант господина Пушкина?
— Нет, я еще таковым не являюсь.
— В таком случае я лишен возможности вести с вами переговоры по этому делу.
— О, я вижу по вашему тону, что мирный исход исключен. Я сообщу Пушкину о своем отказе...
И он, откланявшись, исчез в толпе. Я продолжал любоваться порывистым финалом пастурели, тщетно ожидая нового посланца Пушкина.
Последняя фигура кадрили была в полном разгаре,
271
когда я решил прервать свои ожидания. У меня оставалась возможность настаивать письменно на выполнении наших условий. Я направился к выходу.
Проходя вдоль колонн, я увидел в соседней красной гостиной Пушкина. Он стоял перед креслом «усатой княгини» Голицыной и, беседуя, с любопытством всматривался в черты старухи, как бы сравнивая этот безобразный облик с портретом, зачерченным им в его «Пиковой даме». На темном фоне померанцевых кущ девяностолетняя гофмейстерина трясла своей огромной напудренной головой, кривила тяжелые отвислые губы и тусклыми провалившимися глазами, обведенными черными кругами, смотрела в упор на поэта, слегка грозя ему острым костлявым пальцем. До меня донеслись отрывочные хриплые звуки ее вороньего голоса...
Я продолжал мой путь за колоннами. Навстречу мне, весело улыбаясь своему живому рассказу, Вяземский вел госпожу Пушкину. Я невольно остановился.
Медленно проплывала она мимо мраморной колоннады, спокойно пронося среди пестрой бальной толпы торжественные очертания своего точеного облика. Оживленное впечатлениями бала, обилием света и призывными всплесками оркестра, словно согретое бесчисленными выражениями поклонения, лицо ее было ясно и почти радостно. Тень страдания в чистом очертании ее висков, казалось, тонула в этом ощущении триумфального шествия по жизни, которая уже успела склонить к ее ногам великого поэта, всепобедного императора и прекрасного, женоподобного юношу.
Но, чуждая этих вожделений, холодная и бесстрастная, она продолжала в своем лунном забвении парить над жизнью, словно не замечая клубка страстей, грозно свернувшегося у ее ног. Озаренная огненными пучками люстр, в ореоле своей победоносной и трагической красоты, она скользила по паркетному зеркалу, не догадываясь, что смертный приговор уже произнесен около нее и что завтрашний день бросит к ее ногам бездыханное тело, быть может, две человеческих жизни.
Во мне начинало подниматься чувство глухого протеста против этого блистательного равнодушия и невозмутимой красоты, когда, поравнявшись со мной, она озарила меня лучами своих огромных наивных глаз и легким приветливым кивком, с неуловимой улыбкой детски-полураскрытых губ ответила на мой глубокий поклон. Смешанное чувство щемящей боли, неодолимого восхище-
272
ния и какого-то непонятного сострадания охватило меня, и я вышел из круглого зала, повторяя бессмертные строки:
Нет, не напрасно троянцы и пышные броней ахейцы
Из-за подобной жены столь ужасные бедствия терпят:
Ибо похожа она на бессмертных богинь олимпийских...
Из зала настойчиво неслись за мной взрывы оркестра, быстрый топот ног и шпорное бряцанье общего финального галопа. Звуки бала все более и более заглушались расстоянием и замирали вдали.
Чем оживленнее и радостнее празднество, тем грустнее его отдаленное и рассеянное звучание. И чувство томящей печали охватило меня, когда я сходил вдоль малахитовых перил дворца Разумовских в сплошной аллее лимонов и лавров, наполняющих воздух своими крепкими и сладостными искурениями, но словно замыкающих блистанье и круженье празднества в глубокий траур своей темной листвы.
IX
День 27 января 1837 года каждой своей минутой навсегда врезался в мою память. Сохранившиеся документы и письма помогут мне теперь со всей точностью восстановить ход событий этой трагической даты.
Чувствуя на себе огромную ответственность в важнейшем деле защиты чести Геккерна и Жоржа от нанесенного им тяжкого оскорбления, я с величайшей бдительностью решил выполнить свой долг. Скромный атташе посольства, я был призван защищать неприкосновенность имени известного дипломата, долголетнего посла европейской державы. Чужестранец, я должен был выступить против знаменитого русского писателя, чтоб оградить доброе имя моего старинного друга и близкого родственника. Все это создавало исключительную напряженность вокруг предстоящей встречи и до последней степени обостряло мое внимание и предусмотрительность.
Ряд побочных обстоятельств повышал во мне чувство ответственности за происходящее.
Д'Антес предупредил меня, что с Пушкиным нужно быть крайне осторожным. Было известно, что у него выработался обычай оскорблять своего противника во время дуэли непозволительными выходками. Во время по-
273
единка с одним почтенным полковником он забавлялся тем, что плевал косточками черешен за свой барьер. Он видит в этом особый шик и свободный жест художника, который может стать выше обычных правил и установлений. Необходимо было всячески оградить себя от возможных неожиданностей.
Вставши рано и узнав, что на мое имя не доставлено никакой записки, я решил с неуклонной твердостью отстаивать наши интересы. Уже в девять часов утра я отправил Пушкину новое требование прислать мне своего представителя.
Вскоре курьер посольства вернулся с ответом. Письмо Пушкина глубоко не удовлетворило меня. Вот что он писал:
Господин виконт!
Не имея ни малейшего желания вводить праздных людей Петербурга в тайну моих семейных дел, я решительно отказываюсь от переговоров между секундантами. Я приведу своего только на место встречи. Так как меня вызывает г. Геккерн и обиженным является он, то он сам может выбрать мне секунданта, если ему это нужно: я заранее принимаю его, если бы даже это был его егерь. Что же касается часа и места, я вполне к его услугам. Согласно нашим русским обычаям, этого вполне достаточно... Прошу вас верить, господин виконт, что это мое последнее слово, что мне больше нечего отвечать ни на один вопрос, касающийся этого дела, и что я более не пошевельнусь до поездки на место встречи.
Примите уверение в моем совершенном уважении.
А.Пушкин.
Раздражение, звучавшее в каждой строке этой записки, было совершенно неуместно после того, как вопрос о поединке был решен. Основное правило дуэльного кодекса — соблюдение противниками строгих приличий и безупречной взаимной вежливости — явно нарушалось Пушкиным. Фраза о егере Геккерна звучала таким пренебрежением и дерзостью по адресу Жоржа, выпад против «петербургских праздных людей» настолько задевал меня, как его секунданта, объяснение своего поведения «русскими обычаями» было так нелюбезно по отношению к нам, иностранцам, имевшим право отстаивать свои представления о дуэли, что я решил со всей энергией протестовать против этого тона.
274
В придачу еще заключительный отказ вести какие бы то ни было переговоры о предстоящем требовал решительного возражения. Дело было слишком серьезным, и поэт должен был отвечать за все свои слова и поступки. Мне говорили потом, что герой одной из его поэм, петербургский денди, оскорбив своего друга, приезжает прямо на дуэль, без предварительных переговоров, привезя в качестве секунданта своего камердинера и в придачу еще проспав назначенный час.
Если таковы были «русские обычаи», которые хотел применить в этом деле поэт с целью выражения своего презрения к противнику, я его, во всяком случае, к этому не допустил. В ответ на его записку я немедленно же призвал его к порядку.
Милостивый государь!
Покусившись на жизнь барона Жоржа де Геккерна, вы обязаны дать ему удовлетворение. Вы сами должны достать себе секунданта. Не может быть и речи о том, чтоб его вам доставили.
Готовый со своей стороны явиться на место встречи, барон Жорж де Геккерн торопит вас подчиниться правилам. Всякое промедление будет рассматриваться им как отказ в удовлетворении, которое ему должны дать, и как попытка огласкою этого дела помешать его окончанию.
Свидание между секундантами, необходимое перед встречей, становится, если вы снова откажете в нем, одним из условий барона Жоржа де Геккерна; вы мне сказали вчера и написали сегодня, что вы их принимаете целиком.
Примите, милостивый государь, уверение в моем совершенном уважении.
Виконт д'Аршиак.
Спокойствие моей записки, ее безупречная вежливость, при внутренней решительности тона, а главное, обращение к чести Пушкина, обязанного дать удовлетворение оскорбленному им лицу и выполнить данное им слово, возымели свое действие. Я знал, что чуткость поэта к вопросам чести возобладает над его раздражением и озлобленностью.
Я не ошибся. Около часу дня мне доложили о приезде Пушкина.
275
X
Он вошел в мой кабинет в сопровождении незнакомого мне военного инженера с черной перевязью на руке.
«Слава богу, — подумал я, — очевидно, с егерем д'Антеса дело покончено».
— Позвольте вам представить, виконт, моего друга полковника Данзаса, — с полной учтивостью обратился ко мне Пушкин.
Он был вообще в спокойном и приветливом настроении. От раздражения утренней записки не осталось и следа. Он, видимо, успокоился тем, что нашел наконец секунданта, что трудная задача была выполнена и наступало столь желанное разрешение чрезмерно запутавшихся отношений.
Этот тон спокойной бодрости почти ни разу не изменял ему в продолжение всего нашего объяснения. Я всячески остерегался нарушить его возражениями или спором.
— Разрешите ввести моего друга в сущность дела, — обратился ко мне Пушкин.
И с большим спокойствием, тоном простого доклада о постороннем деле, видимо сильно сдерживая себя, он изложил весь ход событий, приведших от анонимных пасквилей в ноябре к его вчерашнему письму барону Геккерну.
— Этим я хочу положить конец создавшемуся положению вещей, — заявил он. — Для ясности дела мне необходимо прочесть это письмо.
Когда он закончил чтение, с трудом сдерживая волнение и даже слегка побледнев, я постарался разрядить нарастающее раздражение поэта и в то же время ответить на прозвучавшие обвинения.
— Полагая, что единственное разрешение вопроса в настоящей стадии этого дела — поединок, мы считаем все же, что письмо это не вызвано никакими реальными основаниями, — объяснил я, обращаясь к Данзасу, — и честь господина Пушкина не была задета ни бароном Геккерном, ни его сыном.
— Вы знаете, виконт, — возразил мне Пушкин, снова вполне овладев собою, — есть два вида обманутых мужей: подлинные и ставшие таковыми по милости света. Первые умеют себя держать, положение вто-
276
рых — затруднительнее. Я, виконт, принадлежу к последним.
— Неужели мнение публики имеет для вас значение, раз вы сами уверены в его безосновательности?
Пушкин с глубоким убеждением произнес:
— Мое имя принадлежит всей стране, и я хочу, чтоб оно осталось незапятнанным везде, где его знают.
— Именно потому вам следовало воздержаться от обвинения лиц, не посягавших на вашу честь...
— Поверьте, что за три месяца я впервые почувствовал себя спокойным только вчера, когда отправил это письмо.
Предварительные объяснения были закончены.

— Итак, вот мой секундант, — указал Пушкин на инженерного полковника.
— Вы согласны принять на себя обязанности свидетеля в дуэли господина барона Жоржа де Геккерна с господином Пушкиным? — спросил я инженера.
После его утвердительного ответа Пушкин встал.
— Прошу только, чтоб дело закончилось непременно сегодня же, — заявил он, прощаясь.
277
— Таково и наше условие, — отвечал я. Мы остались вдвоем с Данзасом.
— Итак, полковник, — предложил я, — приступим к выработке условий сегодняшнего поединка.
И, достав бумагу, я пригласил его к письменному столу.
Данзас не только носит погоны, как многие инженеры, он действительно боевой военный. В последнюю турецкую войну, при наведении понтонов, он был серьезно ранен в левое плечо. Правила офицерской чести и дуэльные обычаи превосходно знакомы ему. Мне оставалось только одобрить выбор Пушкина.
В последовавших переговорах определилось наше различное отношение к предстоящему делу. Данзас, видимо, считал своим долгом не усугублять опасности дуэли и, сохраняя полное достоинство, высказывался за менее строгие условия. Я вынужден был решительно изменить свое ноябрьское миролюбие. Исходя из тяжести нанесенного оскорбления, я настаивал, согласно указаниям Жоржа, на строгих формах.
— Прежде всего разрешите узнать, — начал Данзас, — нет ли возможности окончить дело миром?
Я решительно отклонил это предложение, сославшись на чрезмерную тяжесть оскорблений, только что зачитанных Пушкиным.
— После этого, — заключил я, — возможен один только исход — поединок. Должен прибавить, что мой доверитель требует, чтоб условия его были самые строгие.
— Этого требует и Пушкин. Но я предложил бы все же ограничиться одним обменом выстрелов, — продолжал Данзас.
— Тяжесть нанесенного оскорбления это исключает, полковник. Мы считаем, что противники должны биться до первой крови.
— Я думаю, мы можем это не вносить в условия дуэли, а только соответственно определить расстояния и общие правила борьбы.
— Вы правы. Итак, предлагаю десять шагов.
— Между барьерами. Но от каждого барьера по пяти шагов в поле на продвижение противников и для выстрела на ходу.
— Принимаю. Но в случае безрезультатности первого обмена выстрелами поединок возобновляется на прежних условиях.
278
В половине третьего мы закончили наше совещание и проредактировали в двух экземплярах правила предстоящего боя.
По моему настоянию было решено не допускать никаких переговоров между противниками.
— Но в случае малейшей возможности к примирению, — добавил Данзас, — секунданты смогут объясниться за своих доверителей.
Я не возражал. Место дуэли я предоставил назначить секунданту Пушкина. Мы условились встретиться через полтора часа на Черной речке у Комендантской дачи, в местах моих беспечных летних прогулок. Необходимо было запастись пистолетами, не бывшими в употреблении ни у одного из противников. Я показал приобретенные мною для д'Антеса в ноябре, но все время хранившиеся у меня совершенно не обстрелянные превосходные дуэльные пистолеты. По верхней грани стволов змеилась золотая подпись: «Ле-Паж, оружейник короля». Они были куплены мною в известном оружейном магазине Куракина на Невском.
Данзас, осмотрев оружие и убедившись, что оно действительно еще не дало ни одного выстрела, не возражал против использования его.
Он не без задумчивости опускал оружие в малиновый бархат футляра.
— Итак, жизнь Пушкина в одной из этих блестящих игрушек...
— Мы сделали все, чтоб избежать этого.
— Да, жребий брошен, рассуждать поздно. Итак, в четыре часа на Коломяжском шоссе.
И, взмахнув черным плюмажем своей офицерской шляпы, Данзас оставил меня. Я поторопился к Геккернам.
XI
Ознакомившись с условиями дуэли, посланник нашел их чрезмерно суровыми. Д'Антес, напротив, признал их вполне соответствующими обстоятельствам дела. «Стреляются и на пяти шагах», — заметил он.
Барон поинтересовался подробностями последней беседы с Пушкиным. Я рассказал о поразившем меня спокойствии нашего противника и мирном состоянии его духа во время утренней беседы. Я высказал сложившее-
279
ся у меня соображение: в случае миролюбивого отношения Пушкина щадить и беречь его жизнь. Не добиваться непременно «первой крови», считать возможным и выстрел в воздух.
Геккерн насторожился.
— Мы должны все учитывать и не терять ни единой возможности к достойному выходу из создавшегося положения. Взвесим еще раз все шансы. Обдумаем сообща, как должен вести себя Жорж у барьера.
Он нервно прошелся по комнате и, присев к письменному столу, стал деловито и последовательно излагать свой план.
— Итак, мой основной тезис: убийство Пушкина — достойный акт для подлинного легитимиста, но нечего скрывать, что эта смерть нанесла бы непоправимый удар всей нашей карьере — как моей, так и твоей, Жорж. Не думаю, чтобы при таком исходе поединка мне бы удалось сохранить мой пост посла в Петербурге; ты же, несомненно, будешь разжалован в рядовые и сослан. Все, чего с таким трудом, годами, невероятным напряжением воли, упорными расчетами, мне удалось наконец достигнуть, рухнет в одно мгновенье. Даже наш верный и удачный ход в ноябре потеряет всякий смысл и станет ненужной и нелепой жертвой.
Посланник остановился. Ему, казалось, не хватало дыхания.
— Вникните, прошу вас, в значение этого момента: через какой-нибудь час может быть зачеркнуто навсегда дело целой жизни, и в какой момент! Когда мы связались семьей, которая скоро увеличится, когда нужны крупные средства, когда необходимо во что бы то ни стало укреплять свое положение и влияние... Размеры катастрофы неисчислимы — это потеря всего, это европейский скандал, это публичное ошельмование...
Д'Аршиак прав, нам необходимо принять следующее решение: при малейшей готовности Пушкина пойти на спокойное и приличное разрешение дела — без смертельного исхода во что бы то ни стало — немедленно же пойти ему навстречу и ограничиться минимальным удовлетворением. Оскорбление, конечно, должно быть смыто кровью. Жорж такой превосходный стрелок, что он сумеет безошибочно нанести на расстоянии десяти шагов нужную и безопасную рану, скажем — в ногу, это
280
было бы лучше всего. В этом случае оскорбление будет смыто и никаких катастрофических последствий не наступит. Гауптвахта, быть может, крепость на два-три месяца — и только. Сочувствие общества будет на нашей стороне, ввиду тяжести оскорбления и незначительности последствий. В этом случае все поправимо и, может быть, наше положение даже улучшится. Император давно уже недоволен Пушкиным, — не вышлет ли он его в деревню за оскорбление иностранного посла и дуэль с кавалергардом ее величества? Вы подумайте только, какое блаженство — Петербург без Пушкина!..
— Да, но и без Пушкиной, — тихо произнес д'Антес.
— Теперь не время думать об этом, — строго заметил посол. — Дело слишком серьезно, чтоб вмешивать в наши расчеты женщину. Прошу тебя принять все мои решения. Верь, что мне всего дороже твоя жизнь.
Д'Антес не возражал.
— Но если бы, — продолжал Геккерн, — этот сорвавшийся с цепи явился на место встречи со свойственными ему кровожадными намерениями, — нужно быть к нему беспощадным. За его желание умертвить Жоржа он сам должен умереть. Никаких колебаний, никакого сожаления, никаких соображений о последствиях, ибо малейшее послабление может стоить жизни Жоржу. Как только выяснится непримиримость Пушкина — немедленно же убить его! Да, убить, ибо никакая рана не обеспечивает от возможности встречного выстрела. Одним якобинцем станет меньше, и не нам жалеть об этом.
— Ты прав, отец, — заявил Жорж, — у меня слагалось такое же решение: по возможности нанесение легкой раны, но в случае крайности — быстрота, меткость и беспощадность. Я добился поединка — я отстою в нем и честь и жизнь! Если потребуется, поверьте, я сумею действовать так, что Пушкин не даст и одного выстрела! Я отправлю его к праотцам прежде, чем он успеет об этом подумать, и, уж во всяком случае, раньше, чем он спустит курок.
Я взглянул на часы. Время встречи приближалось. Барон подошел к Жоржу, обнял обеими руками его голову и долго не прерывал своего прощального поцелуя.
— Я верю в тебя и в нашу победу, — сказал он наконец, — помни же: по возможности быстрое и осторожное маневрирование, в случае необходимости — беспощадный смертельный удар.
281
XII
Мы вышли от Геккернов. С Невы дул сильный ветер, поднимавший снежную пыль и безжалостно трепавший пелерину на шинели д'Антеса. Мы сели в извозчичьи парные сани и понеслись к далекой Комендантской даче, месту завершения разыгравшихся событий.
Жорж был изумительно спокоен. Он казался только несколько серьезнее обыкновенного. Мастерство в стрельбе, прославившее его еще в Сен-Сире, должно было сообщать ему уверенность и внутреннюю твердость.
Словно угадывая мои мысли, он произнес:
— Пушкин — великолепный стрелок. Жена рассказывала мне недавно о его бретерстве. Он не раз выходил к барьеру, но никогда еще не был ранен...
— Он служил когда-нибудь в войсках? — спросил я.
— Нет, но всегда мечтал об этом и, кажется, готовился к военной карьере. Еще в Лицее дружил с гусарами, затем где-то на юге, куда он был сослан в молодости, вращался в обществе офицеров, кутил с ними, сражался в карты и, видимо, состязался в искусстве владеть пистолетом. Говорят, он простреливает туз на тридцати шагах.
— А ты, Жорж?
— Я с любого расстояния, — усмехнулся он.
Мы свернули на Дворцовую набережную. Воздух начинал чуть-чуть синеть. К нам навстречу неслись бесчисленные сани, развозившие петербургскую знать с модного развлечения — катаний по льду Невы.
Эти северные состязания пользовались в то время в Петербурге всеобщим успехом. Конские ристалища по застывшей реке или простонародные катанья с гор одинаково увлекали общество столицы, гвардию и двор. Издалека мы могли наблюдать последние заезды. В дробном звоне и переливчатой перекличке бубенцов проносились на своих стальных лезвиях широкие, низкие сани, увлекаемые тройками великолепных коней. Мы невольно залюбовались этими мощными скакунами с огнедышащими мордами, напряженными мускулами и серебрящимися от инея гривами под расписными дугами и тяжелыми металлическими украшениями русской упряжи. Огромный овальный путь, вычерченный полозьями по массивному стеклу реки и отгороженный пикетами с протянутыми канатами, представлял собою поле состязания, идущее от самого Адмиралтейства до конца Зим-
282
него дворца. Вокруг по льду реки, по набережным и мостам расположилось множество экипажей, саней, троек, карет с радостно возбужденными зрителями. Самые знаменитые жокеи Парижа и Лондона не привлекают к себе во время прославленных королевских скачек такого жадного внимания, как эти силачи-кучера в четырехугольных бархатных шапках, в зеленых и синих кафтанах с блестящими пуговицами по бокам. Быстро несясь к нашей цели, мы успели оглядеть беглым взором эту редкостную картину зимних катаний на Неве.
Но зрелище уже, видимо, заканчивалось. Последние тройки описывали свои эллипсы по мутному стеклу неподвижной реки; последние любители сильных ощущений низвергались на крохотных салазках с высоты снежных склонов Невы, чтобы волнообразно нестись по кривым уступам особого ледяного хребта.
Толпа редела. Два конногвардейца успели крикнуть из своих саней д'Антесу, что мы запоздали на гулянье. Молоденькая Воронцова лукаво и весело улыбнулась нам на наш поклон. Внезапно Жорж вздрогнул и резко повернул голову. Я взглянул в том же направлении.
Нам навстречу, уже почти вровень с нашими лошадьми, катил открытый экипаж. С возвышения рессорного кузова, слегка колеблясь от быстрого движения коляски, легко и грациозно кутаясь в черный соболь, на нас смотрела прозрачными и радостными глазами она, прекраснейшая из прекрасных. Мороз, покрывший легким румянцем ее бледные щеки, матовый налет инея на выбивающихся из-под меха пепельных прядях, оживление от зрелища и движения — все это придавало ей неожиданное сходство с юной русской девушкой, закаленной и украшенной своей северной природой. Она мгновенно промелькнула перед нами с сияющей улыбкой ответного приветствия, в неизменном великолепии своего спокойствия, блаженного неведения людей и надземного непонимания их страстей, вожделений и ненавистей.
У меня больно сжалось сердце. Железная рука смерти уже высоко взметнулась над ней, — а она, не видя, не зная, не чувствуя опасности, триумфально сияла бесстрастными улыбками и по-прежнему скользила по нашей кровавой и жестокой действительности каким-то магическим и бесплотным виденьем.
— А ведь знаешь, — произнес д'Антес через минуту, когда мы уже пересекали ледяную равнину Невы и неслись в направлении колокольни Петра и Павла, — а
283
ведь знаешь, что бы там ни было, я, вероятно, в последний раз только что увидел ее. Ты понимаешь — никогда, никогда больше...
Я захотел возразить, но не нашелся. Внезапно я понял, что для д'Антеса ужас предстоящей дуэли был только в этом. Независимо от исхода поединка, он навсегда терял всякую возможность продолжать свой роман, надеяться, добиваться и верить в счастливое достижение. Неизбежная разлука сегодня обрывала его трехлетнюю страсть. В этом отношении расчет Пушкина был безошибочным. Кровавым столкновением, хотя бы даже ценою жизни, он решительно и бесповоротно отстранял соперника от своей жены.
Через несколько минут мы уже мчались за городом по глубокому снежному пути. Резкий ветер засыпал нам глаза острой снежной пылью и с протяжным гуденьем кружил ее белым циклоном вдоль дороги. Смеркалось. Оглянувшись, я увидел за собой другие сани. Два вороных коня, пущенные рысью, словно вдогонку нам, мчали седоков по нашим следам.
Наш возница круто осадил лошадей, и они стали как вкопанные у рва Комендантской дачи. Мы прибыли на условленное место к обледенелому потоку с траурным именем. Мне вспомнилась летняя поговорка кавалергардов: «житье-бытье на Черной речке очень веселое»...
Крепко сжимая свой тяжелый лакированный ящик, я отбросил полость и ступил в глубокий снег. В этот момент завизжали полозья догонявших нас саней, раздался храп коней, и полковник Данзас, неся громоздкий предмет под своим форменным плащом, подошел ко мне, слегка прикоснувшись к своей офицерской треуголке с черными перьями.
— Нам нужно отыскать удобное место где-нибудь в стороне, — сказал он мне, — не стреляться же на глазах у извозчиков.
Я указал на маленькую рощицу, чернеющую вдалеке. Густой кустарник мог служить нам превосходной завесой.
Все вчетвером мы зашагали в указанном направлении. Действительно, кустарник округлял площадку, довольно просторную и совершенно скрытую от дороги. Но пласт снега здесь лежал по колено. Сходиться и маневрировать противникам было невозможно. Необходимо было утоптать снег и устроить маленький плацдарм для поединка.
284
Полковник Данзас, в качестве военного инженера, умело руководил этой полевой работой. Мы с Жоржем усиленно помогали ему. Пушкин отошел в сторону и, закутавшись в свою медвежью шубу, сел на какой-то пень и стал наблюдать за приготовлениями.
Но так как работа наша требовала некоторого времени, он, видимо, начал нервничать. С этого момента и почти до самого отъезда с места поединка Пушкин не переставал проявлять раздраженность и нетерпение. Через несколько дней после дуэли, по просьбе князя Вяземского, я писал ему, что в продолжение всего дела спокойствие, хладнокровие и достоинство обеих сторон были совершенны. Иного я и не имел права писать над раскрытой могилой убитого поэта, — но, по совести, я не мог этого сказать о Пушкине. Затмение духа продолжало владеть им во все время поединка и совершенно разрушало в моих глазах представление о нем как об опытном дуэлисте и знаменитом бретере. Европейская выдержка и спокойствие светского человека, которыми он в таком совершенстве владел в обществе, изменили ему на месте встречи. Он был возбужден, экспансивен, нетерпелив, несдержан. За несколько минут приготовлений к поединку и самого обмена выстрелами он говорил и делал много лишнего. Спокойная сдержанность смертельной вражды, к сожалению, ему не была свойственна. Африканская ли кровь предков лишала его строгой невозмутимости, свойственной в такие минуты европейцу, широта ли и распоясанность русских нравов, непривычных к самообузданию, но только и здесь, перед барьером, он, видимо, мучительно метался и не сумел скрыть своего возмущения и гнева под ледяной корой безукоризненного самообладания. Он словно не стеснялся обнажать перед нами свою вражду и мстительность. В эту минуту его великий поэтический гений был совершенно заслонен темными порывами неукротимой страсти.
Мне сразу пришлось насторожиться и бдительно следить, чтобы установленные формы не были нарушены с его стороны каким-либо неожиданным капризным и резким выпадом, способным усугубить нанесенное им оскорбление и превратить регулярный поединок в убийство на большой дороге. С этого момента я уже более не выпускал его из поля зрения, вполне уверенный в Жорже, за действиями которого мог, впрочем, следить секундант поэта.
285
Плац был вытоптан. Данзас подошел к Пушкину, отряхивая снег с ботфорт.
— Находишь ли ты удобным выбранное нами место?
— Мне это совершенно безразлично, — с оттенком недовольства отвечал поэт, — только постарайтесь сделать все это скорее.
Он нетерпеливо поднялся и, кутаясь в шубу, сделал несколько шагов в направлении протоптанной тропинки.
Данзас, отметив крайний пункт воткнутой в снег шпагой, крупно и уверенно зашагал по узкой площадке. На двадцатом шагу он попросил меня отметить место д'Антеса. Каждый из нас отсчитал по пяти шагов внутрь поля от крайних границ, отмеченных шпагами. Это были линии барьеров. Свидетель Пушкина сбросил свою шинель и аккуратно сложил ее в виде пограничной линии поперек протоптанной дорожки. Я снял свою шубу и повторил его жест на своем пункте. Арена для действия была готова.
Мы подошли с Данзасом к нашим ящикам, отложенным в стороне. Предстояло зарядить все четыре пистолета на случай повторного боя. Я предоставил распорядителю поединка выполнить эту задачу, ограничившись простым наблюдением. Он умелым жестом насыпал из медной натруски порох в граненые стволы, обжал крупные свинцовые горошины стальной пулелейкой и отрывистыми ударами молотка по шомполам вбил заряды. Первая очередь пала по жребию на наш ящик. Подправив кремни и насыпав из мерок порох на полки, мы щелкнули двукратно затворами, взводя курки. В это время раздался нетерпеливый возглас Пушкина:
— Ну, что же? Готово ли наконец?
Я поторопился обернуться. Приготовления были действительно совершенно закончены. С заряженными пистолетами в руках мы подошли к противникам и повели их на отмеченные места. Здесь каждому из них было вручено оружие. Безукоризненно, согласно правилам боя, Пушкин сложил к плечу правую руку, и вдоль его кудрявого лица протянулось вверх блестяще граненое дуло.
Сумерки приближались. Голубизна снега и воздуха сгущалась. В стороне Комендантской дачи кое-где начинали мерцать оранжевые огоньки. Но под открытым небом еще было совершенно светло, и снежная пелена отчетливо обрисовывала все контуры фигур и предметов.
Ясный морозный день заканчивался торжественным
286
зимним закатом. Солнца не было видно. Но где-то над горизонтом сизые небеса были неожиданно прорезаны на несколько минут медным отсветом невидимого светила. Легкие багровые блики пробежали местами по черным ветвям и синему снегу, углубляя тенями черноту деревьев и синеву равнины.
Я предоставил Данзасу, как военному и главному руководителю поединка, подать сигнал к началу боя.
Он взглянул на обоих противников, стоящих в боевых позах и выжидательно глядевших на нас.
Все было тихо. Только ветер продолжал завывать в соснах, качая их тяжелые верхушки.
Убедившись, что все в порядке, полковник поднял высоко над головою свою черную шляпу и, подержав ее несколько мгновений в воздухе, сильным и подчеркнуто резким движением прочертил своим плюмажем полукруг и опустил его к земле.
Противники, вытянув оружие перед собой и целясь, начали сходиться. Жорж, прямой, как струна, медленно шагал от шпаги к разостланной шинели, выравнивая дуло по живой мишени. Пушкин с протянутой рукой стремительно приблизился к барьеру, почти подбежав к нему, и у самого плаща остановился, вытянувшись корпусом вперед и напряженно ища дулом своего противника. Он словно ожидал, чтоб и тот занял линию барьера.
Продолжая опасаться, ввиду его взволнованности, каких-либо нарушений, которые могли бы оказаться роковыми для моего доверителя, я с пристальным вниманием следил за поэтом.
Лицо его сжалось в судорожной гримасе прицела. Казалось, все его существо сосредоточилось в одном взгляде его правого глаза, жадно искавшего безошибочную прямую между дулом его пистолета и грудью противника. Он целил прямо в сердце д'Антеса.
Вся его воля словно вылилась в одно стремление — четко вычертить эту смертельную линию и мгновенно разрешить уничтожением врага великий груз давившего его страдания. Беспощадная решимость, жестокая воля к убийству, жадное желание смести с лица земли ненавистного соперника — вот что явственно отразилось на этом бледном лице с резкой складкой между бровей и крепко стиснутыми полными губами.
Я понял, что все надежды потеряны. В это время грянул выстрел. Почти в то же мгновение вытянутая рука Пушкина дрогнула, вся фигура его как-то странно
287
качнулась, колени судорожно согнулись, ноги подкосились, и он свалился лицом вперед на разостланную шинель, успев произнести при падении:
— Кажется, у меня раздроблено бедро.
Я оглянулся. Д'Антес, не дойдя до барьера, медленно опускал свой дымящийся пистолет.
Я сразу понял его дуэльную стратегию. Признав по лицу Пушкина всякий мирный исход исключенным, Жорж решил отстоять свое право на жизнь. Смертный приговор, написанный на лице Пушкина, вызвал его противника на первый и спешный выстрел. Поэт, видимо, ждал, чтоб д'Антес подошел к барьеру, имея в виду в этот момент разрядить свое оружие. Этот расчет необходимо было разрушить. Военное воспитание и строевая служба д'Антеса давали ему несомненное стратегическое преимущество пред бретером-литератором. Успех дуэли обеспечивался не только меткостью выстрела, как, вероятно, полагал Пушкин, но и правильным маневрированием после сигнала, о чем поэт, видимо, не подумал. Это и погубило его. Д'Антес применил верный тактический прием и, намеренно замедлив момент своего прибытия к барьеру, дал неожиданный выстрел и предупредил этим удар своего противника. Поняв, что смертельный исход неизбежен, он дал беспощадный выстрел в бок, что могло повлечь за собой даже моментальную смерть. Тело Пушкина действительно лежало недвижно поперек шинели с беспомощно разметанными руками. Я был убежден, что поэт убит. Мы с Данзасом бросились к нему. Д'Антес сделал движение в том же направлении.
Но в это время Пушкин поднял голову и, опершись о левую руку, повелительно крикнул д'Антесу:
— Подождите! Я чувствую в себе достаточно силы, чтобы дать мой выстрел.
Д'Антес послушно повернулся, перешагнул барьер, занял свое место и, ни на мгновенье не теряя из виду правил борьбы и грозящей опасности, принял классическую вторую позицию: он повернулся боком к своему противнику, уменьшая этим площадь прицела, и, прикрыв грудь правой рукой, вытянул вдоль лица дуло разряженного пистолета, естественный и законный щит в этом положении. Ни одна дозволенная подробность не была им опущена, — этому он обязан спасением своей жизни. Д'Антес с изумительной предусмотрительностью разыграл эту партию, как опытный шахматный игрок,
288
дав несколько замечательных дуэльных ходов и по праву выиграв жизнь в этой смертельной игре.
Полулежа, перенеся центр тяжести своего тела на левую руку, Пушкин начал поднимать свое оружие. Но пистолет его был весь в снегу. Медленно выступала из-под тающих снежинок подпись Ле-Пажа, оружейника короля.
— Дайте мне другой пистолет, — сказал он своему секунданту.
Данзас бросился к ящику. Случай этот не был предусмотрен в нашем утреннем регламенте, и такое решение показалось мне неправильным. По дуэльному кодексу, как известно, замена пистолетов, взятых противниками в руки, не допускается. И в данном случае непригодность оброненного оружия явилась следствием удачного выстрела д'Антеса, который имел право извлечь отсюда все благоприятные для него выводы. Вторые пистолеты были нами заряжены только на случай безрезультатности первого обмена выстрелами, т. е., собственно, для второй дуэли, когда оба противника совершенно равноправно обновили бы одновременно свое оружие. Тяжелая рана Пушкина, на мой взгляд, заканчивала дуэль и, во всяком случае, не давала права немедленно же приступить как бы ко второй дуэли с заменой пистолета для одной из сторон.
Я вопросительно взглянул на д'Антеса, решив протестовать против этого неожиданного оборота дела. Он понял мой взгляд и сделал выразительный жест рукой: оставь, не препятствуй.
Мне пришлось подчиниться. Данзас подал Пушкину второй пистолет. Лежа, с беспомощно недвижными ногами, владея свободно только своим корпусом, Пушкин крепко оперся левой рукой о землю и гораздо спокойнее, чем в первый раз, начал уверенно целиться прямой и твердо вытянутой рукой.
На этот раз он целился довольно долго. Ветер утих. Пауза показалась мне бесконечной. Я по-прежнему смотрел на поэта и следил за его движениями и выражением лица. Я заметил, что подкладка Данзасовой шинели, на которую Пушкин упал животом, покрывалась понемногу темным пятном от обильно бившей из раны крови. Левая рука, прикоснувшаяся к месту ранения, была также слегка окровавлена, и длинные пальцы поэта с безукоризненно отшлифованными ногтями полупогружались в рыхлый снег, оставляя на нем следы крови. Медный
289
отблеск заката еще продолжал играть своими палевыми бликами по поверхности снежного поля, вырывая из сумерек неожиданные эффекты освещения. Я внезапно вспомнил мою первую встречу с поэтом, когда он медленно перебирал уральские алмазы и рубины в хрустальных тарелках графини Фикельмон, шутливо сравнивая световую игру этих драгоценностей с блестками окровавленного снега.
Наконец он выстрелил. Д'Антес качнулся и упал, но тут же зашевелился и приподнялся.
— Куда вы ранены? — крикнул ему Пушкин.
— Мне кажется, что пуля у меня в груди, — отвечал д'Антес.
— Браво! — ликующе воскликнул Пушкин, триумфально бросив вверх свой пистолет. Прицел его оказался верным и выстрел безошибочным.
В то же мгновение силы оставили его. Он снова упал лицом в снег и потерял сознание. Я бросился к д'Антесу.
Жорж был ранен в руку и слегка в грудь. Мне сразу удалось установить, что пуля вышла навылет и рана, вероятно, не опасна. Упал он от сильной контузии, вызванной выстрелом на таком близком расстоянии. Убедившись в его безопасности, я вернулся к противоположному барьеру.
— Рана Пушкина относится, несомненно, к разряду тяжелых, — сообщил мне Данзас. — Полагаю, что продолжать поединок невозможно.
— Будем считать дело законченным, — согласился я.
Пушкин между тем приходил в сознание. Его безбровое, как у Джиоконды, лицо было чрезвычайно бледно, но после нескольких спутанных фраз он снова овладел собой. Увидя неподвижно лежащего д'Антеса, он порывисто спросил меня:
— Он убит?
— Нет, но он ранен в руку и грудь.
— Странно: мне казалось, что я испытаю наслаждение, убив его. Теперь я чувствую, что нет...
— Протяните же друг другу руки теперь, когда вражда может считаться законченной, — попытался я внести немного мира в эту сцену кровавого расчета.
Пушкин сухо взглянул на меня.
— Все равно, как только мы выздоровеем, мы начнем все сначала.
290
Это были последние слова вражды, которые я слышал от поэта. Мне пришлось еще увидеть его через несколько минут уже вполне овладевшим собой и как бы примиренным с окружающими.
Начинало темнеть. Кровь продолжала бить из раны Пушкина. Необходимо было торопиться. Отойдя в сторону с Данзасом, мы обсудили дальнейший план действий. Я взялся доставить к месту поединка извозчиков, поджидавших в полуверсте оттуда, и помочь посадке в сани тяжело раненного поэта.
Вскоре оба извозчика были у нашей рощицы. Они остановились у забора из тонких жердей, окаймлявшего небольшую дорогу вдоль рощи. Д'Антес довольно легко прошел это расстояние, поддерживаемый мною. Но для Пушкина это было невозможно. Рискованно было бы переносить его на руках, ввиду возможности усиления кровотечения.
Полковник Данзас поручил извозчикам разобрать легкую изгородь. Это дало возможность саням подъехать к самому барьеру. С большими предосторожностями мы закутали Пушкина в шубу и перенесли в сани. Данзас приказал ехать шагом, мы пошли рядом. Жорж в своих санях ехал за нами.
Полозьям пришлось скользить по неровным сугробам непроезженного поля.
Пушкин временами болезненно вздрагивал, но ни разу на протяжении мучительного переезда не вскрикнул и не застонал.
Мы снова собрались у Комендантской дачи. Здесь нас ожидала карета, присланная бароном Геккерном на случай тяжелого ранения его сына.
Мы с Жоржем отозвали Данзаса и предложили ему воспользоваться экипажем для перевозки Пушкина. Д'Антес тут же заявил полковнику о нашей полной готовности на предстоящих допросах держать в тайне его имя.
От последнего он решительно отказался, каретой же счел возможным воспользоваться, предупредив меня, что Пушкину имя ее владельца останется неизвестным.
Я подошел к саням и протянул руку поэту:
— Итак, до свиданья, я не прощаюсь с вами...
Из-под своей тяжелой шубы, подбитой черным медвежьим мехом, он высвободил свою узкую, бледную руку и протянул ее мне.
291
— Прощайте, д'Аршиак, вы мужественно вели себя в этом деле. Я надеюсь, что вам не придется пострадать из-за меня...
— Поправляйтесь скорее, — проговорил я тоном бодрости, пожимая в последний раз слабеющую руку поэта.
Он ничего не ответил, но посмотрел на меня долгим, глубоким и печальным взглядом. Я прочел в этих прекрасных глазах сознание обреченности. Казалось, черные крылья смерти тяжело и неумолимо зашумели над ним и он почувствовал, что ему уже не уйти из-под их зловещего шелеста.
Взгляд его был расширен тем особенным предчувствием конца, в котором переплетались разнообразные ощущения: безнадежность, тихое отчаяние, покорное примирение с неотвратимым, обузданное страдание и мудрое принятие своей участи.
Мужественный, решительный и страстный, он, казалось, впервые смирился. Этот носитель мощной творческой воли был уже тих и безропотен, как больной ребенок. Сраженный, он словно понял великую ошибку пережитой трагедии и в несколько мгновений изжил до конца владевшую им страсть гнева, вражды и ненависти. Он сразу прояснился, стоически овладел собою, сумел вызвать в себе лучшие силы своей благородной, широкой и героической натуры. Все это я в несколько мгновений прочел в его прощальном взгляде и с болью в сердце почувствовал всю торжественность проносившейся минуты: я присутствовал при гибели великого поэта.
Одна из вольных птиц нашего столетия стремительно сорвалась с высоты своего полета и, смертельно подстреленная, истекала кровью.
Я воротился к нашим саням. Д'Антес стоял перед ними, молчаливый и бледный, крепко сжав зубы и неподвижно смотря вперед своими стеклянными зрачками, словно вправленными в тонкие черные ободки. Предо мною внезапно возникла давнишняя картина — стрельбищное состязание в Сен-Сире: белокурый юнкер опускал к ногам нарядной женщины теплую крылатую добычу и принимал от нее своими гибкими молодыми руками в окровавленных обшлагах сверкающий на солнце золотой кубок.
Когда через несколько мгновений сани мчали нас обратно от Комендантской дачи к городу, в сознании у ме-
292
ня настойчиво звенели стихи старинного итальянского поэта о непонятных гипербореях:
La sotto giorni nubilosi e brevi
Nasce una gente a cui l'morir non dole 1.
Только гораздо позже я случайно узнал, что Пушкин, описывая в одной поэме убийство поэта на дуэли, поставил эти стихи Петрарки эпиграфом к своей печальной песне.
XIII
Вечер наш был полон тревоги и смятения. Катрин, потрясенная происшествием, долго не могла оправиться от неожиданности случившегося. Барон был счастлив, но не скрывал своих опасений за будущее. Врач посольства бинтовал правую руку Жоржа, раненную навылет, и всячески успокаивал нас. Но вид крови, зондов, ланцетов и марли расстраивал всех и напоминал о трагедии. У нас еще не было точных сведений о состоянии Пушкина, хотя мы имели все основания считать его положение тяжелым. Впервые, кажется, в голландском посольстве были озабочены вопросом о здоровьи поэта и опасались его смерти.
Вскоре приехали Строгановы. Они привезли нам известие, что несколько врачей во главе с лейб-медиком Арендтом признали состояние Пушкина безнадежным. Пуля пробила нижнюю часть живота, причинила обильное кровотечение и, судя по тяжелому состоянию раненого, вызвала воспаление брюшины, от которого не оправляются. Страдания Пушкина невыносимы, но он стойко переносит их. Арендт, бывший в тридцати сражениях и видевший сотни умирающих от ран, считает мужество Пушкина беспримерным. Строганов не скрыл от Катрин, что отчаяние и муки Натали не поддаются описанию. Пушкин избегает видеть ее.
Между тем Жорж с забинтованной рукой продиктовал рапорт о происшедшем на имя командира кавалергардского полка и немедленно же отправил его Грюнвальду. Завершив обязанности секунданта, я в свою очередь отправился с докладом к Баранту. Он был глубоко взволнован моим рассказом, но согласился, что я не мог
_______________________________
1 Там, под туманными и короткими днями,
Родится племя, которому не больно умирать... (ит.)
293
отказать Геккерну и Жоржу в их просьбе. Условия и подробности поединка вызвали его решительные возражения. Он считал, что не было оснований превращать дуэль в бой с обязательным смертельным исходом. Серьезность поединка делала неизбежным присутствие врача и требовала наличия не менее четырех секундантов.
Наконец, Барант считал неправильным, что я не условился с Данзасом о встрече в тот же вечер для составления протокола дуэли, скрепленного нашими подписями.
— Все эти нарушения могут быть поставлены вам в вину. Поединок далеко не на высоте существующих обычаев и выработанного в Европе дуэльного права. И все это становится особенно ощутимым ввиду опасности ранения Пушкина. Состояние его бесконечно огорчает меня. Это, кажется, единственный русский, способный в наши дни представлять свою страну перед Европой.
Барон перешел к обсуждению моего положения.
— Знаете ли вы, что угрожает вам по русским законам?
— Конечно. То же, что и дуэлянтам: смертная казнь через повешенье.
— Но, к счастью, как член дипломатического корпуса, вы не подсудны русским трибуналам.
Мы подробно обсудили положение. Барант полагал, что мне придется временно оставить Петербург и отправиться курьером в Париж. Мы решили предоставить событиям ближайших дней окончательное разрешение вопроса.
Поздно вечером я оставил французское посольство и вернулся на Невский в квартиру Геккернов. Катрин показала мне расплющенную пулей крепкую кавалергардскую пуговицу, спасшую жизнь Жоржу.
Я вспомнил другой случай безвредного выстрела и безопасного ранения в столь памятный для меня день 28 июля 1835 года, круто повернувший всю мою дипломатическую карьеру.
Под бурным обстрелом адской машины на бульваре Тампль премьер Брольи был затронут пулей, скользнувшей по знаку его ордена Почетного легиона, проникшей за воротник его мундира и остановившейся под галстуком...
У Геккернов мне сообщили последние известия. Государь, оказывается, был вместе с принцем Карлом
294
Прусским в Каменном Большом театре на «Бронзовом коне» и узнал о событии лишь к концу вечера. Он был возмущен поведением Пушкина, давшего ему слово не предпринимать никаких шагов без его ведома. Но он решил не высказывать своего негодования и даже послал Пушкину через Арендта свое прощение. Нессельроде был умилен этой трогательной заботой монарха, который с высоты престола облегчал предсмертные страдания своего многогрешного подданного. Мы же увидели во всем этом обычный театральный жест императора, озабоченного впечатлением зрителей и привыкшего скрывать свои чувства под эффектными поступками и звонкими фразами.
Мы не ошиблись: посылая свое прощение умирающему Пушкину, император предавал его военному суду.
Нессельроде сообщил нам, что по существу государь всецело на стороне Геккернов. Он считает, что Пушкин всем своим поведением сделал дуэль неизбежной и противники его не могли поступить иначе. Последнее письмо Пушкина к барону Геккерну император назвал «дерзкой и глупой картелью». Д'Антес, по его мнению, вел себя честно и смело, приняв вызов своего «бешеного противника» и выйдя к барьеру. До ушей Николая еще не дошла злая острота Геккерна о Пушкине — рогоносце по милости царя. Расположение к посланнику и д'Антесу в Зимнем дворце нисколько не поколебалось. Они могут всецело рассчитывать на верховное благоволение и высокую поддержку.
Мне было ясно: император Николай оставался на стороне своей политической партии. Все симпатии его склонялись к легитимистам Геккернам, столкнувшимся с опасным вольнодумцем Пушкиным. Беспокойному петербургскому журналисту он, не колеблясь, предпочитал сторонника старших Бурбонов д'Антеса и реакционного политика Геккерна. Модный офицер и видный дипломат меттерниховской школы были людьми его круга, его симпатий и убеждений. Он был на их стороне и в первую минуту почти не скрывал этого.
Не скрывали своего сочувствия барону и собравшиеся у него его ближайшие друзья.
Строганов своими расслабленными руками обнимал Жоржа и восхищался его благородным и мужественным поведением во всей истории с Пушкиным. Он уверял, что все честные люди должны быть на стороне д'Антеса
205
— Вы мне такой же племянник, как и Пушкин, я равно люблю Натали и Катрин, но позвольте мне считать вас своим настоящим родственником. Вы рыцарски служите великому делу законных королей Европы, вы с юности боретесь со всеми преступными безумцами, мечтающими о гибели тронов и торжестве черни. Вы доказали свое мужество не только у барьера, но перед лицом баррикад...
Нессельроде заговорил о Пушкине как о давнишнем служащем своего министерства.
— С его интересом к истории, хорошим слогом, лицейским воспитанием и отчетливым знанием французского языка, Пушкин мог бы сделаться полезным дипломатом. Но якобинские убеждения, крайняя распущенность, неисправимый нрав памфлетиста — все это лишало правительство возможности использовать его на этом пути, где он мог бы зреть и расти также и как политический писатель.
— Невозможный характер, — произнес барон, — мрачный, жестокий, заносчивый...
— И притом, — продолжал Нессельроде, — безмерное самолюбие и жажда шума, доведенная до болезненного извращения... Неудовлетворенный своим положением при дворе, своим чином и званием, он хотел возвеличить себя дерзостью, поднять себя беззаконной дуэлью до тех степеней, куда его личные свойства не могли раскрыть ему доступ. Он оскорбил посланника европейского двора, представителя коронованной главы, как он писал в своем возмутительном письме. Он знал, что вокруг его дуэли поднимутся толки всех европейских гостиных, гнев императора и говор международных депеш.
— Вот что значит подражать в своих поэмах Байрону, — мрачно заметил Геккерн, — в наши дни это самый верный путь к известности.
— Пушкин хотел подражать лорду Байрону не только в своих поэмах, — заметил Строганов, — но и в жизни. Он пытался повторить в наших суровых русских условиях блестящий и странный характер английского поэта. Нужно ли доказывать, что он обрекал себя на тяжелую и печальную пародию?
— Вы, кажется, лично знали Байрона, граф?
— Да, мы встречались и не раз беседовали с ним. Он почтил меня упоминаньем в своем «Дон Жуане». В Константинополе я узнал подробности о его конце. Я лучше другого могу сопоставить двух поэтов...
296
— И вы не находите сходства в них?
— Не больше, чем между портретом Лауренса и карикатурой «Панча». Сообразите только: Байрон — член палаты лордов, своими речами ошеломляющий стариннейший парламент, — и несколько антиправительственных эпиграмм Пушкина! Венеция, Равенна — и бессарабские степи. Герб первой аристократической фамилии Великобритании — и обедневший род Пушкиных, лишенный всякого политического значения. Наконец, какой жест, достойный античной трагедии, смерть Байрона в Греции — и весь этот нелепый великосветский скандал с непонятной и ненужной дуэлью, о которой петербургские салоны будут шуметь целых две недели...
Здесь я не выдержал.
— Вы ошибаетесь, на меня смерть Пушкина также производит впечатление эпилога из античной трагедии.
— Вы рассуждаете, как иностранец, дорогой виконт...
— Мне кажется, именно так должен был бы рассуждать каждый русский.
Неожиданно курьер посольства доложил:
— Вестовой от командира кавалергардского полка.
Через минуту статный ефрейтор вручил Жоржу приказ барона Грюнвальда: состоять поручику Геккерну впредь до особых распоряжений под домашним арестом.
Таким образом военный суд через несколько часов после выстрела д'Антеса уже вступал в свои права. Предсмертная драма поэта становилась достоянием презусов, асессоров и аудиторов при особом трибунале конной гвардии.
XIV
На следующий день с утра весь город был взволнован известием, что Пушкин умирает от пистолетной раны, полученной на дуэли. Петербургское общество было глубоко взбудоражено. Сразу обнаружились сложные сплетения различных политических течений, боровшихся вокруг имени и личности знаменитого русского писателя. Уже в этот день начали раздаваться голоса, особенно явственно прозвучавшие над раскрытым гробом поэта. Несколько гостиных, по словам Вяземского, сразу сделали из него предмет своих партийных интересов и споров.
297
В этот день Барант решил отправить меня курьером в Париж. Он виделся днем с Виельгорским и Тургеневым. Ему стало известно, что царь отклонил просьбу умирающего Пушкина о прощении Данзаса. Предстоящий военный суд мог в той или иной степени коснуться меня хотя бы как свидетеля. Посланник считал необходимым ускорить мой отъезд за границу.
От друзей Пушкина Барант узнал подробности медленной агонии поэта. Лед, опиум и пиявки, слегка ослабляя местную боль, были бессильны избавить умирающего от невыносимых страданий. Тяжелые тошноты и чувство невыразимой тоски угнетали его. Поздней ночью внутренние боли достигли такой невероятной силы, что железная воля Пушкина была сломлена, и жеетокие стоны огласили впервые его кабинет. К утру он снова успокоился и пожелал проститься с детьми и женой. Днем он попросил к себе Карамзину и расстался с ней, как с матерью. Весь день он был спокоен, но положение его оставалось безнадежным. Врачи не могли поручиться за следующий день.
Мне вспомнилась наша летняя беседа с Пушкиным о дуэли и смерти Армана Карреля. Обстоятельства обоих поединков были во многом разительно схожи. В памяти моей возникала хвала поэта нашему публицисту за то, что он погиб как боец и герой, смело открыв лицо огню своего противника. «Мужественный характер, славная смерть», — слышались мне слова Пушкина.
Вечером я поехал в английское посольство, чтоб сговориться о совместном отъезде с лондонским курьером. Выяснилось, что в Петербурге мне оставалось прожить не больше четырех дней. Поздно вечером я возвращался домой. На Невском у дома нидерландского посольства я увидел отряд конных жандармов и пешей полиции. Голландского посланника оберегали от народного гнева.
Кучер повез меня набережной Мойки. У знакомого дома за Певческим мостом я увидел кучки людей, тревожно о чем-то перешептывавшихся. Сквозь портьеры местами пробивался бледный свет. Я вспомнил, что за этими окнами медленно гас носитель одного великого имени. Впервые в жизни я с такою силой ощутил веяние смерти и словно расслышал явственные шаги истории.
Но и другое волновало меня: я не мог уйти от по-
298
следнего печального взгляда Пушкина, долгого и страдальческого, я не мог забыть беспомощный жест его ослабевшей руки. Образ смертельно раненного человека, безропотно принимающего приговор судьбы, стоял передо мной мучительным видением, когда сани медленно увозили меня от высокого и пасмурного дома, где в предсмертной тоске метался умирающий поэт.
ИЗ КАМЕР-ФУРЬЕРСКОГО ЖУРНАЛА
28 января.
Тридцать пять минут восьмого часа в концертном зале, в присутствии высочайших и приглашенных обоего пола особ, представлены были на поставленной театральной сцене вначале немецкими актерами комедия «Lewandschatz ung», а после того французскими актерами водевиль «Молодой отец».
XV
У меня сохранились беглые заметки петербургских газет.
Вчера, 29 января, в пятом часу пополудни скончался Александр Сергеевич Пушкин. Русская литература не терпела столь важной потери со времени смерти Карамзина.
«Санкт-Петербургские ведомости».
Сегодня, 29 января, в третьем часу пополудни литература русская понесла невознаградимую потерю: Александр Сергеевич Пушкин, по кратковременных страданиях телесных, оставил юдольную сию обитель. Пораженные глубочайшею горестью, мы не будем многоречивы при сем извещении: Россия обязана Пушкину благодарностию за двадцатидвухлетние заслуги его на поприще Словесности, которые были ряд блистательнейших и полезнейших успехов в сочинениях всех родов. Пушкин прожил тридцать семь лет, весьма мало для жизни человека обыкновенного и чрезвычайно много в сравнении с тем, что совершил уже он в столь краткое время существования, хотя много, очень много могло бы еще ожидать от него признательное отечество.
«Северная пчела».
299
Солнце нашей поэзии закатилось. Пушкин скончался во цвете лет, в середине своего великого поприща... Более говорить о сем не имеем силы, да и не нужно: всякое русское сердце знает всю цену этой невозвратимой потери и всякое русское сердце будет растерзано. Пушкин! Наш поэт! наша радость, наша народная слава! Неужели в самом деле нет уже у нас Пушкина? К этой мысли нельзя привыкнуть.
Двадцать девятого января, два часа сорок пять минут пополудни.
«Литературные прибавления к Русскому инвалиду».
Государь император высочайше повелеть изволил: наложить при высочайшем дворе траур на две недели, начав оный с 29 числа сего января по случаю кончины его королевского высочества герцога Мекленбург-Шверинского Фридриха-Франца.
«Северная пчела».
Гораздо позже мы узнали текст следующего документа:
Секретно.
ШТАБ
отдельного Командиру гвардейского резервного
гвардейского кавалерийского корпуса,
корпуса. господину генерал-лейтенанту и ка-
30января 1837г. валеру Кноррингу.
Начальника штаба
РАПОРТ
Г-н Военный министр от 29 сего Генваря за № 61 сообщил г. Командующему Отдельным гвардейским корпусом, что Государь император, по всеподданнейшему докладу Его Императорскому Величеству донесения моего о дуэли, происшедшей 27 числа сего Генваря между поручиком Кавалергардского Ее Величества полка Бароном де Геккерном и Камергером Пушкиным, высочайше повелеть соизволил: судить военным судом как
300
их, так равно и всех прикосновенных к сему делу, с тем, что ежели между ними окажутся лица иностранные, то, не делая им допросов и не включая в сентенцию суда, представить о них особую записку с означением токмо меры их прикосновенности.
Во исполнение сей высочайшей воли я, по приказанию г. Командующего корпусом, покорнейше прошу Ваше Превосходительство приказать сделать распоряжение, дабы предварительно военного суда произведено было, через особого Штаб-офицера, следствие, кто именно прикосновенен к означенному делу, которых (кроме иностранцев) судить военным судом в учрежденной при Лейб-Гвардии Конном полку Комиссии; а относительно иностранцев поступить, как высочайше повелено. Поелику же известно, что Камергер Пушкин умер, то самое следует объяснить токмо в приговоре суда, по какому бы он за поступки его наказанию по законам подлежал.
Об открытии прикосновенных к сему лиц не оставить меня без уведомления.
Генерал-Адъютант В е й м а р н.
Таким образом, смертельно раненный поэт волею императора был предан суду.
Двойственность и обычная фальшивая игра Николая сказались в полной мере в этих последних распоряжениях о Пушкине. В вечер дуэли он послал умирающему свое полное прощение и обещание взять на себя заботы о его семье.
Жуковский с восторгом рассказывал мне об этом:
— Какой трогательный конец земной связи между царем и тем, кого он когда-то отечески присвоил...
А утром 29 января, когда Пушкин агонизировал в жестоких мучениях, император, только что высказавший поэту свое «монаршее прощение», отдавал распоряжение о предании его суду. Только смерть Пушкина, последовавшая через несколько часов, приостановила его бессмысленное распоряжение.
Русское общество так и не узнало, что его поэт сошел в могилу в качестве подсудимого высшего военного трибунала.
Так простил император Николай умирающего Пушкина.
301
ИЗ КАМЕР-ФУРЬЕРСКОГО ЖУРНАЛА.
30 января.
В семь часов полудня съехались в Зимний дворец приглашенные к спектаклю обоего пола особы. В сорок минут восьмого часа в концертном зале в присутствии высочайших и приглашенных обоего пола особ представлены были на поставленной театральной сцене вначале российскими придворными актерами комедия-водевиль «Жена, каких много, или муж, каких м а л о», а после того французскими актерами водевиль.
31 января.
В час пополудни съехались в Зимний дворец и собрались в Ротонде приглашенные от ее величества по списку к утреннему балу обоего пола особы, дамы в цветных круглых платьях, кавалеры военные в обыкновенных мундирах и зеленых рейтузах, а статские в мундирных фраках, которые в пятьдесят минут второго часа приглашены были в золотую гостиную комнату.
В два часа полудня государыня императрица с прибывшими пред тем во внутренние ее покои их высочествами вышла в золотую гостиную комнату, где потом и начался французским кадрелем бал.
XVI
Французским посольством было получено траурное приглашение на отпевание камер-юнкера двора его императорского величества Александра Пушкина.
На небольшом совещании у посла было решено, что представительство Франции должно особенно отметить свое почтение к покойному и участие к утрате, понесенной его семьей и всей Россией. Противник Пушкина был француз, секундант его убийцы — служащий французского посольства.
Общество было этим крайне возбуждено, и со всех сторон раздавались доходящие до нас возмущенные толки о недопустимости гибели первой национальной славы от руки заезжего иноземца.
Необходимо было всячески загладить это впечатление в сознании двора и города. С общего согласия было решено, что мое присутствие на отпевании было бы не-
302
удобным, но что сам Барант, в сопровождении своей семьи и обоих секретарей, будет присутствовать на всех официальных мессах и примет участие в похоронной процессии, проводя тело поэта до самой могилы. Лично высоко ценивший покойного, Барант был искренне огорчен смертью Пушкина и решил написать соответственное письмо от своего имени вдове поэта.
План этот не удалось осуществить полностью. Когда утром 1 февраля карета посла подъехала к Адмиралтейской церкви, где было назначено отпевание, храм оказался запертым. С трудом удалось выяснить, что тело было перенесено ночью в другую церковь — Конюшенную, с целью ослабить стечение народа к моменту отпевания. И все же карете Баранта пришлось проезжать через сплошную толпу народа, запрудившую площадь перед церковью Конюшенного ведомства.
Странный выбор храма! Я как-то осматривал это здание, где хранится золотая карета, присланная Людовиком XV в подарок «северной Семирамиде», и где с благоговейным патриотизмом оберегается от порчи чучело лошади, на которой Александр I въезжал в Париж. И вот здесь, по соседству с конскими стойлами и экипажными сараями, среди огромного загона царских лошадей, рядом с отборным собранием седел, чепраков, попон и сбруи, было выставлено на два дня тело убитого поэта.
Вот что рассказали мне все наши, присутствовавшие на отпевании.
Красный бархат гроба выделял восковую бледность лица, истощенного предсмертными страданиями, но принявшего после смерти выражение глубокого и мирного сна. Высокий лоб, казалось, светился изнутри в желтоватом озарении свеч, а пряди волос, упавшие назад, словно были смочены каплями мученического пота. Бескровные руки с голубоватыми ногтями воздушно и легко лежали на груди, готовые для отдыха после совершенного ими великого труда. Всеми своими очертаниями это мертвое тело, казалось, жаждало одного: покоя... покоя!
Мне вспомнились стансы о трех ключах, записанные некогда Пушкиным в девичий альбом Софьи Карамзиной и поразившие меня своей безнадежной печалью:
Последний ключ, холодный ключ забвенья,
Он слаще всех жар сердца утолит...
Отпевание протекало в торжественной обстановке. Государь, которого многие, особенно из иностранцев,
303
ожидали увидеть у гроба великого поэта, отсутствовал. Всеобщее внимание обратило на себя появление Уварова. Говорили, что министр присутствием у гроба хотел скрыть свою вражду к покойному за оду к Лукуллу и участием в похоронах маскировать секретные циркуляры, запрещавшие студентам и профессорам отпевать поэта, а газетам и журналам — помещать хвалебные некрологи о нем.
Зато Европа была представлена широко. Почти весь дипломатический корпус Петербурга присутствовал на отпевании. У гроба стали послы, близко знавшие Пушкина: Фикельмон, в парадной форме, при всех орденах, с семьей и свитой, саксонский посланник Лютцероде, баварский фон Лерхенфельд, поверенный Швеции и Норвегии де Нордин, французское посольство почти в полном составе. Вслед за Барантом встали Бутера, Блом, Гогенлоэ-Кирхберг, Симонетти и ряд представителей других миссий. Таким образом, итальянские и германские княжества, Франция, Австрия и Скандинавский полуостров были представлены у гроба русского поэта. Лорд Дэрам незадолго перед тем выехал за границу. Из всего дипломатического корпуса один только прусский посол Либерман отказался явиться к телу «республиканца» Пушкина. Само собою разумеется, что голландское посольство не было приглашено.
— По моему основному ремеслу летописца, — рассказывал вечером Барант, — я привык различать в суете текущих событий отзвуки проходящей истории. И, стоя сегодня в этой пасмурной церкви, почти прикасаясь к этому темно-красному бархатному гробу с восковой, истонченной предсмертными страданиями головой поэта, я словно чувствовал всю торжественность этой великой, горестной и незабываемой минуты. Кто знал Пушкина, тот, конечно, понимал, что в истории России, столь еще скудной великими художественными дарованиями, происходит трагическое событие неизмеримого значения. Аустерлиц и Бородино, быть может, бледнеют перед этой утратой носителя творческой культуры в бедной, суровой и несчастной стране.
— Ваше чувство так выражалось на вашем лице, — заметил наш секретарь, — что кто-то стоявший рядом со мной почти шепотом сказал своему соседу, указывая на официальный холод генералов и вельмож: кажется, единственный русский во всем этом — Барант.
304
— Нет, — возразил посол, — я чувствовал общую глубокую и искреннюю скорбь на этом отпевании. Пушкин имел друзей. Тяжело было смотреть на Жуковского или на этого старого баснописца, который весь в слезах последним простился с телом поэта...
Барант задумался, как бы припоминая какое-то горестное и важное впечатление. Затем он медленно произнес:
— Как прав Чаадаев!.. Я это особенно почувствовал именно сегодня в этой своеобразной обстановке отпевания. В русской церкви стирается весь облик современности. Из европейского Петербурга вы неощутимо переноситесь в древность. Строгие лики византийских богородиц и угрюмые взгляды греко-славянских святителей в обрамлении золотых надписей на почерневшем поле изображений — все это воскрешает перед вами эпоху Иоанна Грозного или даже татарского ига. Вы погружаетесь в недра русской истории, и под заунывные напевы этих длинноволосых и бородатых жрецов, похожих на мужиков в архангеловых одеждах, вы неожиданно улавливаете какую-то великую горечь и неизбывную суровость этой истории, всю ее тоску и нечеловеческие муки. Когда густой фимиам заслонял от меня на мгновенье мундиры, плащи и дамские токи, когда я закрывал глаза, вслушиваясь в печальные жалобы невидимого хора, я начинал ощущать весь дух и смысл того тысячелетнего бедствия, которое придворные ученые называют здесь историей государства Российского. Мне казалось, что у нас, в Европе, такие катастрофы невозможны. Ведь мы сумели сберечь Вольтера и Гете... Неужели же русский император не имел возможности спасти Пушкина, когда весь город на всех перекрестках вот уже несколько месяцев не перестает кричать о его семейной драме и копаться в интимнейших тайнах его личной жизни?
Я осведомился у барона о жене поэта.
— Тяжело и больно было смотреть на эту молодую женщину. Красота ее, всегда несколько бесстрастная и все же вызывавшая к себе неизменное чувство сострадания и нежного участия, получила теперь глубокий отпечаток трагического. Эта царица балов с рассеянным взглядом и безразличной улыбкой была впервые очеловечена страданьем. На фоне темных икон, среди бесчисленных восковых свечей и мерцаний церковного убранства эта измученная строгая голова глубоко волновала и трогала. Черный убор, спадающий на этот лучезарный лоб, словно выделял его ничем не омрачаемую чистоту. Стра-
305
дальческий облик юной женщины, весь омоченный слезами, казался живым воплощением безмерной человеческой скорби. Странно было видеть это праздничное и светлое лицо в таком глубоком трауре, и невозможно было не преклониться перед этой печалью надгробного изваяния...
* * *
Когда вечером этого дня мы собрались у саксонского посланника Лютцероде, писателя, переводчика и собирателя народных песен, он обвел нас грустным взглядом и тихо сказал:
— Друзья мои, я решил отменить назначенный бал и посвятить наш вечер беседе. Вы, верно, согласитесь со мной, что танцевать сегодня нельзя: мы только что похоронили Пушкина.
ИЗ КАМЕР-ФУРЬЕРСКОГО ЖУРНАЛА.
1 февраля.
Двадцать пять минут восьмого часа их императорские величества с их императорскими высочествами из золотой гостиной комнаты выход имели в концертный зал в собрание, где и присутствовали при представлении французскими актерами двух пиэс: «Le témoin», водевиль в одном акте Скриба и Мэльвиля, и «М-r Clément Rossignol», водевиль в одном акте Дювера и Детели.
XVII
На другой день я оставлял Петербург. Друзья Пушкина — Вяземский, Александр Тургенев, Жуковский, Данзас — много беседовали со мною перед отъездом. По просьбе Вяземского, я изложил ему в письме все обстоятельства дуэли. Близкие к покойному не скрывали от меня, что петербургская знать не приняла никакого участия в народной скорби.
— Клевета продолжает терзать память Пушкина, как терзала при жизни его душу, — говорил мне Вяземский. — Несколько гостиных сделали из него предмет своих партийных интересов и споров. Для суждения о покойном они ничего не находят, кроме хулы...
306
— Знать ваша не знает славы русской, олицетворенной в Пушкине, — отвечал я.
— Вы правы, дорогой д'Аршиак, — заметил Тургенев, — иностранцы оказались выше наших аристократов. Вы жалеете о нашем Пушкине, как о своем соотечественнике.
— Пушкин, как гениальный поэт, принадлежит не одной только России, но всему человечеству.
Жуковский горячо пожал мне руку.
— Если бы его вовремя отпустили в Европу, — произнес он со слезами на глазах, — его гений достиг бы небывалых размеров и жизнь бы его была спасена.
А вокруг уже раздавались первые гневные голоса, призывавшие на суд убийц Пушкина.
По городу в бесчисленных списках распространялось стихотворение молодого поэта Лермонтова с эпиграфом на мотив из нашего Ротру:
Prince et pére à la fois, vengez-moi, vengez vousl1
Через три года автор этого гимна, «На смерть поэта», имел дуэль на шпагах с сыном Баранта, а в следующем году он был наповал убит на пистолетном поединке.
Стихотворенье поразило нас. В нем было несколько сокрушительных строк по адресу убийцы. Д’Антес был резко заклеймен в нем именем пустого искателя успехов в презираемой им чужой стране, чью лучшую славу он не сумел пощадить.
— Это отдельное мнение, — успокаивала своего мужа Катрин, — мнение поэта, восхваляющего другого поэта, оно не должно огорчать тебя...
— Нет, это, кажется, становится мнением большинства в вашем обществе.
— Ты ведь знаешь отношение к тебе Нессельроде, дяди Григория...
— Но народ толпится у дома Пушкина, не умея разбираться в фактах, не желая отделять человека от таланта. Я для них — только иностранец, убивший их поэта...
______________________
1Отмщенья, государь, отмщенья!
Паду к ногам твоим:
Будь справедлив и накажи убийцу.
Чтоб казнь его в позднейшие века
Твой правый суд потомству возвестила.
Чтоб видели злодеи в ней пример.
307
— Но ведь ты не мог поступить иначе, ты действовал мужественно и героически!
— Я, во всяком случае, поступил как порядочный человек. Он сам хотел смерти и получил се... Tu l'as voulu, Georges Dandin!
Д'Антес вообще не испытывал никакого сожаления или раскаянья. Он считал, что совершилось неизбежное — в смертельной борьбе он отстоял свою жизнь; все остальное отступало в тень.
— Жаль только, — прибавил он, — что я лишен возможности притянуть к барьеру сочинителя этих ругательных стихов...
Барон Геккерн был в некоторой тревоге. Смерть Пушкина избавила его, правда, от необходимости лично рассчитываться с ним за полученное оскорбление, но в то же время осложняла его положение в России и ставила под вопрос его дальнейшее пребывание в ней. Посланник прочел мне свои письма к Нессельроде и к своему министру — Верстолку, в которых он говорил о своих скромных средствах и необходимости сохранить свой пост «при императорском дворе».
— Вы подумайте, — прибавлял он с горестью, стоя среди своих коллекций, — что станется со всеми этими сокровищами, если мне придется второпях оставить Петербург? Ведь мне придется продать их за бесценок! Ведь это разоренье!..
И острым взглядом опытного дельца, определяющего в уме прибыль и убытки от движенья товаров, он оглядывал свою бронзу, фарфор, эмаль и знаменитые фламандские полотна, отмеченные подписями великих мастеров Яна ван Скоорля и Гаверкорна ван Рийсевика.
Я пожелал Геккерну оставаться при петербургском дворе. В последний раз замкнулись за мной темные дубовые двери с изображением вздыбленного льва, фехтующего золотым оружьем на голубом поле герба соединенных провинций.
Последним из русских, простившихся со мною, был Александр Тургенев. Той же ночью, по, приказу царя, он выезжал из Петербурга с гробом Пушкина для погребения его в далеком, глухом монастыре.
— Наше правительство не забыло похорон генерала Ламарка, — объяснил он мне, — оно опасается революционной демонстрации.
Я вспомнил знаменитое погребение вождя французской оппозиции, залившей кровью квартал Сен-Мартен.
— Я перевозил в моей жизни много драгоценно-
308
го, — сказал мне на прощанье Тургенев, — инкунабулы и ватиканские рукописи, помпейскую бронзу и римские бюсты, древние вазы и медали. Думал ли я когда-нибудь, что мне придется перевозить тело величайшего русского поэта...
ИЗ КАМЕР-ФУРЬЕРСКОГО ЖУРНАЛА.
2 февраля.
55 минут восьмого часа ее величество государыня императрица с их императорскими высочествами выход имели в золотую гостиную комнату в собрание, где по распоряжению балетмейстера Титюса начались репетиционные танцы к маскараду.
Его величество выход имел в собрание во время уже начатия танцования.
Гости угощаемы были чаем, питьем и мороженым.
А пока великие княжны вместе с наследником Российской империи и принцем прусским Карлом под звуки конногвардейского оркестра выполняли сложные эволюции гавота по жезлу известного преемника Ле-Пика и Дидло легконогого Титюса, — в подвале Конюшенной церкви под деревянную трескотню молотков служители спешно заколачивали узкий ящик с красным бархатным гробом.
Поэта Пушкина снаряжали в его последнее странствие.
* * *
...И вот снова крытый возок на полозьях мчит меня по глубокому снегу бесконечными сосновыми лесами сквозь безлюдные равнины древней Ингерманландии к бедным поселкам Восточной Пруссии.
Петербург за мною. Тринадцать месяцев отделяют меня от того момента, когда чиновники столичной заставы с глубокими поклонами перед знатными путешественниками пропустили за полосатый шлагбаум посланника короля французов с его свитой.
Сколько лиц, сколько происшествий пронеслось за этот срок! С какой быстрой изменчивостью мчится жизнь, беспрестанно слагаясь в новые формы и мимоходом сплетая свои неожиданные сочетанья людей, событий и катастроф.
309
Два министерства успели пасть во Франции, четыре головы скатились в кузов гильотины на площади Святого Иакова. Несколько человеческих взводов засечены насмерть в армии императора всероссийского. Французские войска снова высадились на африканском побережьи. Испания истекла кровью от небывалой гражданской войны, массовых казней и беспощадного разгрома целых областей.
Россия стремится быть неподвижной. В этом — представление ее верховного властителя о государственной мощи и державной силе. Тяжелой статуей с остановившимися зрачками давит он на живую человеческую глыбу своего пьедестала. И атрибутами этой верховной власти выступают по углам монумента сова Нессельроде, боров Чернышев, Бенкендорф с головой летучей мыши и Уваров с мертвым взглядом филина. Сколько ночных сил и затаенной хищности скопилось в балдахине этого пышного трона...
Все вокруг мертво.
Целое общество стынет, окованное всепоглощающим раболепством, глухое ко всему, что не сулит ему титулов, состояний и житейских наслаждений, еле затронутое однообразным движеньем своих празднеств, размеренных, как вахтпарады. И даже лучшие среди этой толпы — задумчивый Жуковский и язвительный Вяземский, европеец Тургенев и братья Виельгорские, вечно склоненные над нотными знаками своих партитур и гнутым деревом своих инструментов, — как все они молчаливы, покорны, беспомощны и бессильны! И каким-то зловещим воплощением, мрачным прообразом всей этой среды выступает из ее рядов дряхлая и чудовищная голова старухи Голицыной, сотрясающая в своей предсмертной судороге шелковыми розанами и накладными буклями своего допотопного головного убора.
Мертвые люди в омертвелом городе, среди безмолвной страны. И только затаенные вожделенья темных страстей придают какое-то скрытое волненье этой непонятной и неподвижной толпе. Сложные, мелкие и злобные расчеты тщеславия, алчности, властолюбия и разврата плетут свои интриги и расставляют свои сети среди позолоты и лака этих дворцовых зал...
А над всем этим пустынным миром министров, посланников, кавалергардов и камер-лакеев возникают два образа: поэт и женщина небывалой красоты. Они на недосягаемой высоте, над пестрой и унылой толпою гости-
310
ных и приемных, над всеми суетными помыслами и мелкими вожделеньями, отмеченные своими особыми и неумолимыми судьбами, окутанные предчувствием великого страдания, — живая легенда, трагическая и неизъяснимая...
Петербург позади. Сани мчат меня из Таурогена. Передо мною из снежных сугробов вырастает желто-черный столб с одноглавым распластанным орлом. Через час я в Тильзите.
Легкая вьюга заметает морозной пылью глубокие борозды от наших полозьев.
Петербург в прошлом. Россия за мною.
ЭПИЛОГ
I
В заключение моих воспоминаний я приведу письмо, полученное мною от барона Баранта вскоре после моего возвращения во Францию.
Париж. Министерство иностранных дел,
виконту д'А р ш и а к у.
Петербург, 20 марта 1837 года.
Дорогой д'Аршиак!
Суд над участниками дуэли 27 января закончен. Ваш друг Жорж де Геккерн должен был пройти через несколько суровых приговоров, прежде чем получить свободу, купленную ценою изгнания. Комиссия военного суда в своей сентенции, согласно старинному воинскому артикулу, приговорила его к смертной казни через повешение. Командиры гвардейских полков, считаясь с молодостью подсудимого, предложили заменить виселицу разжалованием в рядовые с отправкой в дальние гарнизоны. Царь постановил выслать рядового Геккерна, как иностранца, за пределы России, отобрав офицерские патенты. Приговор этот выполнен, и д'Антес третьего дня отправлен в повозке на прусскую границу.
О вас, дорогой д'Аршиак, как о члене иностранного посольства, суждения не было, но суд представил государю особую записку, которой устанавливал ваше участие в дуэли и предъявленное вами Пушкину «настоятельное Требование секунданта».
В особом заключении о «министре нидерландского
311
двора» военный трибунал признал установленным, что барон Геккерн, будучи вхож в дом Пушкина, старался склонить жену его к любовным интригам со своим сыном и «посеял в публике предосудительные мнения о семейной жизни поэта». Это, к сожалению, совершенно непререкаемо, и в этом, как мы знаем, одна из главных причин поединка. Суд, наконец, отметил, что в своем ответе на письмо Пушкина Геккерн «показал прямую готовность к мщению». Письмо барона от 26 января было, правда, неизбежным ответом на полученный картель, но по существу суд не ошибся: голландский посланник мстил за тяжелые личные удары, полученные им в последние месяцы. Его злая острота насчет Пушкина, которому якобы суждено быть рогоносцем, как камер-юнкеру его величества, была одним из проявлений этой интриги. Словцо это стало известно царю и вызвало естественный гнев.
В настоящее время Геккерн несет заслуженную кару — он отозван в Гаагу без нового назначения и на днях покидает Петербург.
Любопытнее всего, что суд, почти через два месяца после смерти Пушкина, был вынужден и о нем вынести свое обвинительное заключение. В сентенции отмечено, что «преступный поступок самого камер-юнкера Пушкина подлежал равному с подсудимым Геккерном наказанию», т. е. виселице. Не странно ли, что история этого великого человека завершается официальным смертным приговором от лица государства и общества, фактически убивших его...
В последние недели я много думал о Пушкине. Я перечел все, что переведено из его произведений па иностранные языки, беседовал с его близкими друзьями — Жуковским, Вяземским, Фикельмонами, Карамзиными. Я даже внимательно вслушивался по петербургским гостиным в нестройный гул сорвавшихся толков, мнений и приговоров, стремясь отобрать из этой разноголосицы суждений подлинные свидетельства об ушедшем деятеле. Я старался, как подобает историку, изучить жизнь этого выдающегося человека, чтобы определить смысл его жизненной борьбы, его место в современной Европе и все значение утраты, только что понесенной человечеством.
Я узнал, что многим из своих современников Пушкин как моральная личность представлялся загадкой. Поэта постоянно упрекали в полном несоответствии его гения с его нравственным обликом. Не только враги, но и друзья
312
не переставали говорить о безрассудной трате им своего дара и своей жизни. Даже смерть Пушкина, примирившая его со многими, не могла стереть этого общего впечатления. Сейчас же после дуэли раздались укоризненные голоса. В самые часы агонии среди окружающих находились судьи, отважно клеймившие «сатанинскую природу, всегда отличавшую Пушкина», и решительно осуждавшие его за недостаток того «высшего благородства», которое соответствовало бы его творческому дару и могло бы спасти поэта в критическую минуту от душевного помрачения и нравственного падения.
Вдумываясь в характер и судьбу покойного, я затрудняюсь принять эти выводы. Образ его освещался для меня иным светом. В тщеславии Пушкина, в его страстности, даже в его предсмертном гневе сказалось одно основное, живое и творческое свойство его натуры: стремление развернуть полностью все заложенные в нее возможности, развить их до совершенной законченности и окунуться с головой в тот широкий жизненный поток, где только и возможен полный расцвет художественного гения.
Отсюда его глубокое убеждение, что счастье только на общих путях. На коротком протяжении своей жизни невольно и, может быть, бессознательно он не переставал стремиться к воплощению того типа законченного, цельного, все испытавшего, пережившего и понявшего в жизни человека, который в другую эпоху был назван homo universale.
Не потому ли так привлекали его творческое внимание все люди, бурно и страстно проживающие свою жизнь? Не потому ли он так решительно осуждал всякое отречение от жизненных радостей, всякое ограничение своей свободы, все виды смирения перед судьбой и покорности обидам?
Он влекся к иному. Верховная свобода, вскормленная бьющей через край внутренней силой, требовала от него приобщения ко всем соблазнам существования. Он словно хотел доказать всей своей судьбой, что поэт должен прожить самую богатую, самую яркую, полную событий, тревог и наслаждений жизнь и что его история должна быть глубже и ярче самой захватывающей из биографий его современников.
Вот почему все, что представляется жалким и суетным в скитах и кельях нравственной философии, представляло для него высокую ценность новых могучих
313
ощущений, повышающих рост его личности, глубину его впечатлений и богатство его жизненной судьбы. Внешние почести, роскошь, безумные празднества его молодости, женская красота, забвение в азарте и вине — все это принималось им как источник внутреннего обогащения, как углубление его жизненных восприятий и повышение его творческих возможностей. До конца он являет это стремление стать сильным и законченным выразителем своей поры, ее лучшим представителем, который смеет, может и имеет право разрешать себе во всей полноте высшие наслаждения и радости существования.
Пушкин представляется мне человеком европейского Возрождения, случайно занесенным в болота и сугробы Российской империи. Творчество его — великая попытка освободиться от тяжелых пут своего времени и подняться сквозь скептическую мысль предшествующих столетий к веселому знанию Ренессанса. Бурные страсти, вольная и дерзновенная мысль, свергающая все святыни и возводящая кощунственность до вершин великого искусства, безумная жажда вобрать в себя все впечатления жизни, сохраняя до конца способность холодного и трезвого наблюдения над ними для их спокойного созерцания и творческого преображения, — вот сущность его духовной природы. Бретерство, донжуанизм, жажда опасности, готовность к кровопролитию, страсть к тонкому словесному художеству, культ своей личности в бурном проявлении всех дарований и страстей — вот каким переливным и острым лучом прорезал этот обедневший дворянин тусклый фон русской жизни в печальную эпоху двух наследников одного умалишенного и удавленного императора.
Все это роднит усопшего поэта с нашими великими артистами и мыслителями шестнадцатого столетия. В нем было нечто от этих всеобъемлющих вольнодумцев старой Италии и Франции, он чем-то напоминал Монтеня, Леонардо и Ронсара. И, подобно этим радостным и мудрым жизнелюбцам, он высоко поднимался над обычными требованиями морали, отвергая своим великим языческим мироощущением аскетизм и нищету христианских поучений.
Все это отлагало особый отпечаток на его личность. Когда я увидел его в петербургском обществе, я был поражен даже его внешним видом, наружным обликом чужестранца среди чопорных соплеменников, его легким, воздушным, изящным образом старинного европейца. И
314
когда я вспоминаю теперь его беседу или вчитываюсь в его страницы, я чувствую, как от его фраз и мыслей словно излучается ясность латинского гения, достигшая такой светоносной силы в зареве великого Возрождения.
И этот собеседник Макиавелли и Монтеня был заброшен судьбою в императорский Петербург, во дворец Николая I. В атмосфере невыносимого гнета рабской страны с тиранической властью он был осужден медленно хиреть, гаснуть и мучиться, истощая свой прекрасный дар в ледяной пустыне этой оцепенелой среды. Впечатлительный к великим течениям современной истории, он влекся к ее освободительным силам, верил с молодых лет в восстающую Грецию, в нарастающую силу тайных обществ, в карающие кинжалы цареубийц. И с каждым подрывом своим к этим великим устремлениям нашей эпохи он неизменно встречал железную стену беспощадной редакции, зорко следившей в Петербурге за этим вольнодумцем, наделенным таким опасным и мощным даром политической пропаганды. Катастрофа нарастала неуклонно...
Драма поэта шла вглубь. Он пытался бороться, отстаивать свою творческую свободу, оберегать независимость своих политических воззрений, — но под жестоким натиском власти ему случалось колебаться и отступать.
Поставленный обстоятельствами в среду отсталых деятелей реакционной Европы, он в последние годы не (всегда был свободен от некоторого отражения их воззрений. В ряде политических вопросов он заметно отставал от нас, представителей либеральной Франции, прошедшей через две революции. Негодующими инвективами встретил он выступления парижских депутатов и поэтов, вставших на защиту раздавленной Польши. Поэт изменял своему призванию, искажал путь своих вдохновений, истощал свое прекрасное дарование.
Брошенный в условия жизни монархической деспотии, он почувствовал для себя невозможность творческого роста и духовного развития. Отсюда его глубокая тоска по Европе, его метания и жажда смерти. Годы зрелости Пушкина, способные дать в иных условиях ряд великих творений, стали для него эпохой назревающей трагедии.
Когда радостное кипение молодых лет отошло, а наступающая пора углубленных раздумий встретила равнодушие читателей, злорадство журналистов и гнет высо-
315
чайших приказов, когда полная приключений и тревог скитальческая жизнь сменилась сереньким существованием среднего обывателя, а желанный блеск внешнего положения обнаружился лишь в жалком придворном звании да на тягостной участи петербургского редактора, Пушкин безвозвратно отдался приступам подстерегавшей его безнадежности.
И когда, наконец, созданная им жизненная поэма превратилась в отвратительную историю столичных пересудов и грязных интриг с подметными письмами, глубокое отвращение к жизни сменило прежнюю жадную влюбленность в нее.
Поэт пошел навстречу своим убийцам.
Отважно и уверенно строивший свою жизнь по трудному и опасному плану, он нашел в себе достаточно мужества оборвать ее в момент крушения всех сложившихся предначертаний. Не приемля для себя обычной участи медленного тления в томительном процессе гаснущего существования, он решил броситься в зажженный собственной рукой костер смертельной катастрофы.
Дуэль на Черной речке — акт самосожжения. Пушкин мог, как он писал своим друзьям, жить en bourgeois, но умереть он должен был иначе. Через крушение ранних верований и зрелых предначертаний жизненный путь Пушкина неуклонно вел его к этой пламенной смерти. Актом ее завершается та глубокая нравственная драма, которая многим показалась недостойным великого поэта падением. Последним волевым напряжением сильной личности и гениальной натуры он решил оборвать ход непокорной судьбы и озарить светом трагического конца потускневшую и обесцененную жизнь...
О другом сегодня писать не буду. Прошу простить эти размышления дипломата, которого трагедия одного поэта обратила на этот раз к истории и философии.
Весь ваш де Барант.
II
Я показал письмо Баранта моему старому другу Жюлю Дюверье.
Он заинтересовался обстоятельствами гибели петербургского поэта и долго расспрашивал меня о его жизни, характере, творчестве и борьбе.
После кратких официальных сообщений, сделанных
316
мною в министерстве иностранных дел, в русском посольстве и даже перед двумя журналистами из «Debats» и «Morriteur», я готов был рассказать пережитую драму подробно, во всех ее сложных жизненных изломах и спутанных человеческих сплетениях.
Мы беседовали в мансарде Жюля, из круглых окон которой открывался чудесный вид на Париж с его башнями, крышами, куполами и стрелами.
День склонялся к вечеру. Апрельский воздух был прозрачен и свеж. Вдалеке виднелись тяжелые устои только что воздвигнутой Триумфальной арки. Ропот соседних бульваров неясным гулом доносился до нашего люка.
— Как грустно слушать историю гибели этого великого поэта! Гениальный художник, творец безмерных ценностей для всех человеческих поколений заклеван хищными и праздными представителями отмирающей военщины, феодальной знати, международной олигархии, обреченной самим ходом исторической правды на безвозвратную гибель. Какая нелепость и какая непоправимая утрата!..
Жюль Дюверье на мгновение задумался.
— Но и в нем, в этом великом поэте, была своя скованность. Он не поднялся на предназначенную ему высоту, он сам оказался подавленным ложью окружавшего его общества. При всем величии его дара и высоте его творчества, в нем не было достаточной внутренней свободы и духовной широты. Этот великий поэт задыхался, но не мог вырваться из порочного круга лжи и ненависти, захвативших его в свое неумолимое вращение. Предрассудки дворянской чести, видимо, затмевали это светлое сознание, а наследие столетий обременяло его изжитым воззрением на женщину как на личную собственность мужа-владыки. Это уже не европейский Ренессанс, а глубокое средневековье.
Я напомнил Жюлю, что Пушкин зорко следил за новейшим движением европейской мысли, читал наших политиков и моралистов, интересовался учением Сен-Симона.
— Как жаль, что этот интерес не перешел в знанье, в убеждение, в двигательную силу, в исповедание! Этому северному поэту нужно было приобщиться к огромным освободительным предначертаньям нашего учителя — и какой великий дар он сумел бы принести тогда человече-
317
ству! Как бы это окрылило его мысль, какие бы просторы раскрыло его творчеству.
— Но ледяное дыхание Петербурга,— напомнил я,— но тяжеловесное наследье столетий?..
Жюль словно встрепенулся.
— Поэт твой был слишком человеком Возрождения, — отвечал он, — и недостаточно отдавался могучим освободительным течениям современной Европы. Он словно не чувствовал, что лучи европейского Ренессанса уже заметно начинают склоняться к закату и над старым материком загораются новые, неведомые светила, которым предстоит озарить и оплодотворить будущее... Да, друг мой, то великое европейское будущее, когда новое свободное объединение людей проявит всю свою творческую мощь и создаст новый мир разума, труда и всемирного братства. Золотой век не за нами, он впереди нас!
Я вспомнил все, что мне пришлось узнать за последние годы, — армию императора Николая, сборы трупов на плацпарадах, беспощадные казни шпицрутенами, смертные приговоры военных трибуналов и целую касту хищных властолюбцев, убивших одного поэта.
— Не фантазия ли это, Жюль, не прекрасный ли сон великого и благородного мечтателя?
— Но разве история человеческих поколений не являет на всем своем протяжении медленное осуществление тех мечтаний, которые кажутся несбыточными снами всем современникам великих мудрецов и фантастов? Разве можно сомневаться в том, что великая мысль учителя создаст новый мир, в котором перестанут распинать поэтов?..
Так, воодушевляясь своим виденьем грядущего всемирного братства, говорил мой друг Жюль Дюверье. Солнце заходило. Мы стояли у окна и смотрели вдаль, за шпили и башни чудесного древнего города, в оградах которого зародилось столько мятежных дум и творческих снов, веками преображавших человечество. Жюль широким жестом протянул вперед свою руку навстречу пылающим лучам, рвущимся ввысь из-за извилистого узора кровель, куполов и стрел. И тонкий облик юного Рафаэля с флорентийского портрета, весь залитый лучами весеннего заката, казалось, еще ярче озарялся изнутри пророческой мечтой и великой надеждой.
318
ПУШКИН
В ТЕАТРАЛЬНЫХ
КРЕСЛАХ
Картины русской сцены 1817—1820 годов
Острая шутка Шаховского и горестный пафос Озерова; восковые свечи, партерные лавки и оркестр из крепостных музыкантов; в публике трости, плащи и подзорные трубки; на сцене щиты и копья, мантии и каски, глазетовые кирасы и фольговые короны; в мифологических плясках трезубец Нептуна и золотой кадумей Гермеса среди несущихся туник и пеплумов фантастической пантомимы Карла Дидло; в оперном репертуаре Моцарт, Гретри и Чимароза; в комедии Мольер, Бомарше и Княжнин; веселые интриги и счастливые недоразумения заплетаются и протекают на фоне декоративных перспектив Гонзаго, под льющиеся переливы (мелодических каватин маэстро Антонолини; напевная декламация стихотворных монологов чередуется со звонкими куплетами первых водевилей; на подмостках— Истомина и Колосова; в креслах стареющий Крылов и юный Грибоедов; всюду пыль, пышность, рифмы и припевы модных арий, — вот русский театр к концу александровской эпохи.
Он явственно хранил на своем облике следы стариной итальянской комедии. Быть может, общие традиции европейской сцены донесли до петербургских кулис предания венецианских масок. Но, может быть, и актеры-импровизаторы, развернувшие у нас при Анне Иоанновне весь узорчатый веер своих фиаб, оставили какие-то неуловимые воспоминания в обычаях и навыках русской сцены. Это отражалось на репертуаре, на амплуа, на пристрастиях исполнителей и вкусах публики. Это была пора особой, сложной, изысканной и давно утраченной терминологии, когда роли, пьесы и постановки выработали свой обширный и пестрый словарь. Комики назывались в то время итальянским словом б у ф ф о, актеры вообще часто обозначались на
319
французский манер сюжетами, балерины именовались танцорками, а танцовщики — дансерами. Знаменитая шекспировская трагедия шла под заглавием «Король Леар», а в иностранных комедиях имена героев своеобразно перекраивались на русский лад: мольеровский Альцест назывался Крутоном (не от французской гренки, конечно, а от российского «крутого нрава»), а Селимена — более звучно и удачно именовалась Прелестиной.
Состав труппы делился по преданиям старого театра. В драматических амплуа числились роли наперсниц, злодеек, невинных, или простодушных, петиметров, педантов, тиранов и комических мужичков; существовали специальные роли — буф-арлекин, карикатура и деми-карактер; имелись также амплуа «ливреи» и «филаток» (т. е. дурачков, или простаков).
Но при этом дроблении списка ролей многие актеры, особенно из молодых, не были прикреплены к определенному кругу типов, ни даже к особому сценическому жанру. Один и тот же исполнитель декламировал в трагедии, острил в водевиле, пел в опере и позировал в пантомиме. Комедийный премьер Сосницкий охотно выступал в балете; знаменитая танцовщица Истомина играла в водевилях «роли с речами». Аксаков в своих воспоминаниях называет одну актрису, исполнявшую роли первых любовниц в трагедиях, драмах, комедиях и операх.
Это было время, когда на русской сцене господствовало изумительное разнообразие и богатство театральных жанров. Каждый вид знал свои бесконечные подразделения. Комедия делилась на высокую, легкую и анекдотическую; балет распадался на пантомимный, волшебный, комический, романтический, героический и даже трагический (напр., «Инеса де Кастро»). Среди опер различали лирическую, историческую, комическую, оперу-водевиль, оперу «с большим спектаклем», «волшебную оперу с хорами, полетами, превращениями и танцами» или же «с балетами, эволюциями и великолепным спектаклем». Одно из таких громоздких произведений называлось в придачу и «российским сочинением» — вероятно, потому, что авторами его были два итальянца — Катерино Кавос и Антонолини.
Эти основные виды спектаклей дополнялись мелодрамой, «мифологическим представлением», интерме-
320
дией-дивертисментом, «исторической драмой с танцами».
Едва ли можно указать еще эпоху, когда такое изумительное разнообразие сценических видов заполняло наш театр. Актеры и зрители были в то время связаны сложной сетью художественных и личных отношений, — и это несмотря на господствовавшее в обществе пренебрежение к актерскому званию. Зритель, который зачастую был и драматургом, и театральным педагогом, жил интересами кулис и оказывал свое заметное воздействие на судьбы репертуара и характер исполнения. В партере и креслах находились поэты-переводчики, водевилисты, знаменитые чтецы, опытные знатоки сцены, перевидавшие всех корифеев парижского театра и учившие русских знаменитостей последним приемам (трагической декламации.
По тогдашнему своеобразному представлению, переводчики пьес считались как бы их авторами. Они до такой степени сливались в сознании зрителя с подлинными драматургами, что после представления, напр., трагедии Вольтера в 1809 году театр упорно вызывал «автора», пока наконец переводчик не догадался выйти на вызовы вместе с Семеновой и Яковлевым. По этому поводу театральный обозреватель современного альманаха не без иронии замечает, что, несмотря на дружные крики знатоков из райка и партера, «надменный автор, как будто глухой, лежал покойно в могиле».
К прославленным корифеям сцены относились в то время не без некоторого почтения. Но остальная актерская масса вызывала к себе со стороны общества явно презрительное отношение. В актере еще видели остатки скомороха, ярмарочного лицедея или бродячего комедианта, созданного на потеху «порядочных людей». Культурный европеец Вигель мог в то время свободно заменить термин «актерский мир» сочным речением «закулисная сволочь». Эти худородные отщепенцы сцены в глазах тогдашнего зрителя мало чем отличались от дрессированных животных или придворных шутов. Их постоянно ставили в самое унизительное положение. Так, например, вошло в обычай, что бенефицианты развозили по городу билеты на свой спектакль, раздавая лично завлекательные афиши и принимая подачки от всевозможных «милостивцев».
«Были тогда в нашей драматической, оперной и балетной труппах, — рассказывает современник, — не-
321
сколько почтенных отцов семейств, которые, отправляясь на эти унизительные промыслы, облекались в шутовские костюмы, в париках, с разрисованными физиономиями. Мало того, брали с собою своих ребятишек, наряженных в русские или цыганские платья, и заставляли их плясать под аккомпанемент гитары или торбана. Эта конкуренция с шарманщиками или уличными гаерами удавалась и артистам императорских театров. Никому из них это не казалось ни дико, ни оскорбительно». Одна мемуаристка вспоминает видного петербургского комика, который вползал на четвереньках к купцам-театралам, положив билет себе на лысую голову.
Если общество относилось к актеру с надменной презрительностью, власть применяла к нему меры беспощадной жестокости. За малейшее ослушание актеров заключали в казематы Петропавловской крепости, как это было со знаменитым Каратыгиным, посмевшим присесть в присутствии директора императорских театров; их сажали в подвальные солдатские караулки театральных зданий, препровождали в полицейские арестные дома. По самым простым вопросам текущего репертуара, за неизбежные в общей художественной работе возражения и особые мнения, артист рисковал угодить в исправительную яму. Смирительные дома и съезжие постоянно угрожали актеру за каждое самостоятельное суждение.
Несколько иным было отношение к актрисам. Гвардейская молодежь и представители сановной знати смотрели на артисток как на обширный гинекей, отличающийся от крепостного гарема лишь своим блеском, утонченностью и богатством выбора. Воспитанницы театральных училищ, танцовщицы, фигурантки, статистки и корифейки, «первые сюжеты» в комедии и драме, — все они служили предметом вожделений, страстей и бесчисленных романтических авантюр с запутанными интригами, смелыми похищениями и кровавыми поединками.
Театральность властно врывалась тогда в любовные нравы. В этом лишний раз сказывалось органическое влечение эпохи к спектаклям, ее жажда сказочных зрелищ, исполненных смелости и умения, находчивости и опыта, блеска, изменчивости, новизны и трагизма. Само
322
время отличалось тогда той театральной одержимостью, которая сообщает возбуждение общественной жизни и открывает блистательные периоды сценического расцвета.
На театре господствовали большие жанры: героическая трагедия, высокая комедия, мифологическая пантомима, балет-феерия, классическая опера — вот что определяло репертуар и решительно преобладало над мелодрамой, водевилем и популярными композициями новейших либреттистов.
Высокий театральный стиль направлял на сцене это стремительное движение образов и масок во всех разнообразных и сложных формах тогдашнего репертуара, от Расиновой трагедии до легких интермедий. Всюду чувствовалось это дыхание высокого и трудного мастерства, захватившего в свой очерченный круг драматургов, режиссеров, балетмейстеров, всю обширную армию тогдашних исполнителей — от прославленного первого трагика до незаметного и безмолвного «аксессуара».
Сложный, пестрый, нарядный и внутренне разорванный мир, скрывающий под лентами арлекинад и пернатыми шлемами трагедий надрывы гнетущего быта и раны железного века! Сколько нужно было выдержки и бодрости, выдумки и фантазии, неистощимых вдохновений и неподдельных дарований, чтоб наполнить черное небо этой пасмурной эпохи призрачными тенями радости и всеми красочными отблесками истории, искусства и легенды.
В этот многоликий и радужный мир, в момент его высшего оживления и расцвета, вступил юноша, почти отрок, с нескладной маской мулата и мудрыми глазами поэта. Охваченный жадною восприимчивостью и горячими вожделениями великого артиста, он вошел в этот несущийся хоровод театральных празднеств, прикоснулся к их соблазнам и унес с собою в бурную и горькую жизнь радостное воспоминание об этом мелькнувшем видении. Беглыми бликами отразилось оно в его поэмах, посланиях и посвящениях, дойдя до нас сквозь грани бессмертных строф своими рассеянными лучами.
Взойдем же к их источнику. Вступим вслед за поэтом в это карнавальное шествие. Попытаемся уловить, какие творческие следы оставил в его памяти этот мгновенно блеснувший перед ним магический мир трубы, личины и кинжала.
323
Глава первая
В ЗРИТЕЛЬНОМ ЗАЛЕ
Все ярусы окинул взором...
«Евгений Онегин», 1, 21
Я не увижу знаменитой «Федры»
В старинном многоярусном театре,
С прокопченной высокой галереи,
При свете оплывающих свечей.
И, равнодушен к суете актеров,
Сбирающих рукоплесканий жатву,
Я не услышу, обращенный к рампе,
Двойною рифмой оперенный стих:
— Как эти покрывала мне постылы...
Эти стихи современного поэта1 воскрешают перед нами не только парижский театр XVII века. Они применимы целиком и к русскому зрительному залу пушкинской поры, еще хранившему во всей чистоте тип европейского театра предшествующих столетий.
Многоярусная храмина, мягко озаренная оплывающими свечами массивной люстры и легких трехсвечных жирандолей; взволнованный и глухо плещущий раек под нависшими сводами огромного плафона; а там внизу, над самым провалом оркестра, великолепная Федра — Семенова, роняя с плеч классическую шаль, бросает в насторожившуюся толпу торжественные двустишия Расина в неожиданном обличьи высокопарных славянизмов. И многоголовую толпу, планомерно разбросанную по сложным разделам здания — от кресел до галереи, — невидимо сливает в одном томительном и сладостном ощущении этот «негодованьем раскаленный слог»...
Вступим в эту завороженную трагическими стихами пеструю массу слушателей. Оглядим это огромное и хитрое строение, втянувшее в себя для единого художественного впечатления две тысячи зрителей из дворца и сената, коллегий и гвардейских казарм, редакций и лицеев, немецких булочных и гостинодворских лавок.
I
Архитектура русских театров копировала тип здания, выработанный итальянскими зодчими Возрождения.
_______________________
1О. Мандельштам.
324
Недаром петербургские «комедиантские дома» строились преимущественно итальянцами — Растрелли, Кваренги, Джироламо Боном, Валериани, Перезинотти, Бригонци, Казасси. Формула «рангового театра с ложами» была усвоена и вполне соответствовала кастовым требованиям эпохи. Кресла для сановников и придворных, стоячий партер для среднего чиновничества и «буржуа», раек для толпы, ложи для женщин и их спутников — так приблизительно размещалась на спектакле петербургская публика начала прошлого столетия.
Главным отличием тогдашнего театрального зала от позднейшего было разделение всей его нижней площадки на «кресла» и «партер». Отсюда странное для нас различие этих двух терминов, впоследствии ставших синонимичными. Вспомним в «Онегине»:
Театр уж полон. Ложи блещут,
Партер и кресла, все кипит;
В райке нетерпеливо плещут...
Эти главные части зрительного зала неизменно упоминаются в современных свидетельствах. Вяземский в одной из эпиграмм на Шаховского по поводу провала его комедии писал:
При свисте кресл, партера и райка,
Сошел со сцены твой «Коварный».
План зала делился на оркестр, который также подчас служил для зрителей, на несколько рядов кресел (около десяти) и затем на обширную площадь партера, где размещалось свыше тысячи зрителей 1. Три или четыре яруса лож поднимались над партером усеченными овалами, завершаясь обширным верхним этажом — галереей, парадизом, или «райком».
Строение здания отчетливо отражало социальную структуру публики. Уже в XVIII веке распределение театральных мест соответствовало общественной иерархии зрителей. «Знатнейшие и иностранные обоего пола персоны сидели в партере по классам», — сообщает камер-фурьерский журнал 1750 года. В пушкинское время
_________________________
1 Так, в Малом театре (на месте бывш. Александрийского сквера) помещалось в партере 1200 человек. Построенный итальянским импресарио Казасси, театр этот считался наилучшим, так как в нем «отовсюду было видно и слышно». Труппы играли еще в Большом театре и, одно время, в Немецком (здание штаба).
325
менее официально, но не менее отчетливо сказывалась в театре строгая сословная группировка зрителей, что, в свою очередь, определяло их художественную физиономию.
Самый живой, восприимчивый и впечатлительный посетитель спектакля находился за креслами и в райке. Это любопытнейший тип старого театрала, достойный пристального внимания историка. Зритель партера являл по своему социальному составу промежуточный слой между знатью первых кресел и «чернью» райка. Он представлял обширный сектор тогдашней «интеллигенции», куда сходились педагоги, журналисты, молодежь, даже гвардейские офицеры. Это была самая оживленная и, разумеется, наиболее понимающая часть публики. «Мы, знатоки, — свидетельствует Полевой, — особенно сходились в партер (нынешние места за креслами)».
Здесь именно толпились тонкие ценители драмы, страстные любители театра, его теоретики и поклонники. Часть зрителей, при полных сборах, была вынуждена стоять, причем на больших спектаклях создавалась невероятная давка. «Партер был буквально набит битком, — описывает Жихарев первое представление трагедии Крюковского «Пожарский». — Мы заметили М. А. Лобанова, молодого преподавателя русской словесности у Строгановых, в числе несчастных партерных пациентов: он опоздал найти себе место и принужден был жаться между стоящими». «К. С. Семенову видел я в «Меропе», — описывает Н. Полевой гастроли знаменитой артистки в Москве, — но плохо, ибо театр был полон до такой степени, что в партере мы задыхались, набитые, как сельди в бочонке»...
Партер петербургских театров воспринял многие черты итальянских и французских театров. В европейских зрительных залах еще в XVIII веке образовались эти общедоступные места, где публика размещалась стоя. Партер «Французской Комедии» в XVII столетии славился своей теснотой. Ввиду незначительной платы сюда проникала наименее чопорная и наиболее восприимчивая часть зрителей — художники, литераторы, студенты, клерки. Эти зрители громко выражали свое одобрение и порицание, не останавливались перед восторженными возгласами или смелыми насмешками.
«Шутник партера» был носителем самой острой, жи-
326
вой и непосредственной театральной критики. Он оказывался в силу этого самым влиятельным зрителем, от которого зависел успех или провал пьесы. В театре он подавал инициативу свистков или аплодисментов. «Суд партера», а не лож или кресел — вот с чем наиболее считались актеры, импресарио и драматурги. Партер стал синонимом театра, произносящего свое суждение. Недаром в первых стихах Пушкина он упоминается именно в этом смысле:
Dis moi, pourquoi «l'Escamoteur»
Est-il siffle par le parterre?.. 1
Это обычная терминология эпохи. «Партер смеялся беспрестанно, следовательно, цель комедии была достигнута», — отмечает Арапов по поводу новой пьесы Загоскина. «Автор... грешит перед партером», — пишет Грибоедов в своей сатире «Лубочный театр».
Один из водевилей Хмельницкого заканчивался куплетами:
Все пустились в водевили,
А что пользы, например,
Если мы не угодили
И не хлопает партер?
Этот мотив варьировался персонажами на все лады. «Я надеюсь, за старанье пощадит меня партер»... «...И на все свои дебюты насажу друзей в партер»... и т. д.
Только в конце XVIII века в Париже была сделана попытка устроить в Одеоне «сидячий партер», т. е. установить в нем скамьи. Но это сильно сокращало в нем количество зрителей и значительно понижало его оживленность. Вот почему многие актеры, авторы пьес и любители театра горячо отстаивали старинный «стоячий партер», блестяще доказывавший свою восприимчивость и отзывчивость. У нас сторонником этого устройства был известный театральный деятель, драматург и мемуарист Рафаил Зотов, придававший огромное значение «образованию нисшего сословия зрителей». «Партер, — говорит он в своих театральных воспоминаниях, — составляет как бы необходимую принадлежность театра. Без партера не развивается в среднем сословии страсти
______________________
1 Скажи мне, почему «Похититель» освистан партером? (фр.)
327
к театру. Жизнь, придаваемая партером, поощряет актеров и заставляет их опасаться найти тут строгих и образованных судей»...
II
Один старинный фельетон Булгарина довольно выпукло изображает социальный облик каждого зрительного участка той поры. Обратимся к этой оригинальной топографии.
Раек посещался захудалыми писцами, приказчиками модных магазинов, лакеями, служанками, камердинерами, конторскими, артельщиками, таможенными сторожами. Здесь собиралась самая невзыскательная и наиболее благодарная публика. «Я с завистью посматриваю в раек, — говорит в булгаринском фельетоне зритель первоярусной ложи, — в раек, где беззаботные и трудолюбивые люди наслаждаются в полной мере спектаклем... Здесь, в ложе 1-го яруса, из приличия мне нельзя обнаружить ощущения, производимого в душе пьесою или игрою актера, а блаженные посетители райка восхищаются каждым воплем актера, каждым сильным его движением, топаньем, размахиванием рук и падением на землю, громогласно изъявляют свою радость и награждают деятельного артиста рукоплесканием и вызовом на сцену»...
Булгаринский писец, ставший ходатаем и стряпчим, переходит из галереи в партер. Здесь происходят деловые свидания его с клиентами, ведутся в антрактах переговоры с повытчиками и мелкими чиновниками. В партере же помещаются добровольные клакеры, которых один из современников так и обозначает термином друзей партера; они «хлопают при каждом слове, кричат «браво» при каждой размашке и вызывают после каждой пьесы».
Когда практика мелкого дельца расширилась и захватила «круг высших чиновников», он, ощутил потребность «непременно играть роль человека порядочного»... «Разумеется, — заключает он, — что при этом я перешагнул из партера в кресла»... Женитьба переводит его на новое театральное место, т. к. «порядочному человеку среднего состояния должно с женою помещаться по крайней мере в ложе 3-го яруса»... Понемногу и постепенно, через ряд лет, по настоянию подросших дочерей, не желающих отставать от богатых и знат-
328
ных подруг, старый театрал утверждается в ложе первого яруса, где он обречен на молчание, неподвижность и скуку 1.
Денежная база играла, таким образом, решающую роль в этом сложном распределении зрителей. Так, многолюдство партера объяснялось в значительной степени и доступностью его цены. В то время как кресла стоили два рубля с полтиною, за вход в партер платили всего рубль медью 2.
Бесплатных мест в театре было очень немного.
Спектакль в значительной степени сохранял характер придворного зрелища, и против контрабандных зрителей принимались энергичные меры. Еще в 1800 году для контроля входных билетов было учреждено особое дежурство обер-офицеров и чинов воинской команды. Комитет по театральным делам точно устанавливал список лиц, имеющих право на «безденежное» пользование местами в театрах: три ложи предоставлялись для директора, актеров и главнокомандующего; семь кресел для различных должностных и военных лиц. В этом отношении соблюдался строгий и мелочной формализм. Так, из представленного списка бесплатных зрителей «государь усмотрел», что «некий отставной за ранами в Отечественную войну капитан Ивашкевич получал бесплатно место за креслами». При утверждении списка было поставлено «продолжать давать место за креслами и капитану Ивашкевичу, но с тем, чтобы сумма, следующая за это место, принята была на счет комитета раненых». Аракчеев «дал о том предписание означенному комитету», и капитан Ивашкевич продолжал пользоваться даровым местом.
На всем этом сказывались, вероятно, отголоски старого театрального законодательства Франции, строго запрещавшего допускать бесплатных посетителей на королевские спектакли.
___________________________
1 Любопытный социологический разрез современного немецкого театрала в Петербурге дает мимоходом Вигель. В отличие от французского театра, спектакли германской труппы не собирают знати; даже «немцы лучшего тона» не посещают их. Представления эти предназначены лишь для «трудящегося у нас немецкого населения. Пасторы, аптекари, профессоры и медики занимают в нем кресла; семейства их — ложи всех ярусов; булочники, портные, сапожники — партер; подмастерья их, вероятно, раек».
2 Только при театральной дирекции Тюфякина цены эти были удвоены.
329
В тех же целях благопристойности и порядка вечерние представления начинались и заканчивались сравнительно рано. Спектакль обычно протекал между 6 и 9 часами. Онегин, покидавший кресла незадолго до окончания представления, в сущности оставлял театр в момент теперешнего начала зрелищ. Собираться же на спектакль — особенно посетителям партера — приходилось иногда задолго до начала представления, в 3—4 часа пополудни. На всех больших спектаклях партер начинал роиться, гудеть и «кипеть» задолго до поднятия занавеса. Все это происходило в полумраке. Тогдашняя техника допускала освещение зала лишь к началу спектакля. Огромное здание, вмещающее тысячную толпу, освещалось маслом и воском. Сальные плошки, обычные в XVIII в., уже не применялись в больших петербургских театрах александровской эпохи.
Сложность и опасность тогдашнего способа освещения сказывались в постоянных пожарах театральных зданий. Мало помогали особые противопожарные меры — увеличение выходов, устройство больших водоемов и проч. Уже в старом Большом театре (XVIII в.) находились под кровлей четыре огромных водохранилища с восемью мехами и двумя насосами. Это, впрочем, не помешало пожару уничтожить здание театра до основания.
Таким образом, громадное здание освещалось бесчисленными масляными лампами, угрожавшими при малейшей неосторожности стихийным бедствием. Восковые свечи применялись для освещения оркестра, запасных фонарей, для жирандолей и для бутафорских целей. Зрительный зал требовал особых приспособлений. Над потолком театра находилась горница для зажигания и спуска люстры. Здесь устанавливалась специальная машина. Освещение сдавалось с подряда. Так, известный театральный деятель, артист, администратор и строитель Антонио Казасси в августе 1797 года заключил по торгам годовой контракт с дирекцией на содержание освещения в Каменном театре. В 1798 г. он снял с торгов четыре свечных лавки по 800 р. в год. Арбатский театр в Москве оплачивал в 1811 г. по 100 руб. за освещение спектакля. К этому времени уборные артистов уже освещались кенкетами. Каждый исполнитель неизменно получал перед спектаклем по две свечи для лапчатых бра своего зеркала.
330
В таком огромном многоярусном театре, еще напоминавшем комедиантские залы и оперные манежи предшествующего века, при свете тусклых ламп и оплывающих свечей, под шумный плеск нетерпеливого партера, зритель начала столетия, вооруженный двойным лорнетом или подзорной трубкой, среди шуток, хлопков и общего говора, ожидал того торжественного момента, когда занавес, расписанный гениальной кистью «живописного мастера» Пьетро Гонзаго 1, взовьется наконец над гнутой жестью рампы.
Глава вторая
АКТЕРЫ И ТЕАТРАЛЫ
Публика образует драматические
таланты. Что такое наша публика?
Пушкин. Мои замечания об
русском театре
I
Оглядим зрительный зал в момент, предшествующий спектаклю, когда сложное театральное здание глубоко вздохнуло, ожило, заколыхалось, зашумело и сплошь заполнилось радостно-возбужденной толпой.
Предоставим слово Пушкину.
«Перед началом оперы, трагедии, балета молодой человек гуляет по всем десяти рядам кресел, ходит по
________________________
1 Сообщим несколько сведений об этом выдающемся декораторе. Гонзаго был приглашен в Россию в 1787 году Н. Б. Юсуповым. Ученик Гальмани, он прославился своими декорациями в Венеции и был вызван в Рим для открытия театра Арджентино на карнавал. «Декорации Гонзаго, — сообщает Арапов, — до пожара венецианского театра Фениче, выставлялись во время карнавала как образцы возможного совершенства сценической живописи, и он-то писал тогда декорации для эрмитажного и публичного (т. е. Большого) петербургского театров». Н. Кукольник в «Художественной газете» 1857 г. называет Гонзаго «величайшим декоратором в России». Перу Гонзаго принадлежит две книги (на французском языке) — «Музыка глаз, или Театральная оптика» (П., 1807) и «О ремесле театрального декоратора» (П., 1807). В последней книге Гонзаго проводит мысль, что «живопись не есть только искусство подражания, но прежде всего искусство изображения, основанием для которого служат образование и память, Науки точные и систематичные».
331
всем ногам, разговаривает со всеми знакомыми и незнакомыми. «Откуда ты?» — «От Семеновой, от Сосницкого, от Колосовой, от Истоминой». — «Как ты щастлив!» — «Сегодня она поет — она танцует — похлопаем ей — вызовем ее! она так мила! у ней такие глаза! такие ножки! такой талант!» — Занавес подымается. Молодой человек, его приятели, переходя с места на место, восхищаются и хлопают».
Эти петербургские денди, гениально зачерченные и в пушкинском романе, вообще привлекали внимание современников. Старинный фельетонист живо описывает, как в театральный зал «с шумом вбегает молодой человек, одетый по последней моде, устремляет лорнет во все стороны, кланяется всем, будто вызванный на сцену актер, бегает, шепчется с одним, говорит громко с другим, вынимает часы, побрякивает печатками, то спускает с плеч, то поправляет свою соболью шубу... Он будто зажигательным стеклом привлекает своим лорнетом лучи прелестных взоров из лож всех четырех ярусов...»
Эта театральная молодежь занимала обычно абонированные кресла слева, откуда и получила свое шутливое прозвище «левого фланга». Здесь располагались и члены знаменитого кружка «Зеленая лампа» — тесного дружеского сообщества, в котором вольнолюбивые устремления и политические замыслы, несомненно, уживались рядом с практикой веселых волокитств и закулисных похождений.
Все участники кружка были страстные театралы. Основатель содружества Никита Всеволжский, сын московского театрального деятеля, считался драматургом-дилетантом; А. Д. Улыбышев был даровитым музыкальным критиком, написавшим ценную монографию о Моцарте. Д. Н. Барков, о котором Пушкин вспоминает в шутливом обращении к Нимфодоре Семеновой, состоял постоянным театральным референтом «Зеленой лампы». Каверин, Щербинин, Мансуров, Юрьев, Якубович, Родзянко, Энгельгардт, Я. Н. Толстой принадлежали к наиболее видным театралам эпохи.
Это отразилось на обращениях к ним Пушкина. В послании к Юрьеву он говорит о «легких крыльях Терпсихоры», в посвящении к Мансурову вспоминает о танцовщице Крыловой и французской актрисе Ласси, а к младшему Всеволжскому обращает характерную строфу:
332
Приди, счастливый царь кулис,
Театра злой летописатель,
Младых трагических актрис
Непостоянный обожатель.
На левом фланге, среди членов «Зеленой лампы», нередко появлялся Гнедич. Обезображенный оспою, с вытекшим глазом, «вовсе невзрачный собой», как говорили деликатные современники, знаменитый переводчик «Илиады» сохранял в толпе торжественно-величественный вид подлинного служителя муз. Недоброжелатели прозвали его даже «ходульником» за патетическую важность его речей и жестов.
Громогласная театральность его декламации славилась среди знатоков и заслужила ему знаменитую ученицу в лице Семеновой. В уроках с трагической актрисой он развертывал свои обширные филологические познания и проявлял во всей полноте свой потрясающий дар воодушевленной декламации. Эксцентричность манер, острая афористичность разговора, громадная начитанность и сложное искусство ритмического чтения — все это в связи с почетным поэтическим признанием — выделяло эту характерную фигуру из круга тогдашних театралов. Завсегдатаям партера и кресел был хорошо знаком этот величественный и безобразный собеседник Гомера.
Гнедич чутко следил за ростом русского театра. Ценя его расцвет; он придавал громадное значение его социальному воздействию на массы. Поэт-классик особенно заботился о театральных впечатлениях общественных низов. По его мнению, «несколько хороших пьес и хороших актеров нечувствительно могут переменить образ мыслей и поведение наших слуг, ремесленников и рабочих людей и заставить их, вместо питейных домов, проводить время в театре».
В старом зрительном зале это был, несомненно, интереснейший теоретик сцены, замечательный историк и эстетик театра, тонкий ценитель и критик его текущих явлений.
Таков был этот тесный кружок культурных театралов, актеров-любителей, переводчиков и драматургов. К нему принадлежали еще Грибоедов, Жандр, Лобанов, Бегичев, наконец, именитые литераторы — Хмельницкий, Катенин и Шаховской.
333
Неподалеку от них, в первых рядах кресел, размещалась та часть публики, которая, по свидетельству Пушкина, — «слишком занята судьбою Европы и отечества, слишком утомлена трудами, слишком глубокомысленна, слишком важна, слишком осторожна в изъявлении душевных движений, дабы принимать какое-нибудь участие в достоинстве драматического искусства (к тому же — Русского), и если в половине седьмого часа одни и те же лица являются из казарм и совета занять первые ряды абонированных кресел, то это более для них условный этикет, нежели приятное отдохновение».
Эта косная часть зрительного зала могла оказывать тлетворное воздействие и на сцену. «Сии великие люди нашего времени, носящие на лице своем однообразную печать скуки, спеси, забот и глупости, неразлучных с образом их занятий, сии всегдашние передовые зрители, нахмуренные в комедиях, зевающие в трагедиях, дремлющие в операх, внимательные, может быть, в одних только балетах, не должны ли необходимо охлаждать игру самых ревностных наших Артистов?..»
Таков приговор, вынесенный Пушкиным этому слою зрителей. Известно, впрочем, что в действительности он далеко не чуждался его. Пущин, уже вступивший в тайное общество, корил своего друга за то, что в театре он «любил вертеться у оркестра, около Орлова, Чернышева, Киселева», которые «с покровительственной улыбкой выслушивали его шутки и остроты...».
Остановим наше внимание на одном наиболее заметном представителе этого парадного синклита. Оговоримся, впрочем, что интересы театра, хотя бы и в своеобразном преломлении военного администратора и стареющего селадона, ему были не вовсе чужды. Имя его тесно переплетается с судьбами всех видных актеров конца александровской эпохи и мелькает в биографии молодого Пушкина. Каждый большой спектакль непременно насчитывал его в числе своих зрителей.
Это один из прославленных генералов 1812 года, петербургский военный губернатор Милорадович, который вскоре — в день 14 декабря 1825 года — отправится с утреннего завтрака у танцовщицы Телешевой на Сенатскую площадь, где и будет убит Каховским.
Вспыльчивый, но отходчивый, властолюбивый, но не лишенный иногда способности к благородному жесту,
334
он славился своим пристрастием к танцоркам и театральным воспитанницам. Южный темперамент сказывался в этих проявлениях бурной и чувственной натуры, как и в горбатом очерке его выразительного профиля. Он принадлежал к числу наиболее блистательных зрителей, увешанных орденами и лентами, ослепляющих — даже при тогдашнем освещении — шитьем и знаками парадных мундиров.
Это разнообразие одежды военных, чиновников и статских сообщало зрительному залу живописную пестроту.
Любопытную картину театра на парадном спектакле дает в своих записках Жихарев. Он описывает публику, собравшуюся на премьеру «Дмитрия Донского» Озерова.
«...Буквально некуда было уронить яблока. В ложах сидело человек по десяти, а партер был набит битком с трех часов пополудни. Были любопытные, которые, не успев добыть билетов, платили по 10 руб. и более за место в оркестре между музыкантами. Все особы высшего общества, разубранные и разукрашенные как будто на какое-нибудь торжество, помещались в ложах бельэтажа и в первых рядах кресел и, несмотря на обычное свое равнодушие, увлекались общим восторгом и также апплодировали и кричали браво! наравне с нами.
В половине шестого часа я пришел в театр и занял свое место в пятом ряду кресел. Только некоторые нумера в первых рядах и несколько лож в бельэтаже не были еще заняты, а впрочем, все места были уже наполнены. Нетерпение партера ознаменовалось апплодисментами и стучанием палками; оно возрастало с минуты на минуту — и немудрено: три часа стоять на одном месте не безделка, я испытал это истязание... Однако ж мало-помалу наполнились все места, оркестр настроил инструменты, дирижер подошел к своему пюпитру; но шесть часов еще не било, и главный директор не показывался еще в своей ложе. Но вот прибыл и он, нетерпеливо ожидаемый Александр Львович, в голубой ленте по камзолу, окинул взглядом театр, кивнул головой дирижеру, оркестр заиграл симфонию, и все притихли, как бы в ожидании какого-нибудь необыкновенного, таинственного происшествия. Наконец, с последним аккордом музыки, занавес взвился и представление началось».
Публика держала себя свободно, молодежь охотно
335
шутила, резвилась, сама забавляла зрительный зал. Так однажды Пушкин в Большом театре, находясь в ложе Колосовых, привел в веселое настроение своих соседей. В то время он, после горячки обрив голову, носил парик. «В самой патетической сцене Пушкин, жалуясь на жару, снял с себя парик и начал им обмахиваться, как веером. Это рассмешило сидевших в соседних ложах, обратило на нас внимание и находившихся в креслах. Мы стали унимать шалуна, он же со стула соскользнул на пол и сел у нас в ногах, прячась за барьер; наконец кое-как надвинул парик на голову, как шапку: нельзя было без смеху смотреть на него»...
Несмотря на свою многолюдность, зрительный зал сохранял некоторые черты интимной семейственности. Общество кресел, партера и лож состояло почти сплошь из добрых знакомых. Театральный зал не был лишен некоторых признаков клуба, гуляния или кафе. «Саша Пушкин» оставался здесь в своем обычном кругу, общаясь с теми же людьми, с которыми он встречался в различных холостых компаниях. Это были его всегдашние собеседники, с которыми он любил спорить, острить, резвиться, прожигать жизнь и которым иногда, разгоряченный увлекательной беседой, он читал на заре животрепещущие фрагменты своей первой поэмы.
Попробуем вглядеться пристальнее в некоторые лица этих зрителей старого театра.
II
Огромный, тучный, с короткой шеей и непомерным животом, быстрый и подвижный, как ртутный шарик, перекатывался по проходам, на мгновения задерживался и катился дальше, блистая своей зеркальной лысиной, какой-то всеобщий знакомец и неистощимый говорун. Это знаменитый знаток сцены, поэт, драматург, режиссер и первый театральный педагог столицы — шумный, возбужденный, вездесущий, всем известный князь Шаховской.
Голова его поистине поражала своим безобразием. Не то боров, не то филин, но, несомненно, что-то от крупного зверя или хищной птицы явственно отпечатлелось на этом уродливом, мощном и умном лице. Одутловатые щеки, чуть тронутые рябью, пересекались крупным крючковатым носом, почти ястребиным клю-
336
вом, но венчались высоким и совершенно обнаженным лбом, словно озаренным светом невидимой лампы. Совершенно круглая маска этого лунного облика была еле прорезана узкими щелями маленьких глазок, необыкновенно живых, искрящихся и зорких. Тонкая ироническая усмешка, напоминающая интригующие улыбки Леонардо, змеила подчас эти чувственные губы, склонные внезапно принимать, в редкие минуты молчания, налет брезгливой горечи и презрительной усталости.
Его безобразная внешность служила обильной пищей для остроумия современников. Сам он в молодости сокрушался «неблагосклонностью к нему натуры и фортуны»... Он даже настрочил в те годы «Послание к своему безобразию», в котором беспощадно заклеймил свою «телесную пухлость и карманную сухость». Язвительные остряки считали его «неблагопристойно жирным». Батюшков назвал его однажды «классической карикатурой»...
Этот «брюхастый стиходей» служил постоянным источником для летучих эпиграмм и бродячих анекдотов. Рассеянный и перегруженный занятиями, фанатик декламационного искусства с комическими дефектами дикции, вечно захваченный литературными спорами и вспыхивающий, как фейерверк, от каждого возражения, — Шаховской был живою легендою театрального Петербурга.
Моральная личность драматурга также служила нередко предметом сатирической оценки. Его считали лицемером, Тартюфом, интриганом, угодником сильных. Его обвиняли в кознях против Озерова, трагически отразившихся на судьбе впечатлительного поэта. Многие считали, что услуги его графу Милорадовичу переходили границы дозволенного, и Пушкин даже бросил по адресу драматурга: «отличный сводник»... Пушкин, как известно, в качестве верного арзамасца, относился вначале довольно неприязненно к «Шутовскому» за его «холодный пасквиль на Карамзина». В своей заметке он осуждает драматурга за то, что тот «никогда не хотел учиться своему искусству и стал посредственный стихотворец». Но в 1818 году Катенин повез его к Шаховскому, и тот навсегда очаровал молодого поэта. В беседе, записанной Катениным, Пушкин восхищается личностью автора «Пустодомов» и отказывается от своих памфлетов на него. Через семь лет он вспоминает в письме к Катенину «один из лучших вече-
337
ров моей жизни, помнишь, на чердаке князя Шаховского?»... В «Онегине» он освятил имя плодовитого комедиографа крылатым двустишием:
Тут вывел колкий Шаховской
Своих комедий шумный рой...
Откуда же громкая слава этого шумного «драмодела» в эстетически избалованном театральном мирке? Что создало ему столь громкую известность среди почетных граждан кулис?
У этого неуклюжего плешивого толстяка с голосом кастрата были неоценимые заслуги перед русским театром. Это понимали уже современники его, кипевшие в одном котле интриг, завистей, уязвленных самолюбий, полемических стычек и всяческих соревнований. Они поняли и оценили этого неутомимого мастера сцены и труженика кулис.
Это был прежде всего драматург по призванию. К концу своего поприща он оставил бесконечную серию драм, комедий, оперных либретто, водевилей, провербов, прологов, интермедий, «волшебных представлений», «романтических комедий» и «драматических поэм». Он испробовал свои силы в разнообразнейших жанрах и был, вероятно, самым активным, самым плодовитым и неутомимым из всех русских драматургов.
При обилии любителей и дилетантов в этой области, Шаховской был едва ли не единственным театральным писателем-профессионалом, посвятившим всю свою жизнь творчеству для сцены. Для актера его времени вошло в обычай обращаться перед бенефисом к Шаховскому за новой пьесой, которая и поспевала к назначенному спектаклю. При этом драматург никогда не требовал вознаграждения, несмотря на «карманную сухость», и щедро раздаривал актерам свои рукописи.
Правильное понимание сценического искусства внушило ему особый вид пьесы — занимательной, разнообразной, живой и пестрой, обычно с плясками, песнями и хорами. Поэт и знаток сцены сочетались в нем, чтоб создать на театре ряд забавных литературных карикатур, полемических и даже подчас памфлетических образов, как знаменитые комедийные сатиры на Карамзина или Жуковского. Все это вызывало бурю протестов и создавало в зрительном зале необходимое напряжение, столкновение групп и партий, широкие отзвуки
338
за стенами театра, в печати, устных оценках и эпиграммах.
Шаховской обладал изумительным чутьем сцены и подлинным «нервом драматургии». Он создавал свои образы для рампы и воображал свои интриги в четком театральном разрезе. Как опытный мастер сцены, он всегда имел в виду зрителя и, как знаток театральной техники, строил пьесу с расчетом на восприятие многочисленной аудитории. Некоторые приемы его драматургического творчества следует признать образцовыми. Так, он любил, чтоб около него на репетициях собирался кружок любопытных зрителей, хотя бы из хористов, фигурантов, даже плотников или ламповщиков. «Он тогда, — рассказывает очевидец, — беспрестанно обертывался и наблюдал, какое впечатление производит на них его комедия или драма; он подобно Мольеру готов был читать свое сочинение безграмотной кухарке». Современник, по-видимому, не оценил этого живого и верного приема учитывать при постройке пьесы психологию зрителя.
Подобные же удачные и правильные опыты производил Шаховской с труппой. Он писал не только для зрителя, но и для актера. Живой и конкретный подход сказывался на таком же тонком учете сценических индивидуальностей.
«Князь Шаховской, — рассказывает П. А. Каратыгин, — умел мастерски пользоваться не только способностями, но даже недостатками артистов своего времени — он умел выкраивать роли по их мерке».
Для одной актрисы с грубым и резким голосом он сочинял эффектные роли сварливых, болтливых старух. Он дал возможность блеснуть второстепенному актеру Щенникову, смешившему публику своей неуклюжей фигурой, пересоздав для русской сцены образ Калибана в «Буре».
Все для актера и зрителя! Шаховской был человек живого театра, и недаром театр его времени жил репертуаром Шаховского.
Он был при этом замечательным режиссером. В эпоху, когда особенное внимание уделялось постановкам лишь опер и балетов, он применил всю строгость режиссерских требований и всю полноту монтировочных возможностей для постановки комедий и драм. Он входил во все детали мизансцены и руководил всеми пружинами спектакля. Жихарев описывает репетицию
339
«Дмитрия Донского», когда перед ним метался по сцене тяжеловесный и неуклюжий человек, который «то учил некоторых актеров, то кричал на статистов, то делал колкие замечания актрисам, то разговаривал с Дмитриевским, то болтал по-французски с некоторыми актерами... Словом, князь Шаховской, несмотря на свою дородность, показался мне каким-то неуловимым существом»...
«Если бы перенести человека, чуждого театральному делу и равнодушного к театральному искусству, на сцену, где шла репетиция пьесы при князе Шаховском, то он бы расхохотался и счел князя за сумасшедшего», — говорит Аксаков.
«Кн. Шаховской, — сообщает в своих воспоминаниях П. А. Каратыгин, — был такой же фанатик своей профессии, как и Дидло; так же готов был рвать на себе волосы, войдя в экстаз, так же плакал от умиления, если его ученики (особенно ученицы) верно передавали его энергические наставления; он был так же неутомим, несмотря на свою необыкновенную тучность».
И только изредка, совершенно выбившись из сил, изнемогая от трехчасовой суеты, криков, возмущений, наставлений и жалоб, он опускался наконец на какую-нибудь скамейку на авансцене, опирался на трость и подкреплял себя табачной понюшкой, молча следя за происходившим на подмостках.
Не только текущие представления, но и вся культура театра глубоко захватывала Шаховского. В эпоху почти полного отсутствия театральной печати он выработал проект специального журнала или газеты, «в которых бы можно было помещать рецензии на пьесы, представляемые на театре, на игру актеров, разные театральные анекдоты, жизнеописания известнейших драматургов и актеров русских и иностранных — словом, все, что относится до истории театра и правил сценического искусства».
Эта изумительная активность поражала современников. Режиссер, педагог, администратор — каким образом этот вездесущий театрал ухитрялся еще быть продуктивнейшим драматургом?
— Скажи, пожалуйста, князь, — обратился к нему один из приятелей, — когда ты находишь время сочинять что-нибудь? По утрам у тебя должностной народ, перед обедом репетиция, по вечерам всегда общество, и
340
прежде второго часа ты не ложишься — когда же ты пишешь?
— Он лунатик, граф, — с громким смехом отвечала жена Шаховского, — не поверите! во сне бредит стихами. Иногда думаешь, что он тебе что-нибудь сказать хочет, а он вскочил да и за перо, перебирать рифмы...
Таков был один из интереснейших зрителей в театральном зале пушкинской эпохи.
III
Он имел немало противников, антагонистов и соперников. Один из них постоянно встречался с ним в первых рядах кресел и даже посещал его домашние собрания. Штабс-капитан Преображенского полка, небольшого роста, подвижный и не лишенный некоторого изящества, он занимал обычно свое место с самоуверенным видом завсегдатая. В зрительном зале и за кулисами с мнением этого военного считались, как с непререкаемым приговором. Он создавал и разрушал репутации.
Этот офицер — Катенин. «Круглолицый, полнощекий и румяный, как херувим на вербе, этот мальчик вечно кипел, как кофейник на камфорке», — говорит о нем злоязычный Вигель. Другие, напротив, находили в этой маленькой живой фигурке некоторое сходство с Пушкиным. Возможно, что южное происхождение (от матери — гречанки) было причиной этого сходства. Ученый, поэт, драматург, литературный критик, знаменитый декламатор, блистательный собеседник, неподражаемый остроумец, первоклассный спорщик, он принадлежал к той же категории универсальных умов, что и Грибоедов, Герцен и Хомяков. Уступая им в литературном даровании, Катенин так же поражал современников безграничной обширностью своих познаний и неодолимой увлекательностью своего разговора.
Летописец старого театра П. А. Каратыгин пишет о нем: «Катенин (критику которого всегда так уважали Пушкин и Грибоедов) был человек необыкновенного ума и образования: французский, немецкий, итальянский и латинский языки он знал в совершенстве; понимал хорошо английский язык и несколько греческий. Память его была изумительна. Можно положительно сказать, что не было ни одного всемирного исторического события, которого бы он не мог изложить со все-
341
ми подробностями; в хронологии он никогда не затруднялся; одним словом, это была живая энциклопедия. Будучи в Париже в 1814 году (вместе с полком), он имел случай видеть все сценические знаменитости того времени: Тальму, М-elle Дюшенуа, М-elle Марс, Потье, Брюне, Молле и др.».
Это навсегда сделало его страстным театралом, знатоком сцены, даровитым чтецом, драматургом и театральным педагогом. Он славился как актер-любитель. Колосова не могла забыть его виртуозного исполнения роли хвастуна в комедии Княжнина. В качестве руководителя артистов ему пришлось столкнуться с авторитетнейшим «профессором декламации» Шаховским. Отсюда их соревнование и непримиримая вражда.
Методы их сценического преподавания были глубоко различны. Шаховской требовал от ученика полного подчинения своей трактовке и точной копии своего исполнения. Это объяснялось отчасти низкой культурной подготовкой молодых актеров. Шаховскому приходилось разъяснять на репетициях, например, что «Альбион» значит Англия, а не «альбинос», что, говоря о «Стиксе», не следует указывать на небо, как то сделала одна юная актриса, оправдывая свой жест тем, что это должен быть «какой-нибудь бог Олимпа»... что знаменитого английского актера звали Гаррик, а не Рюрик, и т.д.
Все это требовало подчас довольно деспотических приемов от педагога, и некоторые даровитые ученики воспринимали эту учебу как гнет и подавление своих сил. Так, по мнению А. М. Колосовой-Каратыгиной, Шаховской не был призван руководить трагическими дарованиями. «Способ учения Шаховского состоял в том, что, прослушав чтение ученика или ученицы, князь вслед читал им сам, требуя рабского себе подражания: это было нечто вроде наигрывания или насвистывания разных песен ученым снегирям и канарейкам. К тому ж он указывал и при каком стихе необходимо стать на правую ногу, отставя левую, и при каком следует перекинуться на левую ногу, вытянув правую, что, по его мнению, придавало чтецу «величественный вид». Иной стих следовало проговорить шепотом и после «паузы», сделав обеими руками «индикцию» в сторону возле стоявшего актера, скороговоркой проговорить заключительный стих монолога. Немудрено было запомнить его технические выражения; но трудно, а для меня часто и
342
вовсе было невозможно не сбиться с толку и не увлечься собственным чувством».
Совершенно иначе действовал Катенин. Метод его требовал прежде всего приобщения актера к обширной поэтической и исторической культуре, необходимой для него, как для художника в сложнейшей области искусства. По рассказу брата знаменитого Каратыгина, «после обычных уроков, Катенин читал ему в подстрочном переводе латинских и греческих классиков и знакомил его с драматической литературой французских, английских и немецких авторов. Можно утвердительно сказать, что окончательным своим образованием брат мой был много обязан Катенину. Занятия их были исполнены классической строгости и постоянного честного и неутомимого труда» 1.
Катенин много и упорно трудился над переводами шедевров европейского театра — Расина, Корнеля, Мариво. В этот труд он вносил творческое начало, и русские тексты знаменитых драматических образцов приобретали под его пером характер новых поэтических ценностей. За это воссоздание оригиналов и своеобразную транспозицию французского трагедийного стиля в план русской драмы он даже встречал подчас нападки в критических отзывах. Один журнальный рецензент упрекал его за пристрастие к славянизмам.
Зато Пушкин высоко ценил литературные опыты своего старшего приятеля. Быть может, не без обычной дружеской любезности он называл Катенина «пламенным поэтом». Но он мог с полной правдивостью хвалить «ученую отделку», звучность гекзаметра и весь механизм стиха Катенина. Его, несомненно, привлекал и общий облик ученого поэта.
«Никогда не старался он угождать господствующему вкусу в публике: напротив, шел всегда своим путем, творя для самого себя, что и как ему было угодно. Он даже до того простер свою гордую независимость, что оставлял одну отрасль поэзии, как скоро становилась она модною, и удалялся туда, куда не сопровождало его
______________________
1 Под конец жизни Катенин, как известно, был близок молодому Писемскому, с которым он любил беседовать на литературные и театральные темы, заниматься с ним декламацией и проч. Существует мнение, что именно Катенин выработал из Писемского замечательного чтеца с четкой дикцией и выразительной интонацией, поражавшей слушателей романиста.
343
ни пристрастие толпы, ни образцы какого-нибудь писателя, увлекающего за собою других».
Такой одинокий творческий подвиг всегда импонировал Пушкину. Он, видимо, вполне искренно ценил переводные труды Катенина и действительно восхищался прелестью их «величавой простоты». Недаром в пленительной манере своего обычного остроумия поэт поздравлял «старого Корнеля» с тем, что «Сид» появится на русской сцене в катенинской передаче. В послании 1828 года он признавал за поэтом-переводчиком право на «лавр Корнеля или Тасса», а в «Онегине» почтил его летучею хвалою:
Здесь наш Катенин воскресил
Корнеля гений величавый...
И когда Катенин через несколько лет писал Пушкину о своем отречении от поэзии: «Carmina nulla canam» 1, — поэт отвечал ему: «Ты огорчаешь меня уверением, что оставил поэзию... Послушай, милый, запрись да примись за романтическую трагедию в 18 действиях (как трагедии Софии Алексеевны). Ты сделаешь переворот в нашей словесности, и никто более тебя того не достоин».
Известно предание о первом знакомстве Пушкина с Катениным — о торжественной передаче ему трости поэтом со словами: «Я пришел к вам, как Диоген к Антисфену: побей, — но выучи». Сохранился метко-язвительный каламбур Катенина о Пушкине: «Le jeune monsieur Arouet»2. Наконец, обстоятельная переписка обоих писателей свидетельствует о их прочной умственной связи и глубоком взаимном уважении.
Один только раз, значительно позже, Катенин ошибся в своем отзыве о Пушкине. Романтическая трагедия «Борис Годунов» слишком противоречила поэтике Расина, чтоб фанатический «не-романтик» — как подписался Катенин под одним из писем к Пушкину — мог согласовать этот новаторский опыт со своим классическим исповеданием. «Кусок истории, разбитой на мелкие куски в разговорах» не мог быть признан драмою по заветам Буало.
________________________
1Песен никаких петь не стану (лат.). — Цитата из «Буколик» Вергилия, I, 77.
2 Юный господин Аруэ (т. е. Вольтер) (фр.).
344
Впоследствии, в своих «Рассуждениях и разборах», напечатанных в «Литературной газете» Дельвига, Катенин изложил свою драматическую теорию. Не отстаивая непременно классического триединства, он признает предметом драматического искусства человека в действии.
«Кто сумеет пружины сего действия, нравы, чувства и страсти изобразить верно, сильно и горячо — независимо от романтических требований местного колорита и характерного костюма — тот заслужит похвалу знающих... Сим-то достоинством равно стяжали бессмертие и Софокл, и Шекспир, и Расин»...
Он не согласен с теоретиками романтизма о преимуществе их драмы перед античной. «Шлегель уподобляет греческую трагедию изваянной группе, составленной из немногих фигур; романтическую — картине, где их бывает больше». Этот количественный критерий не убеждает Катенина, и малочисленность героев классической трагедии представляется ему даже композиционным качеством.
Пушкин, при всех его несомненных классических симпатиях, уже не мог остановиться на этой отходящей поэтике. Защитник ее казался ему эстетически отсталым. «Катенин... опоздал родиться и своим характером и образом мыслей весь принадлежит XVIII-му столетию», — метко определял поэт. Таким верным классиком, горячим поклонником Расина, восторженным ценителем четкого, продуманного, стройного и строгого искусства, Катенин остался до конца.
Актеры новейшей формации высоко ценили его вкус, знания, опыт и обширную культуру. К нему, как мы видели, обратился за руководством Каратыгин, навсегда сохранивший чувство благодарного ученика к переводчику «Андромахи». К нему же пошла в ученье и юная Колосова.
Но в ту эпоху невинная свобода выбора сценического руководителя оказывалась сложным и опасным делом. Шаховской умел интриговать и мстить. За соревнование с его школой жестоко поплатились и Каратыгин, и Колосова, и сам Катенин.
Три эпизода, связанные с их именами, характерны для тогдашних взаимоотношений театра и власти. Каких только угроз и опасностей не знали в то время артисты, драматурги и зрители!
Актеры считались вещью императора. Отсюда, с од-
345
ной стороны, — их неприкосновенность для отзывов. Громадное и печальное последствие такого воззрения — жалкое состояние тогдашней еле прозябавшей театральной критики. «Суждения об императорском театре и актерах, находящихся на службе его величества, почитаются неуместными во всяком журнале», — декретировала власть в 1815 году. Случайные, беглые, обычно бесцветно хвалебные отзывы только и могли проникать в скудную и робкую печать. До самого конца александровского царствования этот порядок не удавалось сломить.
Только в 1825 г. Булгарин получил наконец разрешение печатать в «Северной пчеле» театральные рецензии. Ему пришлось приводить соображения, что критика есть единственное средство, «чтобы превосходный артист получил должную ему награду», и при этом ручаться, что в основу отзывов будут положены «благонамеренность и тон благородный, веселый, не площадной, не педантский», причем «всякая оскорбительная личность будет чужда совершенно сим критикам»...
Только с этого момента у нас робко возникает театральная критика как постоянный отдел печати.
Но, при этой заботе о неприкосновенности актерской репутации, личность актера была открыта для самых разнузданных произволов.
Театральная летопись эпохи свидетельствует о целом ряде возмутительных случаев отношения власти к выдающимся артистам без всякого видимого основания. В начале 20-х годов жертвой этой системы стал знаменитый Каратыгин.
В антракте одного из школьных спектаклей, рассказывает в своих воспоминаниях Колосова, «в котором участвовал младший брат Каратыгина Петра Андреевича, Василий Андреевич, разговаривая с братом в столовой, присел на угол одного из столов. Майков (временно управляющий театрами) с бранью накинулся на него за то, что он осмеливается сидеть в той комнате, через которую проходил директор. На вежливый ответ Василия Андреевича, что, занявшись разговором с братом, он Майкова не видал, увидя же, не замедлил встать, директор с запальчивостью закричал, что он «должен был чувствовать близость директора». После того Майков бросился в залу школьного театра к гр. Милорадовичу с жалобой. Граф порешил посадить В. А. Каратыгина в крепость за несоблюдение субординации и в ту же ночь
346
(1l марта 1822 года) самовластно отправил Каратыгина в Петропавловскую крепость. Просидев в каземате сорок два часа, Каратыгин был выпущен по просьбам театральных воспитанниц, имевших на гр. Милорадовича гораздо более влияния, нежели мольбы поруганной матери безвинного арестанта, которой он отвечал, когда она в слезах упала к его ногам: «я видел кровь — меня не тронут слезы». И еще: «я люблю комедии только на сцене».
Гораздо сложнее оказался случай с самой Колосовой, на целый сезон устраненной от сцены за аналогичное по своей важности «преступление». Артистка живо изобразила в своих записках этот характернейший эпизод, бросающий яркий свет на лицемерный облик «властителя слабого и лукавого» и на фигуру полновластного вершителя актерских судеб — Милорадовича.
Осенью 1824 г. А.М.Колосова с блистательным успехом гастролировала в Москве. Публика не отпускала ее. Ответственность за самовольную просрочку взял на себя московский военный генерал-губернатор Д. В. Голицын, указавший на закрытие петербургских театров из-за наводнения (7 ноября 1824 г.) и обещавший написать лично Милорадовичу.
«Несмотря на предстательство князя Голицына, по возвращении моем в Петербург директор театров сделал мне строжайший выговор за мою просрочку, и так как театры были уже открыты, то мне для первого выхода по возвращении назначили играть самую ничтожную роль изо всего моего репертуара.
На просьбу же мою о дозволении выйти в Мизантропе ролью Селимены мне было письменно объявлено: «что я напрасно присваиваю себе право, принадлежащее одним первым артистам». Это явное намерение унизить достоинство молодой артистки, усердно и добросовестно занимающейся своим делом, было до того оскорбительно, что я отказалась участвовать в спектакле, назначенном мне дирекцией.
На другой день полицеймейстер Чихачев приехал ко мне на квартиру и, застав дома одну матушку, объявил ей, что граф Милорадович приказал ему взять меня под арест. Испуганная матушка сказала ему, что она сама съездит за мной и через час привезет меня домой. Вместо того, не теряя времени, наняли экипаж и отправили Меня в Царское Село с наскоро написанною просьбою на собственное его императорского величества имя».
347
На другой день артистка встретилась в дворцовом саду с императором. «Приостановясь, я молча поклонилась ему. Государь, сделав несколько шагов, оглянулся и, видя меня по-прежнему стоящею неподвижно, возвратился ко мне и милостиво спросил:
— Вы желаете говорить со мной?
Артистка изложила свою просьбу.
«Император сказал, что ему приятно, что я с пользой съездила в Париж; что мое желание усовершенствоваться делает мне честь; спросил, есть ли у меня письменное к нему прошение, и на утвердительный ответ предостерег меня, не вручать ему прошения в саду, но запечатать конверт и, надписав на его собственное имя «в собственные руки», отдать на почту, и через четверть часа прошение будет у него в кабинете на столе.
— Теперь же, — заключил государь, — вас совсем занесло снегом (снег действительно валил хлопьями) — войдите во дворец и обогрейтесь, а потом возвращайтесь к себе... Я же переговорю с графом Милорадовичем.
Тут государь вежливо раскланялся со мной и тотчас удалился».
Артистка поняла, что дело ее проиграно: Милорадович находился в числе ее врагов.
И действительно, «третьего января (1825 г.) прислана мне была бумага об отставке меня от театра за неуместную жалобу государю императору, с приказанием явиться в театральную контору под арест на одни сутки».
В течение полугода Колосова оставалась устраненной от театра. Только в августе 1825 г. артистка получила прощение и могла возобновить свою деятельность.
Несколько ранее жестоко пострадал, за выражение своего театрального впечатления, известный нам Катенин. Как в целом ряде других случаев, так и в его внезапном изгнании нужно видеть результат сложной интриги, восходящей к Милорадовичу и Шаховскому. Эпизод послужил материалом для целого «дела о неприличном поведении в театре отставного полковника Катенина и о высылке его из С.-Петербурга, с воспрещением въезда в обе столицы».
Для этого достаточно было пылкому зрителю во время бенефисного представления трагедии Озерова «Поликсена» (18 сентября 1822 г.) запротестовать против неправильного выхода артистов на вызовы публики.
348
Вместо Каратыгина, возбудившего восторг зрительного зала, Семенова выводила свою ученицу Азаревичеву, дебютантку, воспитанницу театральной школы. Вступаясь, очевидно, за своего ученика, Катенин среди аплодисментов и протестов части публики начал кричать, — по одной версии — «Каратыгина», по другой — «Семенову одну», по третьей — «Азаревичеву не надо»... Во всяком случае, Семенова была оскорблена и пожаловалась Милорадовичу. Петербургский губернатор вызвал к себе Катенина, запретил ему посещать русский театр во время выступлений Семеновой и письменно рапортовал об инциденте государю, находившемуся за границей. Вскоре пришел из Вероны ответ Александра, предписывавший немедленно выслать Катенина из Петербурга с запрещением въезда в обе столицы. Приказ был исполнен с молниеносной быстротой. «Мне не дают даже законных 24 часов, — сообщил Катенин бывшему у него, в момент приезда полицеймейстера, П. А. Каратыгину, — Милорадович приказал теперь же вывести меня за заставу»... 1
Строптивый зритель был изгнан и на несколько лет заброшен в глушь Костромской губернии. А через несколько дней после его отъезда петербургская публика восхищалась на бенефисе Каратыгина пламенными монологами «Сида» в превосходной стихотворной передаче Катенина.
V
Кулисы, уборные актрис, даже классы театральных воспитанниц — весь этот мир юных, красивых, грациозных и радостных женщин был постоянным источником
________________________
1 Как догадывались уже современники, строгость кары, постигшей Катенина, могла быть вызвана его репутацией «вольнодумца» и «либерала». По словам Вигеля, напр., он слышал однажды в обществе офицеров «песню, известную в самые ужасные дни революции... Мерзкие слова ее переведены надменным и жалким поэтом, полковником Катениным:
Отечество наше страдает
Под игом твоим, о злодей!
Коль нас деспотизм угнетает,
То свергнем мы трон и царей.
Свобода! Свобода!
и проч.».
349
любовных приключений. Вокруг театра развертывалась особая праздничная жизнь, насыщенная эротикой и окрашенная отважным авантюризмом. Поединки, похищения, необычайные свидания, подкупы прислуги, даже переодевания — все это сообщало любовным нравам эпохи какой-то полуфантастический и часто поистине театральный характер.
«Почетные граждане кулис» и завсегдатаи «левого фланга» влеклись к театру, как к некоторому средоточию богатых чувственных наслаждений. В каждом из этих зрителей жил
Непостоянный обожатель
Очаровательных актрис.
В эпоху пренебрежительного отношения к массовому актеру «актрисы, певицы, танцовщицы — сравнительно говоря, пользовались благосклонностью господ», — свидетельствует современник. Но наружное покровительство талантливым артисткам маскировало лишь обычные приемы волокитства. «Держать» певицу или танцовщицу почиталось признаком высшего тона. «Театральные фаворитки» и «балетные одалиски» были типичным явлением времени. Русский театр продолжал тогда особую «vie légére» 1, ярко окрашивавшую быт петербургской молодежи. Любопытно, что в минуту хандры Грибоедова тянет на дачу к Шаховскому, у которого живут театральные воспитанницы, ибо «там по крайней мере можно гулять смелою рукою по лебяжьему пуху милых грудей...».
Можно поверить Головачевой-Панаевой, что Пушкин, живописно забрасывая полу модного плаща за плечо, часто прохаживался мимо окон театральной школы, видимо влюбленный в одну из воспитанниц-танцорок.
Вокруг театральных школ разыгрывались авантюрные романы. Случались и похищения воспитанниц. Так, несколько позже, уже в николаевскую эпоху, особенно прошумело похищение выпускной воспитанницы Кох, «обратившей на себя внимание очень важной особы», т. е., по-видимому, фаворитки государя. По крайней мере, сообщает современник, «похититель долго укрывал Кох в своих имениях, несмотря на строжайшее приказание Николая Павловича разыскать и его, и похищен-
_____________________
1 легкую жизнь (фр.).
350
ную. Наконец похитителя нашли и посадили в крепость»...
К таким эпизодам, которые начинались беспечно и заканчивались подчас — трагически, относится «дуэль четырех (partie carréе)», поразившая внимание современников печальным контрастом своей радостной завязки и кровавого финала.
Петербург александровского времени любил создавать неписаные повести, полные приключений и страстей, загадочных случаев, блистательных героев и мрачных эпилогов. В 1817 году, когда вчерашний лицеист Пушкин вступал в прельстительный мир петербургских наслаждений, жизнь заплела быструю и кровавую интригу вокруг фигуры одной знаменитой танцовщицы. Мгновенно и бурно, среди спектаклей, кутежей, маскарадов и празднеств, пронеслась эта пляска любви и смерти. Она унесла одного из участников этого карнавала и затянула в свой вихрь несколько виднейших фигур веселящегося Петербурга — Грибоедова, Якубовича, Каверина, Истомину.
Попробуем восстановить сюжет этой любопытной драматической повести. Вглядимся прежде всего в лица ее главных участников.
В центре печального события — знаменитая «первая пантомимная танцовщица» Истомина. Она одинаково славилась блистательным искусством танца и своей возбуждающей и манящей красотой. «Среднего роста, стройная брюнетка с морем огня в черных и полных страсти глазах, прикрытых длинными ресницами, особенно оттенявших ее лицо», — таков был общий облик артистки.
Сохранившийся портрет передает прелесть этих больших «томных» и выразительных глаз, великолепно очерченных тонких бровей, правильного лица несколько округлого овала, развитых форм, свидетельствующих о некоторой склонности к полноте. Острые языки сравнивали Флору — Истомину с богиней плодов Помоной. Лонгинов отмечает, что в свою цветущую пору Истомина носила на себе отпечаток красоты именно русской. «Русская красота, так многими до страсти любимая», — вспоминается описание Грушеньки у Достоевского при взгляде на графические и словесные изображения Истоминой. «Это тело, может быть, обещало формы Венеры Милосской, хотя непременно теперь уже в несколько утрированной пропорции, — это предчув-
351
ствовалось. Знатоки русской женской красоты могли бы безошибочно предсказать, глядя на Грушеньку, что эта свежая еще юношеская красота к тридцати годам потеряет гармонию»...
Как бы то ни было, но восемнадцатилетняя Истомина восхищала и сводила с ума. «Страстная, увлекающаяся, она легко поддавалась вспышкам любви», — свидетельствуют предания старого балета. Она была всегда окружена толпою поклонников и, видимо, любила разжигать страсти и ревность. В. Р. Зотов утверждает, что сцена из романа Зола, когда Нана, совлекая с себя все покровы, сводит с ума старого аристократа, была предвосхищена Истоминой. Какой-то «известный вельможа» был однажды единственным зрителем ее соблазнительной пляски.
Этот легкий и пылкий нрав вызвал неожиданную трагедию в кругу известных театралов.
В то время «государственной коллегии иностранных дел губернский секретарь» Грибоедов еще не был знаменитым драматургом и дипломатом. Он недавно лишь оставил гусарский полк и еще недостаточно выделился из общего круга талантливой молодежи. Но в его сложном внутреннем мире уже глухо бродили смутные творческие силы, сообщавшие подчас некоторую странность его поступкам и даже бросавшие его в явные противоречия и заблуждения. Одной из таких моральных ошибок, вызванных, несомненно, сложным брожением еще не нашедшей себя выдающейся натуры, был эпизод, оставивший навсегда свой горький осадок в душе поэта.
Главным виновником трагического приключения был приятель Грибоедова Александр Петрович Завадовский.
Сын известного фаворита Екатерины, он отличался некоторой надменностью и слыл чудаком. В его чопорной фигуре хотели видеть прототип грибоедовского англомана — князя Григория.
Замечателен облик другого участника знаменитого поединка — бретера, театрала, оратора, впоследствии декабриста А. И. Якубовича. Мемуары современников полны колоритных свидетельств об этой даровитой и отважной натуре. «Это был замечательный тип военного человека: он был высокого роста, смуглое его лицо имело какое-то свирепое выражение; большие черные навыкате глаза, словно налитые кровью; сросшиеся густые брови; огромные усы, коротко остриженные волосы и черная повязка на лбу, которую он постоянно носил в
352
то время, придавали его физиономии какое-то мрачное и вместе с тем поэтическое значение. Когда он сардонически улыбался, белые, как слоновая кость, зубы блестели из-под усов его и две глубокие резкие черты появлялись на его щеках, и тогда эта улыбка принимала какое-то зверское выражение».
Этот вояка отличался поразительным даром слова: его рассказы о кавказской жизни и молодецкой боевой удали были неистощимы. «Он вполне мог назваться Демосфеном военного красноречия. Речь его лилась, как быстрый поток, безостановочно; можно было подумать, что он свои рассказы прежде приготовлял и выучивал их наизусть: каждое слово было на своем месте и ни в одном он никогда не запинался... Если б 14-го декабря (где он был одним из действующих лиц) ему довелось говорить народу или особенно солдатам, он бы представительной своею личностью и блестящим красноречием мог сильно подействовать на толпу».
Таковы были главные участники эпизода. Фигура гусара-геттингенца Каверина достаточно знакома нам по пушкинским стихам. Наконец, жертва нелепой романтической истории, штаб-ротмистр кавалергардского полка В. А. Шереметьев, мало чем выделялся из общей массы тогдашней военно-театральной молодежи.
Судебные документы сообщают нам подробности этой мимолетной драмы, разыгравшейся в Петербурге осенью 1817 года.
На следственном производстве Истомина показала, что жила с кавалергардом Шереметьевым на одной квартире. 3 ноября уехала от него, поссорившись с ним из-за дурного обращения; 5-го ноября Грибоедов, увидевшись с ней в театре, пригласил ее поехать пить чай в его карете к камер-юнкеру Завадовскому. Пробыв здесь некоторое время, она была отвезена Грибоедовым ночевать к танцовщице Азарьевой; 7-го за ней приехал Шереметьев и увез ее опять к себе, где, помирившись с нею, допрашивал, не была ли она у кого-нибудь во время отсутствия из его квартиры. По усиленному его настоянию 9-го ноября она созналась ему, что была у Завадовского.
Немедленно же последовал вызов Завадовского Шереметьевым. Но одновременно приятель последнего Якубович, возмущенный двусмысленной ролью Грибоедова в этой любовной истории, вызвал, в свою очередь, и его. На 12-е ноября в 2 часа дня на Волковом поле
353
была назначена «квадратная» дуэль, т. е., другими словами, две почти одновременных дуэли четырех противников. Ввиду трагического исхода первого поединка второй был отложен и состоялся значительно позже.
Вот что произошло на месте встречи. Шереметьев дал первый выстрел, задев пулей сюртук своего противника. Это вывело из себя Завадовского, решившего отомстить за явное намерение убить его. Напрасно секунданты стали уговаривать его пощадить Шереметьева. Сам стрелявший потребовал неуклонного выполнения дуэльных правил, угрожая возобновить поединок в случае ответного выстрела в воздух. Завадовский прицелился и нанес Шереметьеву смертельную рану в живот.
Дуэль между Грибоедовым и Якубовичем пришлось отложить 1.
Эта мимолетная драма произвела, видимо, сильное впечатление на Пушкина. Главные участники ее были ему близко знакомы. В тогдашних рисунках поэта сохранился эскиз, в котором отразилось, по-видимому, его раздумье о «дуэли из-за танцорки». В кутящей компании женщина в коротеньком платье с распущенными волосами и обнаженной грудью жонглирует бутылками, сбрасывая их балетным движением ноги со стола. За спиной собутыльников проходит смерть с раскрытой пастью и жадно вытянутой рукой...
Этот эпизод надолго запомнился поэтом. В одном из писем 1825 года Пушкин вспоминает Якубовича, который «простреливал Грибоедова, хоронил Шереметьева etc.». Несколько позднее, в начале 30-х годов, он набросал программу повести «Две танцовщицы» с упоминанием имен Истоминой и Завадовского. Трагический случай 1818 года глубоко отложился в памяти поэта, тревожа, по-видимому, до конца его творческое воображение.
VI
Весь этот праздничный мир актеров, зрителей, танцовщиц, балетмейстеров и драматургов был близок юноше Пушкину. Его интересы, вкусы и увлечения ранней
___________________
1 Она состоялась 23 ноября 1819 года в Тифлисе. Грибоедов был ранен в кисть руки. По некоторым свидетельствам, рана эта была нанесена Якубовичем намеренно, с целью лишить даровитого пианиста Грибоедова возможности заниматься любимым искусством.
354
поры постоянно переплетались с прихотливыми судьбами этого пестрого и замкнутого круга. Принадлежа к определенной и, кажется, единственной тогда общественной группе «театралов», он усвоил характерные черты этой своеобразной касты.
Как характерно заключение пушкинского письма Я. Н.Толстому от 26 сентября 1822 г. (из Кишинева): «Что Всеволжские? что Мансуров? что Барков? что Сосницкие? что Хмельницкий? что Катенин? что Шаховской? что Ежова? что гр. Пушкин? что Семеновы? что Завадовский? что весь Театр?»
Уже царскосельская домашняя сцена Варфоломея Толстого приобщила Пушкина к театральным радостям. Крепостные актрисы знатного мецената раскрывали поэту-лицеисту увлекательную прелесть сценических воплощений Бомарше. Здесь он видел, вероятно, первую постановку «Севильского цирульника». Неопытные исполнительницы комедийного и сказочного репертуара отразились на его ранних посланиях, где навсегда запечатлелся облик одной
Миловидной жрицы Тальи...
Вырвавшись из Лицея, он с головой погружается в этот прельстительный мир. Воспоминания театральных деятелей эпохи рисуют нам его в зрительном зале, в кругу Шаховского, Катенина, Гнедича, Колосовой, Сосницких, Каратыгиных. Мы видели, как шаловливо держал себя Саша Пушкин в ложе Колосовых, где он смешил окружающих своими резвыми выходками во время спектакля. Это была, видимо, его обычная манера в обществе театралов и актеров. П. Каратыгин передает аналогичный эпизод.
«Однажды мы в длинном фургоне (называемом линией, форма которой и теперь еще не исчезла) возвращались с репетиции. Тогда против Большого театра жил некто камер-юнкер Никита Всеволодович Всеволжский, которого Дембровский учил танцовать. Это было весною, кажется, в 1818 году. Когда поравнялся наш фургон с окном, на котором тогда сидел Всеволжский и еще кто-то с плоским, приплюснутым носом, большими губами и смуглым лицом мулата, — Дембровский высунулся из окна нашего фургона и начал им усердно кланяться. Мулат снял с себя парик, стал им мотать над своей головой и кричать что-то Дембровскому. Эта фарса нас всех рассмешила. Я спросил Дембровского: «Кто этот госпо-
355
дин?» — и он отвечал мне что это сочинитель Пушкин, который тогда только что начинал входить в известность... Тут же Дембровский прибавил, что, после жестокой горячки, Пушкин выбрил голову и что-де на днях он написал на этот случай стихи, которые Дембровский прочел нам наизусть:
Я ускользнул от Эскулапа...»
Часто Пушкин приходил в театр как в клуб, и даже в клуб политический. Известен рассказ поэта Аркадия Родзянко о том, как Пушкин, сидя в театре, показывал находившимся подле него лицам портрет убийцы герцога Беррийского Лувеля с надписью «урок царям». Как известно, поэту пришлось дорого заплатить за эту смелую политическую демонстрацию.
Увлечение этим театральным бытом явственно сказывается на письмах, посвящениях, эпиграммах и творческих замыслах поэта. 27-го октября 1817 г. он пишет одному из уехавших «театралов» П. Б. Мансурову, что «друзья каждый день в 7 часов с 1/2 поминают его в театре рукоплесканиями и вздохами». «Каждое утро крылатая дева летит на репетицию мимо окон нашего Никиты и по-прежнему поднимаются на нее телескопы»; театралы вызывают Сосницкого, Шаховского и проч.
В стихотворном послании к тому же лицу развиваются аналогичные темы.
Еще характернее письмо к Всеволжскому летом 1824 г.:
«Ты помнишь Пушкина, проведшего с тобою (первые годы) столько веселых часов, Пушкина, которого ты видел и пьяного, и влюбленного, не всегда верного твоим субботам, но неизменного твоего товарища в театре, наперсника твоих шалостей (кулисных страстей), того Пушкина, который отрезвил тебя в страстную пятницу и проводил тебя под руку в церковь театральной дирекции, да помолишься господу богу и насмотришься на госпожу Овошникову».
Молодые актрисы постоянно встречались с Пушкиным в доме Шаховского. Одна из них оставила малоизвестное описание этих встреч с поэтом. «(В доме Шаховского) очень часто бывал Пушкин. По просьбе гостей он читал свои сочинения, между прочим несколько глав «Руслана и Людмилы», которые потом появились в печати совершенно в другом виде. Читал и другие отрывки и отдельные лирические пьесы, большею частью на память,
356
почти всегда за ужином. Он всегда был весел: острил и хохотал вместе с нами, когда мы смеялись над его длинными ногтями. Нередко разрезывал кушанья и потчевал нас».
Еще отчетливее рассказ о тех же встречах А. М. Колосовой. В то время, по ее словам, — знакомцы князя Шаховского А. С. Грибоедов, П. А. Катенин, А. А. Жандр ласкали талантливого юношу, но покуда относились к нему как старшие к младшему: «он дорожил их мнением, как бы гордился их приязнью. Понятно, что в их кругу Пушкин не занимал первого места и почти не имел голоса. Изредка к слову о театре и литературе будущий гений смешил их остроумной шуткой, экспромтом или справедливым замечанием, обличавшим его тонкий эстетический вкус и далеко не юношескую наблюдательность»...
С Колосовой произошла у Пушкина острая размолвка и затем примирение, перешедшее в дружбу. Неправильно осведомленный о насмешливом будто бы отзыве Колосовой относительно его внешности, Пушкин отомстил неповинной артистке злой эпиграммой, направленной также против ее наружности («Все пленяет нас в Эсфири...»). Когда недоразумение разъяснилось, Пушкин искренне покаялся в своей резкости. В 1822 г. Катенин сообщал по этому поводу Колосовой: «Саша Пушкин пишет ко мне из Кишинева и на счет ваш дает мне тысячу поручений, винится, просит прощения и расхваливает на чем свет стоит».
Перед тем Пушкин послал Катенину стихотворный дифирамб Колосовой:
Кто мне пришлет ее портрет,
Черты волшебницы прекрасной?
Талантов обожатель страстной,
Я прежде был ее поэт.
С досады, может быть, неправой,
Когда одна в дыму кадил
Красавица блистала славой,
Я свистом гимны заглушил.
Погибни злобы миг единой,
Погибни лиры ложный звук:
Она виновна, милый друг,
Пред Мельпоменой1 и Моиной.
________________________
1В окончательной редакции 1829 г. стоит: «Пред Селименой и Моиной». Но в роли Селимены («Мизантроп») Колосова выступила только в ноябре 1823 г. В рукописи и даже в издании 1826 г. еще значится «Мельпомена».
357
Так легкомысленной душой,
О боги, смертный вас поносит;
Но вскоре трепетной рукой
Вам жертвы новые приносит.
Все это подготовило личное примирение, которое и состоялось по возвращении Пушкина в Петербург. «В тот вечер, — вспоминала через полстолетия престарелая артистка, — играли комедию Мариво «Обман в пользу любви» в переводе П. А. Катенина. Он привел ко мне в уборную «кающегося грешника», как называл себя Пушкин. «Размалеванные брови»... — напомнила я ему, смеясь. «Полноте, бога ради, — перебил он меня, конфузясь и целуя мою руку, — кто старое помянет, тому глаз вон. Позвольте мне взять с вас честное слово, что вы никогда не будете вспоминать о моей глупости, о моем мальчишестве?..» — Слово было дано: мы вполне примирились».
Такова одна из мимолетных сценок пушкинской театральной жизни. Знаменитая комедийная актриса в костюме и гриме XVIII века, между двумя кружевными актами Мариво, заключает мир с прежним беспечным эпиграмматистом, уже создавшим величайшую русскую трагедию.
* * *
Так среди актеров, драматургов, дилетантов сцены, поэтов и театралов, тесно переплетаясь с этой пестрой, красочной, ярко мерцающей и вечно изменчивой жизнью кулис, протекала бурная пора юности Пушкина. Он жадно впитывал в себя эти разнообразные впечатления, идущие от рампы и кресел и незаметно образующие его вкусы, эстетические воззрения, творческие замыслы.
Обширная художественная школа разворачивалась перед ним в переполненном зрительном зале. Он любил эти праздничные, возбужденные, насыщенные искусством часы, полные видений, фантазии, смеха, пафоса и стихов. С какой радостной тревогой он вступал в этот заколдованный круг! Зал уже освещен мягким светом люстры, — но рампа еще погружена в сумрак. Тонкие знатоки сцены ведут увлекательные диспуты о романтической и классической трагедии: цитируются вдохновенные и строгие стихи; сталкиваются в борьбе ученых доводов волнующие имена Шекспира и Расина; крепостные оркестранты театральной дирекции настраивают
358
свои инструменты для увертюры; партер начинает гудеть и раек нетерпеливо плескать; вдоль рампы с медленной постепенностью зажигаются огни. Толпа в напряженном ожидании, томясь по звукам и жестам, затихает.
И, взвившись, занавес шумит...
Вглядимся же в тот магический мир, который мгновенно обнажает перед нами взвившееся полотно мастера Гонзаго, раскрывая во всем его изменчивом и забавном разнообразии это волшебное царство полетов и превращений, куплетов и плясок, торжественных монологов и величественных поз.
Глава третья
РАСЦВЕТ ТРАГЕДИИ
Говоря о русской трагедии,
говоришь о Семеновой —
и, может быть, только о ней.
Пушкин. Мои замечания
о русском театре
I
Как яркая творческая личность, Семенова заслужила от своих современников немало характерных и почетных наименований. Катенин называл ее «Катериной Медичи» или «Королевой-матерью», Шаховской — «Адриенной Лекуврер», театралы из «Зеленой лампы» — «Клитемнестрой», критики «счастливой соперницей девицы Жорж» или «знаменитой Амазонкой на поприще Мельпоменином». Один московский театрал окрестил артистку «Российской Жоржиной», а безнадежно влюбленный в нее Гнедич сравнивал ее с величайшими светилами французской сцены:
Иди — и славой будь в трудах оживлена,
Клерон и Лекуврер венчавшей имена.
Но самым почетным, глубоким и верным было то имя, которое одинаково утвердилось за Семеновой в зрительном зале, за кулисами, в кружке театралов и в хвалебных посвящениях. Ее называли просто — Трагедия.
359
Артистка заслужила эту гордую артистическую фамилию. И, кажется, действительно, художественное призвание редко выражается с такой полнотой, законченностью и энергией, как в первой трагической актрисе русской сцены. Она поистине принадлежала к расе «grandes tragediennes» 1 и воплощала труднейший сценический жанр с такой победоносной выразительностью, какой не знала уже впоследствии история нашего театра.
Пушкин оставил превосходную оценку знаменитой артистки:
«...Одаренная талантом, красотою, чувством живым и верным, она образовалась сама собою. Семенова никогда не имела подлинника. Бездушная французская актриса Жорж и вечно восторженный поэт Гнедич могли только ей намекнуть о тайнах искусства, которое поняла она откровением души. Игра всегда свободная, всегда ясная, благородство одушевленных движений, орган чистый, ровный, приятный, и часто порывы истинного вдохновения, все сие принадлежит ей и ни от кого не заимствовано. Она украсила несовершенные творения нещастного Озерова и сотворила роль Антигоны и Моины; она одушевила измеренные строки Лобанова; в ее устах понравились нам славянские стихи Катенина, полные силы и огня, но отверженные вкусом и гармонией. В пестрых переводах, составленных общими силами и которые, по несчастию, стали нынче слишком обыкновенны, слышали мы одну Семенову, и гений актрисы удержал на сцене все сии плачевные произведения союзных поэтов, от которых каждый отец отрекается поодиночке. Семенова не имеет соперницы. Пристрастные толки и минутные жертвы, принесенные новости, прекратились; она осталась единодержавною царицею трагической сцены».
Высоко ценя это редкое дарование, Пушкин специально для Семеновой написал свои меткие и яркие «Замечания о русском театре». Он навсегда сохранил к ней чувство почтительного восхищения. Когда в начале 20-х годов до Пушкина дошел слух о смерти Семеновой — оказавшийся ложным,— Пушкин набросал в своей записной книжке начало стихотворения:
__________________________
1 великих трагических актрис (фр.).
360
Ужель умолк волшебный глас
Семеновой, сей чудной музы,
И славы русской луч угас?..
Гораздо позже, когда Семенова сошла со сцены и в качестве княгини Гагариной проживала в Москве, поэт поднес ей экземпляр «Бориса Годунова» с надписью на обертке: «княгине Екатерине Семеновне Гагариной от Пушкина, Семеновой — от сочинителя».
В 1830 году в своей статье «О драме» он с грустью озирает русскую трагическую сцену, «опустелую после Семеновой»...
Чем же заслужила знаменитая артистка эти почетные посвящения, восхищенные отзывы, легендарные прозвища? Каков был ее сценический облик, ее творческая манера, общий стиль ее незабываемой игры?
II
Дочь крепостной крестьянки и учителя Кадетского корпуса, Семенова была отдана подростком в театральное училище и уже семнадцати лет дебютировала на сцене. Ее призвание было сразу признано и дальнейшая деятельность обеспечена.
Внешность Семеновой замечательно соответствовала ее сценическому амплуа. Величественность, строгость, классичность черт, пластичность поз — все это как нельзя лучше отвечало образам ее репертуара. Сохранившиеся портреты, видимо, далеко не передают торжественной прелести ее облика, поражавшего современников. В те времена, когда умели особенно ценить женскую красоту и предъявлять к ней строгие требования, Семенова единодушно восхищала знатоков своей безукоризненной наружностью. Батюшков писал о ней:
Я видел и познал небесные черты
Богини красоты...
И это не было преувеличением поэтического дифирамба. «Величественная и грациозная красавица, с античными формами, с голосом гармоническим, прямо идущим в душу, с выразительною физиономиею» — так изображает ее старинный хроникер.
«Семенова прелестна: совершенный тип древней греческой красоты; при дневном свете она еще лучше, чем при лампах», — записывает Жихарев.
361
«Красавица Семенова, — отмечает он в другом месте, — драгоценная жемчужина нашего театра, имеет все, чтоб сделаться одной из величайших актрис своего времени»...
Лучший портрет ее оставил нам П. А. Каратыгин, свидетель полного расцвета ее славы: «Природа наделила ее редкими сценическими средствами: строгий, благородный профиль ее красивого лица напоминал древние камеи; прямой пропорциональный нос с небольшим горбом, каштановые волосы, темно-голубые, даже синеватые глаза, окаймленные длинными ресницами, умеренный рот, — все вместе обаятельно действовало на каждого, при первом взгляде на нее. Контральтовый, гармоничный тембр ее голоса был необыкновенно симпатичен и в сильных патетических сценах глубоко проникал в душу зрителя. В греческих и римских костюмах она бы могла служить скульптору великолепной моделью для воспроизведения личностей: Агриппины, Лукреции или Клитемнестры»...
При такой внешности Семенова, видимо, умела идеально носить костюм; она и в жизни одевалась с изысканной роскошью. Жихарев описывает ее на репетиции окутанную в белую турецкую шаль: «на шее жемчуги», на пальцах брильянтовые кольца и перстни. В роли Ксении в «Дмитрии Донском» Озерова ее голос, осанка, поступь и русское боярское одеяние, с наброшенным на плечи покрывалом, — все это было истинное очарование»...
Игра Семеновой являла редкое сочетание вдохновения и дисциплины. Она осуществляла трудный синтез строгой школы и бурного артистического темперамента; обдуманность отделки, шлифовка и выучка никогда не угашали в ней элементов внутреннего подъема, порыва и даже импровизации. У нее, пишет Зотов, «все делалось каким-то художническим инстинктом, каким-то вдохновением. Выходки были нечаянны, поразительны, всегда верны».
Современники высоко ценили этот стихийный трагизм. «Она особенно отличается в изображении бурных порывов души, — сообщает театральный альманах Булгарина, — гнева, мести, ревности, ненависти, отчаяния — в ролях Медеи, Клитемнестры и тому подобных». «Проникнутая ролью, она забывалась на сцене, — рассказывает тот же Булгарин, — и это случалось с нею довольно часто, всегда почти, когда ей надлежало
362
выражать сильное чувство матери или оскорбленную любовь. Тогда она была уже не актриса — но настоящая мать или оскорбленная жена. В выражении лица, в голосе, в жестах она не следовала тогда никаким правилам искусства; но, увлекаясь душевными движениями, воспламенялась страстью, была точно то самое лицо в натуре, которое представляла»...
Отдельные моменты ее исполнения оставались незабываемыми театральными переживаниями зрителей. В «Танкреде» Вольтера, специально переведенном для нее Гнедичем в целях состязания с М-elle Жорж, «г-жа Семенова совершенно растрогала сердца зрителей... Необыкновенно эффектной была сцена, когда Аменаида бросается к трупу умершего Танкреда, как бы желая его разбудить, и затем, отступая с ужасом», с тяжким шепотом произносит: «Он мертв!» Сцена эта производила потрясающее впечатление. Во время московских гастролей Семеновой этот момент вызвал всеобщий благоговейный трепет: «все зрители были в ужасе и невольно приподнялись с своих мест».
Жихарев был глубоко умилен исполнением Семеновой роли озеровской Ксении. «Она с таким чувством и с такой естественностью проговорила:
Оживаю
И слезы радости я первы проливаю... —
что расцеловал бы ее, голубушку», — восхищенно записывает он в своем дневнике.
Это — обычное впечатление современников. «Не знаю почему, но одно место в трагедии «Медея», — вспоминал Каратыгин, — так сильно на меня подействовало, так глубоко врезалось в моей памяти, что даже по прошествии более пятидесяти лет я как теперь ее вижу, слышу звук ея обаятельного голоса: это было именно последнее явление в 5-м акте, когда Медея, зарезав своих детей, является в исступлении к Язону: в правой руке она держит окровавленный кинжал, а левой — указывает на него, вперив свирепые глаза в изменника, и говорит ему:
Взгляни... вот кровь моя и кровь твоя дымится»...
Только первоклассные мастера сцены оставляют в памяти зрителей такие незабываемые воспоминания об отдельном жесте или мимолетной интонации.
363
III
Эта вдохновенная, увлекающая и порывистая игра постоянно вырабатывалась в строгой школе. Огромной заслугой Семеновой был неутомимый труд, стремление достигнуть высших образцов, уловить новые течения в драме, усвоить последние приемы европейской сцены. Пройдя через школу знаменитого Дмитриевского, Шаховского, отчасти Плавильщикова, — Семенова не переставала искать новых руководителей и образцов. Несмотря на замечание Пушкина — быть может, намеренно лестное для Семеновой, — игра знаменитой Жорж произвела полный переворот в ее сценической манере. Наконец, строгий эллинист и классик Гнедич был ее последним наставником. «Неистовая декламация» знаменитого переводчика Гомера оказала решительное влияние на Семенову.
«Гнедич всегда пел стихи, — рассказывает Жихарев, — потому что, переводя Гомера, он приучил слух свой к стопосложению греческого гекзаметра, чрезвычайно певучему, а сверх того, это пение как нельзя более согласовалось со свойствами его голоса и произношения, и потому, услыхав актрису Жорж, он вообразил, что разгадал тайну настоящей декламации театральной, признал ее необходимым условием успеха на сцене и захотел в этом же направлении «образовать Семенову».
Он обучал знаменитую артистку планомерно, систематически, детально. Список ее роли превращался под рукою Гнедича в сложную партитуру с особыми значками, подчеркиваниями, ремарками и проч. Жихарев видел тетрадку с ролями Семеновой, по которым прошелся карандаш Гнедича; он заметил в них «подчеркнутые и надчеркнутые слова, смотря по тому, где должно было возвышать и понижать голос, а между слов в скобках были замечания, например: с восторгом, презрением, нежно, с исступлением, ударив себя в грудь, подняв руку, опустив глаза и проч.».
Знаменитый «прелагатель слепого Гомера» гордился своим руководительством Семеновой. Он оставил на этот счет знаменательное стихотворение под характерным для той эпохи заглавием: «Графу Хвостову, который, восхищаясь игрою трагической актрисы Семеновой,
364
говорил мне, что сам Аполлон учит ее». Стихотворение заканчивается уверением, что, если Феб
Шепнул вам, будто он
Семеновой учитель,
Не верьте, граф, ему; спросите у нее.
Автор не сомневался, что ученица Дмитриевского и Шаховского укажет на него как на своего главного наставника.
Мы видим, что Семенова прошла обширную и трудную школу. Все это отразилось на окончательной форме ее игры и выработало сложный, богатый и волнующий сценический образ. Тонкие и строгие критики различавши в ее исполнении это сочетание школ, объединенных замечательным дарованием артистки. Аксаков рассказывает, как он вместе с известным артистом Шушериным смотрел Семенову в «Танкреде»: «Превозносимая игра Семеновой в этой роли представляла чудную смесь, которую мог открыть только опытный и зоркий глаз такого артиста, каким был Шушерин. Игра эта слагалась из трех элементов: первый состоял из не забытых еще вполне приемов, манеры и формы выражения всего того, что играла Семенова до появления М-elle Жорж; во втором — слышалось неловкое ей подражание в напеве и быстрых переходах от оглушительного крика в шепот и скороговорку. Шушерину при мне сказывали, что Семенова, очарованная игрою Жорж, и день и ночь упражнялась в подражании, или, лучше сказать, в передразнивании ее эффектной декламации; третьим элементом, слышным более других, — было чтение самого Гнедича, певучее, трескучее, крикливое, но страстное и, конечно, всегда согласное со смыслом произносимых стихов, чего, однако, не всегда мог добиться от своей ученицы. Вся эта амальгама, озаренная поразительною сценическою красотою молодой актрисы, проникнутая внутренним огнем и чувством, передаваемая в сладких и гремящих звуках неподражаемого, очаровательного голоса, производила увлечение, восторг и вызывала гром рукоплесканий»...
Мы не станем передавать здесь обстоятельств знаменитого и единственного в своем роде театрального состязания Семеновой с Жорж осенью 1811 г. в Москве, когда «обе молодые артистки, однолетки, отличавшиеся красотой и талантом и занимавшие одно и то же амплуа, исполняли поочередно одне и те же роли по преимуществу в трагедиях Расина и Вольтера —
365
«Андромаха», «Ифигения», «Федра», «Танкред» и «Меропа». «Г-жа Жорж исполняла, например, роль в известной пьесе на Арбатском театре во вторник, а в четверг на том же театре ту же самую роль играла Семенова».
Общество разделилось на две партии, и обе артистки имели свои несомненные триумфы. «В расиновской «Федре» и «Семирамиде» Вольтера первенствовала Жорж; в вольтеровских «Танкреде» и «Меропе» Семенова увлекала за собою обе партии». Большинство считало Семенову победительницей. «Жорж еще ни в одной роли не была так хороша, как Семенова в «Гамлете». «Г-жа Семенова в роли Аменаиды не сравнилась с M-elle Georges, но, смеем сказать, превзошла ее»... «Г-жа Семенова актриса прекраснейшая», — пишет «Журнал драматический», — она «оспаривает иногда и великое искусство девицы Жорж»...
Наконец, сама соперница с обычной пленительной вежливостью француженки сочла нужным заявить о превосходстве русской актрисы: «Я иногда деревеню мои чувства; но M-lle Semenov блистает всюду».
Во всяком случае, не может быть сомнения, что игра Жорж оказалась для нашей актрисы высшей школой сценического искусства, сообщившей исключительный блеск и законченность ее исполнению.
IV
Но, разрабатывая знаменитые образы французских классиков, Семенова создала и русский трагический репертуар. Время расцвета ее дарования и славы совпадает с краткой драматической деятельностью Озерова. Имена их естественно связывались в представлении современников.
Там Озеров невольно дани
Народных слез, рукоплесканий
С младой Семеновой делил.
Главные женские роли в трагедиях Озерова — Антигоны, Моины и Поликсены — были написаны специально для Семеновой. Они окончательно упрочили за ней звание первой русской актрисы. «Семенова блистала в пьесах Озерова, где ее дикция составляла истинную музыку при звучных стихах поэта». Здесь исполнительни-
366
ца Расина находила замечательный материал для своих сценических данных. Ее пленительный голос мог звучать трогательной жалобой в заунывно-печальных стихах: «О горестях своих вещает Поликсена»; он поднимался до величественного и плавного пафоса в патетических признаниях: «Он звал меня в свои торжественны шатры»; он достигал, наконец, пронзительного напряжения в трагических возгласах: «Каким окружена я зрелищем ужасным!» Можно представлять себе, с каким разнообразием интонаций, с какими модуляциями своего восхитительного голоса произносила Семенова такие монологи:
Еще я не зовусь супругою Фингала,
Еще союз не тверд. Уже я испытала,
Как верностью надежд нельзя ласкаться нам!
Когда веселая с Фингалом шла во храм,
Могла ль предвидеть я, что наш обряд венчальный
Пременится в обряд надгробный и печальный?
И зрители действительно бывали потрясены. Игра Семеновой вызывала совершенно исключительное восхищение. «Стоя на коленях надо было смотреть ее», — вспоминал Шушерин игру ее в школьных спектаклях. «Какой голос! Какое чувство! Какой огонь!»... «В «Танкреде» она так восхищала тогда Нелединского-Мелецкого, — рассказывает в своих воспоминаниях Полевой, что он написал экспромтом стихи, и их прочитали на сцене, при рукоплесканиях зрителей. Поэт воспользовался стихом:
Они предстанут здесь — страшись в том сомневаться! —
и обратил его в тему мадригала, уверяя, что все заступятся, если бы кто вздумал осуждать их божественную Аменаиду» 1.
Современная поэзия вообще изобиловала посвящениями, мадригалами, дифирамбами великой актрисе. Едва ли еще какая-либо русская исполнительница могла бы похвалиться таким обилием вдохновленных ею строф.
«Любимица бессмертной Мельпомены!» — восклицал
______________________
1Этот мадригал начинался строфой:
Не сомневайся в том — предстали бы толпою,
Семенова! защитники твои!
Когда бы критикой завистною и злою
Твои мрачилися талантом славны дни...
367
Гнедич в надписи к портрету Семеновой, исполненному Кипренским. Переделав для нее «Короля Леара», тот же Гнедич «при послании ей экземпляра трагедии» писал:
Прийми, Корделия, Леара своего,
Он твой; дары твои украсили его... 1
Гнедич был далеко не единственным поэтом, вдохновленным Семеновой. «О, дарование одно другим венчано!» — восклицал Батюшков, вспоминая в своих строфах Моину, «печальну Антигону», «Ксению стенящу». В альманахе «Аглая» автор одного дифирамба обращался к тени французского трагика:
В Семеновой твою я видел Ариану,
Корнель! и не познал различия меж них,
Отдавшись дивному прелестному обману...
Семенову по справедливости ставили в ряд с первыми европейскими знаменитостями. Ее соперница Каратыгина-Колосова сравнивала ее с Жорж, Рашелью и Ристори. «Если эти три великие актрисы превосходили Семенову простотой дикции, обдуманностью и отделкой своих ролей, то ни одна не обладала ее чувствительностью и мягким, симпатическим, в душу проникающим голосом».
Современный обозреватель мог писать о ней: «Сия первая русская трагическая актриса по необыкновенному своему дарованию почитается в числе первоклассных актрис образованной Европы» 2.
___________________________
1 По поводу этих стихов Аксаков передает комический эпизод. Одновременно с поднесением книги Семеновой Гнедич подарил экземпляр своего перевода и Шушерину, с собственноручною надписью этих же стихов и только с переменою слова «Семенова» на слова: «о Шушерин!» «Я увидел это и указал Шушерину, который немножко обиделся и при мне сказал шутя Гнедичу: «Какой вы эконом в стихах, любезный Николай Иванович! одни и те же стишки пригодились и мне, и Семеновой. Только ведь мы могли заспорить, чей Леар: ея или мой? Я желал бы знать, кому стихи написаны прежде? Вероятно, мне, потому что я постарше». Гнедич ужасно смутился; уверяя, что стихи написаны Шушерину, но что он их забыл и бессознательно повторял в стихах к Семеновой. После этого пустого случая он стал реже видаться с Шушериным»...
2 По свидетельству Вигеля, «созревший талант Семеновой изумлял и очаровывал даже тех, которые не понимали русского языка: до того черствые стихи Хвостова и других в устах ее делались мягки и приятны. Она заимствовала у Жорж поступь, голос и манеры, но так же, как Жуковский, можно сказать, творила, подражая».
368
V
Семенова оставила сцену в полном расцвете своих сил. Гордая натура артистки не могла допустить медленного угасания своих триумфов. Первые же признаки охлаждения к ней вызвали решительный и окончательный уход актрисы со сцены.
В 20-х годах ей пришлось пережить несколько разочарований. В архивах сохранился замечательный документ, очевидно вынужденно и не без борьбы полученный от Семеновой. Это лаконичный перечень ролей, «от которых г-жа Семенова б. отказывается и которые передаются г-же Колосовой младшей».
Название трагедий Персонажи
Эдип в Афинах................... Антигона
Эсфирь................................. Эсфирь
Фингал................................. Моина
Магомет............................... Пальмира
Поликсена........................... Поликсена
Отелло................................. Едельмона
Заира.................................... Заира
Смерть Роллы..................... Кора
Гамлет.................................. Офелия
(подпись) Катерина Семенова
Это подлинный акт «отречения от престола». Лучшие роли трагического репертуара знаменитая артистка должна была передать своей юной сопернице.
Вскоре произошел новый эпизод. В 1825 году Семенова объявила режиссерам, что она «иначе впредь играть не согласна, как с тем условием, чтоб в анонсах и в день представления была она выставляема в красной строке». С таким же заявлением артистка обратилась к Милорадовичу и Майкову. Получив отказ, она пишет пространную записку в дирекцию, в которой изливает свою жалобу обиженной знаменитости. В ней, между прочим, она сообщает: «Объяснив (Милорадовичу), сколь трудно было мне заслужить отличие, коего я удостоилась, просила его, как покровителя искусств, принять в рассуждение цель трудов всякого артиста и трудность приобретаемой им славы; обратить внимание на то, что сия слава и мнение публики есть главное его сокровище; и не лишать меня того, что я заслужила; не понижать меня в глазах всей публики с той степени, на
369
которую много лет восходила я непрестанным трудом и на которой публика видеть меня уже привыкла. Его сиятельство изволил отвечать мне, в самых лестных выражениях, кои я поставляю себе за особенную честь: «что я имею право на все отличия и на все награды; что вся публика и начальство отдает мне, во всяком случае, полную справедливость, а дирекция пользуется и выгодами»; — однако ж просьба моя осталась неудовлетворенной. — Я желала после сего покориться воле начальства; но чувствовала, что, с упадком духа, упадает и игра моя: что при появлении на сцену, вместо того, чтоб вполне предаваться роли моей, буду я смущаться мыслию моего упадка в глазах публики, которая увидит, что я при театре лишилась прежних моих преимуществ».
На новые представления последовал ответ Милорадовича с намеком на неповиновение «высочайшей воле». Семенова покорилась, но не смирилась. Свое заявление она заканчивает замаскированным вызовом... «После такого решения, сколь ни убита мыслию, что потеряла прежнее отличие в глазах публики, употреблю, однако ж, все способы продолжать игру мою, постараюсь заглушить свойственное артисту честолюбие, буду превозмогать себя до тех пор, пока на деле увижу, что унижение лишает актера возможности играть с прежним успехом и что если сила ролей его не согласуется с силами душевного расположения, то он лучше сделает, ежели их оставит» (10 сентября 1825 г.).
Новый инцидент ускорил развязку. Семенова отказалась играть роль Андромахи в пьесе своего старинного недруга Катенина. Дирекция попыталась осторожно уладить эпизод. Тем не менее, 6 октября 1826 г. Семенова подала заявление, что, пользуясь своим правом «отказаться от службы дирекции, известя о том за два месяца вперед», она отказывается от дальнейшей службы. Последовали запросы, попытки удержать от окончательного разрыва, но Катерина Медичи осталась непреклонной.
Семенова до конца гордо несла свое отверженное звание актрисы и с чутьем подлинной художественной натуры ставила его выше всех сиятельных титулов и великосветских званий. Когда Жихарев в тоне обычной банальной лести театралов обратился к ней с восторженным отзывом об ее игре в Антигоне, артистка взглянула
370
на него так презрительно и надменно, что у юного театрала отнялся язык.
Уже сойдя со сцены, однажды в Москве, участвуя в любительских спектаклях у Апраксина, Семенова столкнулась с директором московских театров Кокошкиным. На одной репетиции сановный театрал увлекся своими режиссерскими обязанностями и «стал объяснять знаменитой жрице Мельпомены экспозицию последней сцены и даже оспаривать ее мнение».
Артистка, отступив назад, с сдержанным возмущением возразила: «Я уважаю ваше знание театра, но примите вы то в соображение, что вы учите на этих досках не княгиню Гагарину, а Семенову»...
Таков был великолепный жест протеста неумирающей «Клитемнестры».
VI
Постоянным партнером Семеновой в интересующее нас трехлетие был Яков Григорьевич Брянский. Он заполнил промежуток между двумя великими трагиками русской сцены — Яковлевым, скончавшимся 3 ноября 1817 г., и Каратыгиным, дебютировавшим 3 мая 1820 года.
Пушкин еще застал на сцене «русского Тальму» или «российского Лекена», — как его называли современники, — «дикого, но пламенного Яковлева», как пишет в своих «Замечаниях» поэт; он восхищался его величественной осанкой, но осуждал неровности его игры: «Яковлев имел часто восхитительные порывы гения, — иногда порывы лубочного Тальма». Поэт намекает, очевидно, на те приемы «громыхания» и «рыкания», которые знаменитому трагику приходилось пускать в ход для удовлетворения массового зрителя, требовавшего воплей, возгласов и неистовых криков.
Театральная эстетика зрительного зала вырабатывала в то время своеобразные законы: «Тон обыкновенного разговора неприличен для трагедии в стихах», — отмечал под влиянием общего мнения современный рецензент.
И, тем не менее, Яковлеву удавалось подниматься над этой условной поэтикой старого партера. Ценители и знатоки восхищались артистом: «Кажется, природа наделила его, — пишет о Яковлеве Жихарев, — всеми
371
возможными дарами, чтобы занимать первое место на трагической сцене. Какая мужественная красота, какая величавость и какой орган!» «Яковлев был прекрасный мужчина, — описывает Булгарин, — довольно высокого роста, стройный. Черты лица его имели правильный очерк, и с первого взгляда он походил на Тальму. Движения его и позы, когда он не слишком горячился, были благородны и величественны; взор пламенный и игра физиономии одушевленная. В римской тоге, в греческом костюме или в латах он был в полном смысле — загляденье. Но лучше всего в нем был звук голоса, громкий, звонкий, как говорится — серебристый, настоящий грудной голос, исходивший из сердца и проникавший в сердце... Главный его недостаток состоял в том, что, зная вкус большинства зрителей, он жертвовал ему изящной стороной искусства... для возбуждения рукоплесканий... Но в трагедиях Озерова... он играл нежно, с надлежащим приличием и глубоким чувством. В Эдипе, Фингале, Дмитрии Донском он был превосходен». Лицейский приятель Пушкина Илличевский встретил смерть Яковлева торжественной эпитафией, горестно оплакавшей «российского Лекена»:
Разил он ужасом и жалостью сердца.
Восхищение современников выразилось и в надписи Б. М. Федорова к портрету трагика: «Завистников имел — соперников не знал».
Осенью 1817 г., со смертью Яковлева, амплуа его заменил Брянский. В течение трех лет он считался первым трагиком. Имя его постоянно сочетается в списках исполнителей с именами Семеновой и Валберховой.
Вот одна из типичных афиш того времени. «29 октября 1817 года была поставлена трагедия «Горации» в 4-х действиях в стихах Петра Корнеля, переведенная с французского Чепяговым, Жандром, Шаховским и Катениным:
Публий Горацй.......................... Толченов
Камила........................................ Семенова большая
Марк Гораций............................ Брянский
Сабина......................................... Валберхова
Куриаций.................................... Щенников
Юлия........................................... Брянская
Валерий....................................... Сосницкий
Елагин......................................... Иконин
372
«Яковлев умер, — пишет Пушкин, — Брянский заступил его, но не заменил его. Брянский, может быть, благопристойнее вообще, имеет более благородства на сцене, более уважения к публике, тверже знает свои роли, не останавливает представлений внезапными своими болезнями, но зато какая холодность! какой однообразный тяжелый напев»...
Отзыв Пушкина, по-видимому, с большой верностью определяет основные черты Брянского.
«Для комедии недоставало ему веселости, так же как небесного огня для драмы», — пишет о нем Вольф. Он был чрезвычайно холоден, неизменно свидетельствуют современные зрители, требуя от трагического актера прежде всего огня и порыва.
Но, при этом недостатке темперамента, Брянский отличался рядом несомненных достоинств. Приятная внешность, прекрасный, звучный и сильный голос, отчетливая и чистая дикция. Дар отделанной и выразительной декламации был ему в высокой степени свойствен. В основу своего исполнения он полагал обширный и кропотливый труд изучения сценического образа, тщательной и тонкой отделки его. Противник традиционных трагических штампов, он не признавал выспренних возгласов или дутого пафоса. Он исключал из своей сценической системы резкие телодвижения и размашистые жесты. Он считал, что сильное чувство должно выражаться в тонком умении разнообразить голосовые интонации, утончать приемы мимической игры.
Брянский одним из первых отступил от традиционного напева классической читки во имя большей жизненности и простоты тона. Публика, воспитанная на иных приемах, не могла привыкнуть к сдержанности его исполнения. Но многие знатоки — и в том числе его учитель Шаховской — высоко ценили благородство его тона и общую грацию его сценической манеры. Впоследствии он был признан и оценен, как один из столпов эпохи театрального расцвета, и Белинский, видавший Брянского уже в зрелую пору, называет его «одной из ярких звезд классического созвездия». Отметим, что в 1832 г. Брянский исполнял роль Сальери в пушкинской драме.
В интересующую нас театральную эпоху Пушкина Брянский нес на себе первое амплуа в трагедии. Он был неизменным партнером Семеновой. Пушкин должен был видеть его в репертуаре Озерова, Корнеля, Расина, Шекспира. В некоторых ролях Брянский продолжал традиции
373
Яковлева. Так, по свидетельству современной критики, роль Отелло он исполнял в духе своего знаменитого предшественника.
Любопытно отметить, что такая преемственность не составляла в то время исключения: сценические предания переходили от одного поколения к другому и установившийся театральный образ нередко переживал своего исполнителя.
VI
К значительным событиям занимающего нас театрального периода относятся дебюты А. М. Колосовой-младшей, впоследствии Каратыгиной. Позднее, в двадцатых годах, по указаниям знаменитой М-elle Марс, она утвердилась на амплуа главных ролей в высокой комедии, но в первые годы своего пребывания на сцене выступала преимущественно в трагедии и даже прочилась многими в преемницы Семеновой. Верный поклонник великой «Клитемнестры», Пушкин отнесся вначале неприязненно к ее молодой сопернице. К этому, по-видимому, присоединились какие-то светские пересуды (слухи о насмешке Колосовой над внешностью Пушкина). Это отразилось на известной эпиграмме («Все пленяет нас в Эсфири...») и, вероятно, на прозаическом отзыве в «Рассуждениях о русском театре».
Но, при всей предвзятости этой оценки, в ней чувствуется все же некоторая плененность автора очарованием молодой артистки, с которой впоследствии он окончательно примирился, всемерно признавая ее крупное дарование. Восхищением дышит известное послание 1821 года «Кто мне пришлет ее портрет» и небольшой рукописный набросок, найденный в черновиках Пушкина:
Амур тебя обрел, сам Феб тебя готовил
На славу нашей сцены;
Ее надеждой будешь ты...
Моина нашей сцены,
......................................................................
Когда явилась ты пред нами в первый раз
На пышных играх Мельпомены,
У тихих алтарей любви...
Брюсов отнес это стихотворение к Е. С. Семеновой без всяких оговорок на том основании, что «Пушкин был
374
страстный поклонник Семеновой» и «Моина» — ее роль». Между тем эти отрывки (1818—1819 гг.) никоим образом не могут относиться к этой актрисе. Они написаны в 1818—1819 гг., когда Семенова была в зените своей славы; и определение «надежда нашей сцены» менее всего подходило к артистке, которая уже в течение 16—17 лет с шумным успехом подвизалась на подмостках (через 5—6 лет она совсем оставила театр). Пушкин никак не мог отнести к Семеновой такие личные строки, как «когда явилась ты пред нами в первый раз», ибо в момент дебюта Семеновой ему еще не было трех лет (Семенова дебютировала 3 февраля 1802 г.). Между тем дебют 17-летней Колосовой был ему знаком непосредственно. Приведенные стихи совпадают с аналогичным описанием первого выступления Колосовой в «Заметках о русском театре».
«В скромной одежде Антигоны при плесках полного Театра, молодая милая, робкая Колосова явилась недавно на поприще Мельпомены, 17 лет, прекрасные глаза, прекрасные зубы (следовательно, чистая приятная улыбка), нежный недостаток в выговоре обворожили судей трагических талантов. Приговор почти единогласный назвал Сашеньку Колосову надежной наследницей Семеновой. Во все продолжение игры ее рукоплескания не прерывались. По окончании трагедии она была вызвана криками исступления, и когда Г-жа Колосова-большая, filiae pulchrae mater pulchrior1, в русской одежде, блистая материнскою гордостью, вышла в последующем балете, все загремело, все закричало. Счастливая мать плакала и молча благодарила упоенную толпу. Пример единственный в истории нашего Театра».
К этому следует прибавить, что «Моиной» Пушкин называет именно Колосову в стихотворении «Кто мне пришлет ее портрет». К 17-летней начинающей артистке вполне уместно было приложить название «надежда нашей сцены», «надежда Парнасса»... и проч. Мы думаем поэтому, что приведенные выше стихотворные отрывки следует отнести к Колосовой (как это и предлагал в свое время Морозов). Они дают объяснение и следующим стихам из послания к Катенину (1821).
«Талантов обожатель страстный,
Я прежде был ее поэт»...
_________________
1красивой дочери красивейшая мать (лат.).
375
Но восхищение молотой дебютанткой по каким-то причинам быстро сменилось разочарованием. Зимой или ранней весной 1819 г. была написана эпиграмма «Все пленяет нас в Эсфири» и «Замечания о русском театре», в которых Пушкин после восторженной оценки делает весьма суровые оговорки:
«...Чем же все кончилось? Восторг к ее таланту и красоте мало-помалу охолодел, похвалы стали умереннее, рукоплескания утихли; перестали ее сравнивать с несравненною Семеновой; вскоре стала она являться перед опустелым театром. — Наконец в ее бенефис, когда она играла роль Заиры, — все заснули и проснулись только тогда, когда христианка Заира, умерщвленная в пятом действии трагедии, показалась в конце довольно скучного водевиля в малиновом сарафане в золотой повязке и пошла плясать по-русски с большою приятностью на голос: «Во саду ли в огороде».
В дальнейшем Пушкин рекомендует молодой актрисе прежде всего «исправить свой однообразный напев, резкие вскрикивания и парижский выговор буквы Р, очень приятный в комнате, но неприличный на трагической сцене»...
Из этого отзыва можно заключить, что Пушкин присутствовал на всех четырех спектаклях, создавших первую славу Колосовой. Реальным комментарием к его рецензии может служить справка из воспоминаний Каратыгиной.
«Первый мой дебют в роли Антигоны происходил 16 декабря 1818 года; второй — Моина (в трагедии Фингал) 30 декабря; третий — Эсфирь Расина, 3 января 1819 года... Первый мой бенефис (состоял) из трагедии Заира Вольтера и дивертисмента, в котором я плясала по-русски с моей матушкой»... 1
Но стать преемницей Семеновой, — как и предсказывал Пушкин, — Колосовой не удалось. Уже в первую эпоху ее деятельности, когда трагическое амплуа «мо-
____________________________
1 Об этом спектакле находим подробности у Арапова: «8 декабря первый бенефис А. М. Колосовой. Давали сначала трагедию Заира, в которой Оросмана играл Брянский, Лузиньяна — Борецкий, Заиру — Колосова, Нерестана — Булатов, Шатильона — Толченов, Фатиму — Яблочкина. После трагедии шли Мнимые разбойники, или Суматоха в трактире, опера-водевиль в 1 действ., перев. с франц. Я. Н. Толстым, с дивертисментом, муз. Сапиенца. Обе Колосовы, мать и дочь, плясали в заключение русскую пляску. Между пиэсами Фильд играл фантазию на фортепьяно».
376
лодых принцесс» считалось ее главным поприщем, она начала выступать в классических комедийных ролях. К этой полосе ее ранних исполнений мы еще вернемся.
VII
Со времен Анненкова исследователи, основываясь на свидетельстве самого Пушкина, указывают обыкновенно, что поэт собрал вокруг «Бориса Годунова» свои мысли о драматическом искусстве, рожденные чтением и собственными размышлениями. При этом неизменно опускается тот огромный опыт в трагическом искусстве, какой вынес Пушкин из своего петербургского театрального трехлетия.
В известном письме к Раевскому о сущности трагедии Пушкин непосредственно ссылается на факты зрительного зала. Свою эстетику условной драмы, свободной от законов правдоподобия, он основывает на органических свойствах театра: «Какое, к черту, правдоподобие возможно в зале, разделенном на две половины, из которых одна занята двумя тысячами человек, подразумеваемых невидимыми для находящихся на сцене»... Вот почему «истинные гении трагедии никогда не хлопотали о другом правдоподобии, кроме правдоподобия характеров и положений. Посмотрите, как храбро Корнель распорядился с «Сидом»: а, вы желаете закона 24 часов? Извольте! И затем он наваливает происшествий на четыре месяца»...
Эта драматическая поэтика во многом, несомненно, питалась впечатлениями петербургских сезонов 1817—1820 годов. В то время Пушкин, быть может, наиболее углубленно переживал волнующие впечатления от трагедии. Сложные законы труднейшего драматического жанра раскрывались ему в живых воплощениях великих мастеров европейской драмы.
Во главе их находился автор «Сида», высоко ценимый Пушкиным. Он вспоминает в «Онегине»:
Корнеля гений величавый...
«Старый Корнель один остался представителем романтической трагедии, которую так славно вывел он на французскую сцену», — писал впоследствии поэт. Рядом с ним Расин —
377
Бессмертный подражатель,
Певец влюбленных женщин и царей, —
Расин, к которому Пушкин относился иногда критически и перед которым все же преклонялся за его великолепные стихи, «полные смысла, точности и гармонии» 1.
Робкие переделки Шекспира, классические драмы Вольтера и, наконец, Озерова, которого Пушкин не любил, но за которым признавал все же приверженность «к новейшему драматическому роду — так называемому романтическому» — вот трагический репертуар александровской эпохи, с жадным вниманием воспринятый молодым поэтом.
Эти петербургские спектакли уже вызывали в нем те художественные впечатления, которые значительно позже нашли свое окончательное выражение в его статье 1830 года о драме.
«Что развивается в трагедии? Какая цель ее? Человек и народ, — судьба человеческая, судьба народная. Вот почему Расин велик, несмотря на узкую форму своей трагедии. Вот почему Шекспир велик, несмотря на неравенство, небрежность, уродливость отделки».
Итак, «Горации», «Эсфирь», «Отелло», «Заира», «Фингал», «Эдип в Афинах», «Дмитрий Донской» — вот главные вехи трагического репертуара, занимавшего молодого Пушкина.
Эти шедевры драматической поэзии отливались у нас в сценических воплощениях высокого совершенства. Безупречное искусство Семеновой в образах Медеи, Клитемнестры, Меропы, Дездемоны, Камиллы или Ксении не переставало чаровать поэта. Оно служило ему для основания драматургических законов несравненно более мощным стимулом, чем трактаты и лекции Шле-
_____________________
1 Ф. Д. Батюшков указал на связь пушкинского «Бориса Годунова» с «Гофолией» Расина, «у которого Иудейская царица переживает аналогический душевный кризис: временно восторжествовав на престоле, она замечает, что не утвердилась на нем. Возможность заговора ее тревожит, и укоры совести напоминают ей, так же как и Борису, о царевиче, законном наследнике престола, которого она приказала умертвить. Далее, в трагедии Расина, как и в драме Пушкина, важным действующим лицом пьесы являются не только царь или царица, а народ; темою — служит вопрос об отношениях народа и правителя, характеристика придворных, вопрос престолонаследия и даже шире — вообще значение верховной власти».
378
геля. Классические создания мировой трагедии, воспринятые в партере петербургского театра, оставили навсегда свой глубокий след в творческой памяти поэта и сквозь новые наслоения книжных впечатлений и теоретических раздумий продолжали воздействовать на его драматургическую поэтику и трагическое искусство.
Глава четвертая
БАЛЕТЫ ДИДЛО
Балеты г. Дидло исполнены
живости воображения и прелести
необыкновенной.
Примечания к «Евгению Онегину»
В начале прошлого века русские зрители были заворожены одним замечательным мастером сценических зрелищ. Редким сочетанием блистательной творческой фантазии, обширной литературной эрудиции, технической виртуозности и новаторской отваги ему удалось создать на петербургской сцене спектакли исключительного значения. Смелыми композициями, являвшими своеобразный синтез искусств в обновленных сценических формах, он зачаровал целое поколение театральных посетителей. Среди его поклонников, обессмертивших его творчество в классических строфах русской лирики, находились корифеи двух поэтических поколений — Державин и Пушкин. Даже скептический Грибоедов отразил в мимолетном посвящении свое явное восхищение этим новым видом драматического искусства, установленным на русской сцене художественной волей одного вдохновенного артиста-чужестранца.
Этот мастер спектакля, пленивший у нас огромные театральные массы и поразивший фантазию наших первых поэтов, был знаменитый европейский балетмейстер — Карл-Людовик Дидло.
I
«У нас был первый в мире хореограф, — писал в 1840 году один старый театрал, — у нас был Дидло, не шмеющий в своем ремесле ни предшественников, ни последователей. Дидло единственный, неподражаемый,
379
истинный поэт, Байрон балета... Мифологические балеты его сочинения — настоящие поэмы. Тут видели мы весь Олимп со всею роскошью греческого воображения, видели оживленными предания древних поэтов, просветивших род человеческий. Никто, кроме Дидло, не умел так искусно пользоваться кордебалетом. Из этой толпы милых воздушных девиц Дидло, как будто из цветов, составлял гирлянды, букеты, венки. Каждая сцена изображала новую восхитительную картину из групп, расположенных гениально, живописно, очаровательно. Не довольствуясь землею, Дидло вознес свои живые цветы на небеса и стал помещать группы в воздухе, в соответственность с земными группами. Он первый ввел в балеты так называемые полеты, т. е. воздушные сцены, и петербургскому театру стала подражать вся Европа. Среди этих живых картин Дидло помещал отдельные танцы первых сюжетов балетной труппы».
Таковы обычные отзывы современников о знаменитом балетмейстере. «Верховный жрец хореографического искусства», — восклицает его воспитанник Каратыгин 2-й. «Один из первых и отличнейших балетмейстеров в Европе», — определяет другой его ученик. «Великий хореограф» — называет свою мемуарную статью его последователь Глушковский, сравнивая своего учителя с Рафаэлем, Шекспиром и Моцартом. «Дидло был гениальный человек по своей части, — пишет Зотов, — он создавал все вокруг себя, и все было превосходно». Даже скупая на похвалы «Северная пчела» называет его «великим артистом», а современный театральный альманах преклоняется перед его «пиитическим дарованием в сочинении балетов». Эпитеты «гениальный», «всемогущий», «первый в мире» и т. д. неизбежно испещряют все отзывы мемуаристов и критиков об этом замечательном хореографе.
Там и Дидло венчался славой, —
санкционирует Пушкин в первой главе «Онегина» это единодушное восхищение современников.
Чему обязан Дидло этой славой, успехом и всеобщим восторженным признанием?
Прежде всего — обновлению и реформе старого балета. Как всякий крупный художник, он проявлял свой дар и вырабатывал свой стиль, ломая застоявшиеся формы своего искусства и открывая ему в смелых опы-
380
тах еще невидимые пути. Деятельность Дидло представляет крупнейший интерес в том общем кризисе балетного искусства, который захватил всю вторую половину XVIII века и в значительной мере завершился в опытах знаменитого петербургского балетмейстера.
Это был великий перелом в искусстве танца и пантомимы. Он отмечен громкими именами балетных деятелей — Новерра, Вестриса, Гарделя, Вигано, Дидло. В различных направлениях и по разным основаниям эти мастера и теоретики танца преобразуют оперу-балет Люлли, отменяют традиции старого королевского спектакля и обращают балетное искусство к началам античной драмы.
В эпоху Вольтера классический балет Людовика XIV застыл в шаблонах и явно терял свою эстетическую действенность. Его условные формы господствовали и у нас в придворных театрах XVIII века. В духе этой размеренной абстрактной традиции писал свои либретто Сумароков, стремясь по признанному рецепту создать подходящий материал для выражения всевозможных отвлеченностей мимикой и танцами. Таков был, напр., его балет «Прибежище добродетели», поставленный на придворном театре в 1759 г. Он может считаться весьма типичным образцом старого либретто, с его наивными хвалами «властителям», простоватой лестью и нелепым сюжетом. Сумароков верен традиции, когда в центр своей пьесы ставит «Добродетель в иносказательном виде», гонимую по всему свету, пока она не встречает «Минерву в образе Россиянки». Она вступает затем в великолепное здание на семи столбах, «означающих утверждение семи свободных наук в русском государстве. Радость и удивление объемлют сердца восторженных зрителей, которые с усердием и благодарностью торжествуют, что их жилище есть прибежище добродетели. Хор поет и танцует, вознося похвалами Елисавету».
Против таких нелепых, скучных и смешных выдумок и выступила плеяда реформаторов, заменившая эти пустые условности живыми формами полноправного искусства. Драматический интерес живого целого был противопоставлен холодным ухищрениям аллегорического жанра и приторным пасторалям старых композиторов. На смену условному балету, с наивными воплощениями добродетелей и пороков, наук и искусств, плеяда замечательных мастеров танца создает новые формы хореографических зрелищ — большие драмати-
381
ческие пантомимы на сюжеты трагедий, поэм и романов.
Первым теоретиком этой группы был прославленный «Шекспир танца» Жан Жорж Новерр.
В 1760 г. он издает в Лионе свои «Письма о танце и балетах». Их основная мысль: балет должен стать драмой. Не прибегая к слову, он может достигнуть этого мимикой, пантомимой, пластикой и танцами как средствами выражения страстей, аффектов, героических действий и поэзии. Связывая органически танцы с действием, балет может воскресить древнюю мимическую драму, стать «действенным танцем». Ему открыта вся область драматического искусства, но только при условии строгого соблюдения чистоты каждого жанра, не допускающего здесь никаких примесей и слияний.
Но господствовать в высоком искусстве танца должен трагический род, и лучшие источники для балетных композиторов — Эсхил, Еврипид или Расин. «Если великие страсти приличны трагедии, то не менее того нужны они и пантомимному роду, — писал Новерр в своих письмах о балете. — В картинах пляски требуются черты явственные, характеры сильные, массы смелые, различия и противоположности столь же разительные, как и искусно употребленные. Очень удивительно, что по сие время как будто совсем не знали, что свойственнейший для выражения пляски род есть род трагический». Балет достигнет своей цели, если исторгнет у зрителя слезы, — вот высший принцип поэтики Новерра.
«Хорошо составленный балет есть живая картина страстей, нравов, обычаев и костюмов всех народов земли; следовательно, он должен быть пантомимой во всех жанрах и через посредство зрения обращаться к душе»...
«Корнель в пантомиме!» — острили критики Новерра. Но эти насмешливые отзывы ему не были страшны. Дело его говорило само за себя, и его идеи победоносно завоевывали себе все европейские сцены. Его учение о балете как синтезе драмы, пантомимы и выразительных танцев прививалось повсеместно. В Петербурге его ученик Лепик, «Аполлон танцования», ставил его балеты «Адель де Понтье» и «Медею и Язона». Примечательно, что в 1803 году по повелению Александра в Петербурге было выпущено четырехтомное издание сочинений Новерра в пользу их престарелого автора.
382
Но петербургский балет в то время уже был в руках другого знаменитого реформатора сценического танца. Еще Павел I, незадолго до смерти, «повелел ангажировать» на императорскую сцену Карла Дидло. В сентябре 1801 года знаменитый балетмейстер уже был в Петербурге.
Началась коренная реформа русского балета.
II
Активный и неутомимый, как всякая творческая натура, Дидло являл в совершенстве тип мастера танца, художника хореографии, замечательного создателя и организатора сложнейшего театрального зрелища. Слово «балетмейстер» и отдаленно не передает той огромной творческой и научно-теоретической работы, которая была связана в то время с ролью руководителя балетного спектакля. Это был одновременно драматург, композитор, режиссер и художник. Он должен был совмещать в своем лице обширнейшие познания в истории, поэзии, мифологии, пластических искусствах, теории музыки; знать до тонкости культурно-бытовую обстановку различных эпох и современную театральную технику. Все это приходилось сочетать, комбинировать, совершенствовать, извлекая из этой безбрежной эрудиции чудеса неистощимой изобретательности. Стремление к своеобразному синтезу искусств предполагало неограниченную энциклопедичность познаний. И Дидло был не только художником-творцом, явившим блистательную практику своего искусства, но и теоретиком коллективного танца, выработавшим обширную поэтику своего трудного искусства. В основу его он полагал разнообразие подготовки и универсальность деятельности. Он, видимо, вполне разделял утверждение Новерра, что балетмейстер должен кроме вкуса иметь познания анатома, живописца, машиниста, декоратора, музыканта, поэта и реометра.
«Чтобы быть хорошим балетмейстером, — говорил Дидло, — надо употребить большую часть своего времени на чтение исторических книг, извлекать из них сюжеты для будущих созданий и прилагать всевозможное старание об успехах своих учеников. Балетмейстер Должен иметь также познания о нравах и обычаях разных народов и изучить их национальные наклонности и
383
костюмы; иметь дар поэтический, чтобы излагать приятно свои мысли в программах. Он должен знать живопись и механику, чтоб уметь составлять в балетах разного рода живописные группы и удобнее объясняться с декоратором и машинистом; а музыка для балетмейстера самая необходимая вещь, как для сочинения балетов, так и для пособия капельмейстеру»...
Но все эти заявления Дидло дают лишь отдаленное представление о его кипучей работе.
Он положительно творил неутомимо: «Дидло никогда не облегчал своего сценического труда постановкою чужих балетов», — говорит его ученик Глушковский. «Деятельность этого необыкновенного хореографа была изумительна, — свидетельствует Каратыгин. — Он буквально целые дни вплоть до ночи посвящал своим беспрерывным занятиям. Ежедневно, по окончании классов в училище, он сочинял пантомимы или танцы для нового балета; передавал свои идеи композиторам музыки и машинистам, составлял рисунки декорациям, костюмам и даже бутафорским вещам. Он был человек очень просвещенный, начитанный и художник, вполне преданный своему искусству».
Но полнее всего о художественном труде Дидло свидетельствуют дошедшие до нас его литературные фрагменты — программы его балетов и, особенно, предисловия к ним, в которых ставятся на обсуждение различные вопросы балетной эстетики.
В этом смысле, для характеристики художественных принципов и творческой работы Дидло, представляет интерес программа балета «Кора и Алонзо». Стремясь к разнообразию в сюжете, костюмах, нравах и национальных обычаях, Дидло остановился на эпизоде из истории последних перуанских царей. Балетмейстер сразу обнаруживает обширную эрудицию и критическое отношение к теме.
«Сперва колебался я между Пизарром и Кортесом; но, по невозможности представить на театре нашем кавалерийские маневры, я выбрал Кору, следовал повествованию Мармонтеля и выбрал для действия период войны между Гуаскаром и Аталибою». Дидло объясняет, что он увеличил количество персонажей в главном эпизоде. Считая, что нравы перуанцев «весьма тихи, просты и без живых красок», автор придал им бытовые черты диких Антисов, обожателей тигра. При создании главных ролей он имел в виду их исполнитель-
384
ниц — Истомину и Лихутину. Говоря о священном танце, сочиненном им для жриц солнца к празднеству дня Раими, Дидло отмечает, что «все обряды оного утверждены свидетельствами историков». Интересно рассуждение и о финале балета: «Одно волшебство может произвести чрезвычайную и неожиданную развязку, могущую удивить и поразить зрителей. В сем балете, — заключает Дидло, — требовались простота и величие, и, я думал, лучше всего кончить действие уничтожением варварского закона и просвещением целого народа идолослужителей. Если успех не будет соответствовать энтузиазму моего сердца, то да простит мне публика недостаточность действия за доброту идей» (цитируем по современному переводу, сохраняя все его особенности). Мы видим, что балетмейстер действительно совмещал в себе драматурга и режиссера, ученого и поэта. Размах его творческой работы и одновременное напряжение памяти, фантазии, научной пытливости и сценической изобретательности поистине поразительны. Погружаясь для своих либретто в ученые труды Мармонтеля, он ни на мгновение не упускал из виду индивидуальных качеств своих балерин и, организуя сюжет для эффектов массового зрелища, вдохновлялся замыслами возвышенной философской поэмы. Отсюда изумительное разнообразие положений, богатство образов и захватывающий драматизм его блестящих композиций.
III
Источники их обильны и разнообразны. От хвалебных нелепостей старого балета Дидло обратился к богатым сюжетным возможностям мифологии, поэзии, драмы, современной беллетристики.
Богатство и разнообразие фабулы, фантастичность образов, драматизм положений, логическое оправдание танцев сюжетными ситуациями, развитие пантомимы в качестве равноправного с плясками жанра — все это действительно выработало совершенно новую форму хореографического зрелища.
Старинный биограф Колосовой-старшей, блиставшей еще при Павле I, указывает на этот высокохудожественный характер нового танца, созданного плеядой знаменитых балетмейстеров XVIII века. «Балеты их были прекрасными поэмами, полными жизни и поэзии.
385
При таком состоянии хореографического искусства хорошие мимические артисты были необходимы; они занимали все главные роли, на которых сосредоточивался весь интерес балета, и, лишенные возможности говорить, должны были немою игрою выражать все страсти». И балетные премьерши действительно состязались с первыми трагическими артистками. «Никто лучше Колосовой не мог передавать любви, ревности, отчаяния, словом, всех страстей, которым доступно сердце женщины».
В знаменитом балете «Венгерская хижина» (история бегства графа Рагоцкого от австрийцев) трогательные сцены с ребенком заставляли плакать всю публику. Характерно, что Дидло вводил в свои балеты целые трагедии, между прочим «Федру» Расина. Недаром Глушковский называет исполнителей балетов Дидло «трагическими мимами».
Главное достоинство танца, учил Дидло, не в прыжках, а в грациозном положении корпуса и в выражении лица: ведь лицо танцовщика, передающее все оттенки страсти, заменяет слова актера.
«Танцовщица, группируя себя, должна подражать хорошей картине или статуе, потому что те, в свою очередь, подражают природе во всей анатомической строгости».
Драматизму сюжета соответствовало богатство, сложность и разнообразие постановки.
Дидло действительно открывал зрителю волшебное царство чудес и превращений. Так, в балете «Амур и Психея» Венера появлялась на воздушной колеснице, окруженная пятьюдесятью живыми лебедями. В сцене ада один демон прилетал из самой глубины сцены, т. е. от 12-й кулисы, до рампы и над зрителями потрясал факелом. Нередко целые полчища крылатых гениев, амуров и сильфов неслись прямо на публику, готовые обрушиться всем своим роем на зрителей, и как бы по волшебству останавливались у самой рампы.
Все это представляло собою смелые нововведения сравнительно с постановками прежних балетмейстеров. От сюжета пьесы до мельчайших тонкостей монтировочной техники — все было втянуто в глубокий кризис балетных форм, открытый на русской сцене автором «Зефира и Флоры».
Одна из главных реформ Дидло относилась к области балетного костюма. Современные моды XVIII века
386
господствовали и в балете: пудреные парики, французские кафтаны, башмаки с большими пряжками для танцоров, фижмы, шиньоны и мушки для балерин. Дидло изобрел трико 1, газовую тунику и ввел в балет исторические костюмы, уже установленные для трагических постановок Лекеном и Тальма.
Эти реформы произвели полный переворот в постановках. Когда в новом балете «Ариадна и Бахус» Дидло явился впервые в трико телесного цвета, вместо кафтана с легкой барсовой шкурой, перекинутой через плечо, с виноградной лозой в кудрях и жезлом Вакха в руке — появление его произвело фурор. В другой раз, изображая Сильфа в опере «Коризанда», он заменил современную одежду легкой газовой туникой и сандалиями. Классический балетный костюм был установлен. Другое изобретенье Дидло относилось к области балетной механики. Он создал полеты на сцене. Впервые он применил их в постановке своего балета «Зефир и Флора» в 1796 году в Лондоне. «Невозможно описать удивление зрителей, когда они увидели Зефира, поднявшегося на воздух; рукоплескания не умолкали, и всеобщий восторг был наградой славному артисту»...
Особенным успехом пользовался в то время балет «Ацис и Галатея». Музыка к сценарию Дидло была написана капельмейстером Антонолини. Роль Ациса исполняла первая танцовщица Новицкая, Галатеи — Истомина, трехглазого Полифема — Огюст, Меркурий — молодой П. Каратыгин.
Сюжет отличался напряженным и острым интересом. «Зритель ежеминутно трепещет за участь любовников. Катастрофа, кончающая 1-й акт, совершенно неожиданна. Бедный Ацис попался, наконец, в руки ужасного Полифема. Тот с яростью опрокидывает его, схватывает его за ногу и, как перо, бросает через сцену по воздуху; Ацис должен был бы раздробиться от удара, но он невредимо сохраняется Амуром, подхватывающим его на лету и переносящим на облаке в безопасное место (все это производится с куклой, одетой Ацисом). В конце 2-го акта «Полифем застает любовников на берегу морском в самом страстном изъяснении чувств. Он отрывает от горы целый обломок скалы и с яростью
______________________
1Это одеяние получило свое название от имени парижского чулочного мастера Трико, выполнившего заказ Дидло.
387
бросает его на них. Гора летит и готова раздавить любовников, не ожидающих беды. Но вдруг эта скала раздвигается и из нее вылетает Амур; в то же мгновенье театр переменяется, представляя восхитительное зрелище — царство любви». В заключение вся правая сторона сцены, не имея кулис и представляя собой «целую гору, кипящую сверху донизу народом и занимающую всю длину театра, выдвигается вперед».
Общий стиль разнообразной, взволнованной и сложной балетной постановки Дидло сообщал его композициям характер самого модного литературного направления. В них усматривали подлинные признаки романтизма. Уменье изобразить живописный характер эпохи, передать колорит местности, развернуть героический драматизм средневековья или красочную магию восточной сказки — все это отвечало самым заостренным требованиям современной поэтики. «Романтический балет» — вот обычное определение своеобразной драматургии Дидло, проливающее некоторый свет на известное примечание Пушкина к 1-й главе Онегина: «Один из наших романтических писателей находил в них гораздо более поэзии, нежели во всей французской литературе».
О каком «романтическом писателе» говорит Пушкин — нам неизвестно. Но, несомненно, поэты самых различных направлений и школ восхищались композициями Дидло.
В январе 1808 года в Эрмитажном театре был поставлен один из его лучших балетов — «Зефир и Флора». На этом спектакле русские зрители впервые увидели полеты с движущимися крыльями.
На этом представлении в креслах изящнейшего зрительного зала находился блистательный сановник и славный поэт Державин. По словам «Северной пчелы» 1828 г., невозможно описать того, что изображалось на лице поэта в продолжение всего очаровательного зрелища. «Нет! — воскликнул он по окончании спектакля, — нет! самое пламенное воображение поэта никогда не может породить подобного». И сейчас же, под впечатлением редкого спектакля, он написал дифирамб на знаменитую постановку «Зефира и Флоры», в котором сравнивал воздушные композиции Дидло с мистическими страницами Сведенборга. В примечании к стихотворению он поясняет, что «в то самое время, как сей славный балет был представлен в Эрмитаже, Шведенбург в своих сочинениях описывает ангельские
388
иерархии подобно как города, где дома и ады, в коих духи живут и забавляются». Во Всяком случае, несомненно, что престарелый поэт нашел в постановках французского балетмейстера живой источник для вдохновенной оды:
Что за призраки прелестны,
Легки, светлы существа,
Сонм эфирный, сонм небесный,
Тени, лица божества
В неописанном восторге
Мой лелеют, нежат дух?
Не богов ли я в чертоге?
Прав ты, прав ты, Шведенбург!
Вижу холм под облаками,
Озлащаемый лучом,
Осеняемый древами,
Ожурчаемый ключом;
.................................................
Духи вверх и вниз шурмуют,
Хороводы вьются вкруг,
С дружбою любовь ликуют.
Прав ты, прав ты, Шведенбург!
Прав ты, что воображеньем
Мог сих таинств доходить,
Что мы плоти с отверженьем
Будем ангелами жить.
................................................................
Днесь их разность в том лишь с нами,
Что наш связан с телом дух:
Будем, будем мы богами!
Прав ты, прав ты, Шведенбург!
Несколько позже, при постановке балета «Руслан и Людмила», Грибоедов в том же стиле описал танец одной из способнейших учениц Дидло — Телешевой:
О, кто она? Любовь, Харита
Иль пери для страны иной
Эдем покинула родной.
Тончайшим облаком обвита?
И вдруг — как ветр ее полет!
Звездой рассыплется мгновенно,
Блеснет, исчезнет, воздух вьет
Стопою, свыше окриленной...
Мы имеем, наконец, в первой главе «Онегина» бессмертную зарисовку лучшей ученицы Дидло. Здесь в летучей строфе намечена и пластическая группа, открывающая балет, и вступительный полет первой солистки.
389
Блистательна полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина; она,
Одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит...
Летит, как пух от уст Эола;
То стан совьет, то разовьет
И быстрой ножкой ножку бьет.
Это, конечно, непревзойденное изображение танца в русской поэзии. Наши лирики начала столетия следовали, быть может, традиции Вольтера, воспевавшего знаменитую Камарго. Гирляндой классических строф они навсегда увенчали художнический подвиг Дидло.
IV
Этот верховный жрец хореографии, «пиит танца» или «Байрон балета» представлял в жизни довольно комическую фигуру.
Он отличался необыкновенной худобой и феноменальной подвижностью. В раннем детстве он был обезображен оспой. Громадный нос придавал его лицу птичье выражение. Он походил на дупеля, по мнению Головачевой-Панаевой: «у него были светлые, но сердитые глаза, он постоянно кусал свои тонкие губы, и его всегда нервно передергивало»... Жихарев видел его в 1806 году в роли Аполлона. «Худой, как остов, с преогромным носом, в светло-рыжем парике, с лавровым на голове венком и с лирою в руках, он, несмотря на искусство, с каким танцовал свое па, весьма мало напоминал «светлого бога песнопений»...
Биография Дидло — это история художника, всецело посвятившего жизнь своему искусству. Он родился в Стокгольме в 1767 году, в семье танцовщика-француза. Уже в раннем детстве будущий балетмейстер отличался на придворных маскарадах, обнаруживая несомненные пластические дарования и юмор. Свое хореографическое образование он довершал в Париже у знаменитого Огюста Вестриса. Вместе с этим «фениксом танца» и не менее знаменитым Новерром он выступал в конце XVIII века в Лондоне и Париже, где танцевал, компонировал и ставил балеты. В 1801 году он был ангажирован Юсуповым в Петербург, где с блистательным успе-
390
хом дебютировал в апреле 1802 года балетом «Аполлон и Дафна». Деятельность его в России продолжалась непрерывно до 1811 г., когда, «по причине тяжкой болезни», Дидло получил просимое увольнение, был щедро награжден и уехал за границу. Но уже 20 декабря Нарышкин лично приглашает Дидло вернуться в Россию, уверяя его, что публика, ученики театральной школы и управление театрами ждут с горячим нетерпением его приезда.
Перед заключением нового контракта с Дидло в 1815 году директор театров Тюфякин указывает в своих докладах, что «со времени отъезда его балеты весьма пришли в упадок, а особливо образование в школе балетной труппы расстроилось». Вернувшись в Россию, Дидло оставался здесь еще в течение целого двадцатилетия, до самой своей смерти, не переставая до конца, даже в отставке, создавать свои замечательные балетные композиции. Слава его не переставала расти.
Московская театральная дирекция в июне 1824 г., готовясь к постановке больших балетов, посылает своего «дансера Глушковского» в Петербург, считаясь с тем, что «петербургский театр, имея у себя знаменитого балетмейстера Дидло, изобилует сего рода представлениями».
Так создавалась школа Дидло. Он устанавливал традицию, которой суждено было сохраниться в живой преемственности его учеников.
Каков же был в жизни этот знаменитый хореограф? Вот как описывает «оригинальную личность» Дидло его ученик П. Каратыгин.
«Он был среднего роста, худощавый, рябой, с небольшой лысиной; длинный горбатый нос, серые, быстрые глаза, острый подбородок; вообще вся его наружность была не больно красива... Высокие, туго накрахмаленные воротнички рубашки закрывали вполовину его костлявые щеки. Он постоянно был в каком-то неестественном движении, точно в его жилах была ртуть вместо крови. Голова его беспрестанно была занята сочинением какого-нибудь па или сюжетом нового балета, и потому подвижное его лицо ежеминутно изменялось; а всю его фигуру то и дело подергивало; ноги держал он необыкновенно выворотно и имел забавную привычку одну из них каждую минуту то поднимать, то отбрасывать в сторону... Эту штуку он выкидывал, даже ходя по улице, точно он страдал пляскою св. Вита. Кто видел
391
его в первый раз, мог бы, конечно, принять его за помешанного, до того все его движения были странны, дики и угловаты».
Это был поистине фанатик своего дела. Он составлял свои группы, организовывал танцоров и творил свои сценические поэмы в каком-то припадке самозабвения. Одна из учениц Дидло рассказывает такой случай. Во время репетиции в Эрмитаже балета «Амур и Психея» одной из танцовщиц кордебалета недостало лиры или вазы. «Дидло в бешенстве бросился бежать по Невскому, имея на одной ноге красный сапог, на другой черный, без шапки, обмотав голову каким-то газовым радужных цветов покрывалом. В этом виде он прибежал в Малый театр, взял, что было нужно, и тем же трактом отправился назад. Народ, естественно, счел его сумасшедшим и валил за ним толпою»...
Во время уроков Дидло был совершенно беспощаден. Трость его действовала вовсю, и не только в качестве дирижерского жезла. Ученики его возвращались из классов с синяками на руках и ногах. Дидло, видимо, и в этом отношении следовал Новерру, известному своей жестокой педагогической системой. Отсюда ряд новых прозвищ Дидло: «грозный», «крепостник» и проч.
Каратыгин оставил живую зарисовку урока Дидло. В зимнее петербургское утро с шести часов воспитанники театрального училища отправлялись в холодную танцевальную залу; при тусклом свете сальной свечки группа подростков в течение нескольких часов неутомимо упражнялась в своих батманах, ронджамбах и прочих балетных хитростях.
«В 11 часов какой-то дребезжащий стук экипажа вдруг раздался под воротами... «M-eur Дидло! Дидло приехал!» — закричало народонаселение Театрального Училища. Сам олимпийский громовержец не мог бы нагнать большего страха на слабых смертных своим появлением... Дверь с шумом растворяется, и, в шляпе на затылке, в шинели, спущенной с плеч, входит грозный балетмейстер...
При одном взгляде на него у учеников и учениц душа уходила в пятки и дрожь пробегала по всему телу.
Грозному балетмейстеру подали его длинную палку, тяжеловесный жезл его деспотизма; мы, новички, стали в сторонке, и Дидло начал свой обычный класс. Тут я увидел воочию, как он был легок на ногу и как тяжел на руку. В ком больше находил он способностей, на то-
392
го больше обращал и внимания и щедрее наделял колотушками. Синяки часто служили знаками отличия будущих танцоров. Малейшая неловкость или непонятливость сопровождалась тычком, пинком или пощечиной...»
Уроки сопровождались нередко трагикомическими эпизодами. Так, однажды, увлеченный ритмом, Дидло, размахивая палкой, грозно наступал на своего маленького ученика, исполнявшего какой-то «тан-леве назад», пока оба они не очутились в середине зала под хрустальной люстрой, мгновенно разлетевшейся вдребезги от мощного дирижирования танцмейстера. Град хрустальных осколков осыпал обоих танцующих и покрыл кровоподтеками и царапинами лысину маэстро. Гневу его не было пределов. Но, «к чести Дидло, надо сказать, что, при необыкновенной своей вспыльчивости, он не был злопамятен, — замечает Каратыгин, — и, когда я подошел к нему и со слезами начал у него просить извинения, он погладил меня по голове и дал мне только наставление, чтоб впредь я был прилежнее, а главное — не подводил бы его под люстру»...
От нрава пылкого балетмейстера страдали не только его ученики, но часто и законченные артисты. За всеми деталями исполнения балетмейстер зорко следил из-за кулис. При этом он перегибался, улыбался, семенил ногами и вдруг начинал злобно «топать такт ногой». На каждого провинившегося исполнителя он набрасывался за кулисами как коршун, не делая исключения и для знаменитых солисток: «При шуме рукоплесканий, счастливая танцовщица убегала за кулисы, а тут Дидло хватал ее за плечи, тряс изо всей силы, осыпал бранью и, давая ей тумака в спину, выталкивал опять на сцену, если ее вызывали. Часто Дидло за кулисами гонялся за танцовщицей, которая, из предосторожности, убегала со сцены в противоположную сторону и пряталась от него. Взбешенного Дидло отливали водой».
Так преподавал, режиссировал и руководил русским балетом Дидло вплоть до 1831 года. Плеяда балетных знаменитостей прошла через его классы в Театральном училище и под его руководством прославилась на сцене. Имя его гремело и неизменно вызывало восхищение зрителей, благоговейный ужас учеников и почтительное расположение дирекции.
Только при переменах в театральном управлении уже в николаевское время над престарелым балетмей-
393
стером стряслась катастрофа. Дидло не поладил с новым начальством, не подчинился какому-то распоряжению, был подвергнут — несмотря на свою европейскую славу и преклонный возраст — аресту, но на другой же день подал в отставку. Его прощальный бенефис прошел триумфально. На бурные вызовы переполненного театра старый хореограф, создавший русский балет, вышел окруженный огромной толпой танцовщиков, балерин, кордебалета и молодежи Театрального училища. Из оркестра на сцену передавались венки, и огромная толпа учеников Дидло, в глубоком волнении, прощалась с суровым и гениальным учителем, покрывая поцелуями его руки... Так закончилась сценическая карьера знаменитого хореографа.
Архивные данные сообщают некоторые дополнительные сведения об уходе Дидло. Новые порядки шли явно против него. Уже 19 апреля 1826 года старый балетмейстер получает почетную отставку. «Именной высочайший указ кабинету», за подписью Николая I, постановил производить балетмейстеру Дидло «в пенсион по смерть по 40 000 руб. в год». Балетмейстер должен был прослужить еще 2 года «в благодарность за пожалованный пенсион». 20 мая Дидло подал возмущенное заявление против «системы беспрерывно отнимать у него учеников после ряда лет работы», чтоб назначать их на места костюмеров, бутафоров и проч. С большой прямолинейностью Дидло заявляет, что контора театров «ничего не смыслит в танцах» и не имеет права постановлять по этому поводу суждения. Комитет театральной дирекции постановил: «не входя в рассмотрение выражений прошения г. Дидло, объявить ему, что распределение по различным частям воспитывающихся в театральной школе учинено самим комитетом, который в сем случае один только имеет таковую власть». В одной из следующих своих бумаг Комитет указывал, что Дидло «присваивает себе совершенно начальственную власть», требуя между прочим, «чтоб никогда, ни под каким предлогом, ни одного воспитанника, ни воспитанницы, обучающихся танцам, от оных отдаляемо не было». Тем не менее контракт с Дидло был в марте 1827 г. продолжен по 1-е марта 1830 г. Но уже в январе 1830 г. просьба его об отставке была уважена. Следуемый балетмейстеру бенефис не был ему предоставлен. 20 августа 1834 г. ему был выдан аттестат об окончании службы.
394
Существуют свидетельства, что публика не забывала Дидло и гораздо позже, при возобновлении его балетов, единодушно вызывали отставленного автора. Так, в 1835 году, при постановке «Кавказского пленника», первые танцовщики в ответ на вызовы бросились за кулисы, расцеловали своего учителя и вывели его к публике. Весь театр стонал и дрожал от криков и рукоплесканий, а старик плакал...
Он умер в один год со своим поклонником — поэтом Пушкиным.
Еще в 1836 году, с целью поправить расстроенное здоровье, Дидло отправился в южные губернии и 7 ноября 1837 года скончался в Киеве после шестидневной болезни. До последней минуты своей жизни он, по свидетельству близких, сочинял разные программы балетов, одна другой лучше, интереснее и блистательнее.
Так в тихой николаевской провинции кончил жизнь знаменитый реформатор европейского балета, сподвижник Вестриса и Новерра, восхищавший в течение полувека театральные толпы Парижа, Стокгольма, Лондона и Петербурга.
На Украине молодого Гоголя, среди белых домиков и обнаженных тополей, в последний раз заплелись и развернулись его увлекательные сказочные феерии, которым уже не суждено было осуществиться в свете театральных огней и в сложных эволюциях кордебалета.
Таков был эпилог «великого хореографа». Так закатилась напряженная и клокочущая жизнь этого необычайного художника сцены, который прошел по сумрачному фону российской действительности каким-то призрачным персонажем гофмановской сказки, щедро роняя по пути свои неистощимые легенды, фантазии и видения.
V
Пушкин, мы видели, высоко ценил балеты Дидло. Драматизм этих пантомим, насыщенных борьбой страстей и проникнутых высоким лиризмом, вполне отвечал его сценическим вкусам. Скучающая фраза Онегина: «Балеты долго я терпел, но и Дидло мне надоел» — вызывает в Пушкине осуждающую оговорку: «Черта охлажденного чувства, достойная Чайльд-Гарольда. Балеты г. Дидло исполнены живости воображения и преле-
395
сти необыкновенной»... В 1823 году из Кишинева он просит брата писать ему о Дидло и об Истоминой. Характерно, что в русском балете своей эпохи поэт с явным сочувствием отметил эту черту глубокой одухотворенности:
Узрю ли русской Терпсихоры
Душой исполненный полет?..
Явно увлеченный этим искусством, в котором он готов был признать более поэзии, «нежели в новой французской литературе», поэт и в творческом плане приблизился к нему. Произошло некоторое своеобразное сотрудничество Пушкина и Дидло. Первые поэмы молодого поэта были разработаны знаменитым хореографом для его балетных либретто. В 20-х годах на русской сцене появились и «Руслан и Людмила, или Низвержение Черномора», и «Кавказский пленник», в котором отличалась «черкешенка — Истомина», как писал в своих южных письмах Пушкин. О последней постановке можно судить по сохранившемуся свидетельству Глушковского.
«Дидло не упустил случая воспользоваться «Кавказским пленником» Пушкина, и, верно, никогда еще поэт не перелагал поэта в новые формы так полно, близко, так красноречиво, как это сделал Дидло, переложив чудные стихи народного поэта в поэтическую немую прозу пантомимы. Местность, нравы, дикость и воинственность народа, все схвачено в этом балете... Игры, борьба, стрельба — все верно и естественно, но все прикрыто колоритом грации и поэзии. Балет сделался в руках Дидло великолепной иллюстрацией поэмы».
Но и творчество Пушкина, видимо, не оставалось чуждым некоторых воздействий Дидло. Увлечение поэта блистательными постановками балетов-пантомим получило своеобразное отражение в песнях его первой поэмы.
«Руслан» создавался в эпоху повышенных театральных впечатлений поэта. В предисловии ко второму изданию поэмы он сообщает, что писал ее «среди самой рассеянной жизни». — «В 7 часов с 1/2 каждый день поминаем тебя в театре рукоплесканиями», — сообщает он осенью 1817 года одному из своих приятелей. Текст поэмы носит подчас довольно неожиданные следы этих театральных впечатлений Пушкина.
Так, описывая «трагический момент борьбы витязя с головою», когда «булат холодный вонзился в дерзостный язык и кровь из бешеного зева рекою побежала», поэт
396
вспоминает забавную сценку зрительного зала. Когда в поэме чудовищная голова немеет «от удивления, боли, гнева», в памяти художника возникают современные театральные нравы:
Так иногда средь нашей сцены
Плохой питомец Мельпомены,
Внезапным свистом оглушен,
Уж ничего не видит он,
Бледнеет, ролю забывает,
Дрожит, поникнув головой,
И, заикаясь, умолкает
Перед насмешливой толпой.
Такой художественный анахронизм и явное нарушение стиля — образ современного освистанного актера, иллюстрирующий кровавую картину чудесной битвы, мог быть допущен Пушкиным лишь под напором господствующих впечатлений от спектакля. Театрал решительно восторжествовал над поэтом, и случайный эпизод вечернего представления отложился на картине сказочного сражения.
Это характерный штрих, и его следует запомнить. «Руслана и Людмилу» писал завсегдатай театральных зал —
Непостоянный обожатель
Очаровательных актрис —
Почетный гражданин кулис.
И не только на случайном иллюстрированном моменте, но и на целом ряде описаний, эпизодов и подробностей сюжета сказалась эта театральная восприимчивость автора.
VI
По своим источникам и образцам «Руслан и Людмила» представляет собой чрезвычайно сложный, даже мозаичный, состав. В научной литературе установлены воздействия на поэму народных сказок, волшебно-рыцарских романов, Ариоста, Вольтера, Гамильтона, Радищева, Карамзина, Жуковского, даже «Славянских древностей» Попова. Не следует ли от этих книжных воздействий обратиться и к живым театральным воспоминаниям Пушкина той именно эпохи, когда писалась его первая поэма?
397
Мы полагаем, что это необходимо сделать. Ибо сквозь ткань поэмы явственно проглядывают впечатления Пушкина-балетомана, и, таким образом, в ряду его вдохновителей, среди поэтов, собирателей фольклора и ученых, археологов, необходимо поставить и забытую фигуру знаменитого хореографа.
Уже в обстановке поэмы сказываются декоративные черты феерических балетных постановок Дидло. Сад Черномора выдержан в тонах декорации к «Зефиру и Флоре», «Коре и Алонзо» и проч. Вспомним прогулку Людмилы:
Пред нею зыблются, шумят
Великолепные дубровы.
Аллеи пальм, и лес лавровый,
И благовонных миртов ряд,
И кедров гордые вершины,
И золотые апельсины
Зерцалом вод отражены;
Пригорки, рощи и долины
Весны огнем оживлены;
С прохладой вьется ветер майский
Средь очарованных полей,
И свищет соловей китайский
Во мраке трепетных ветвей;
Летят алмазные фонтаны
С веселым шумом к облакам;
Под ними блещут истуканы,
И, мнится, живы...
...Дробясь о мраморны преграды,
Жемчужной, огненной дугой
Валятся, плещут водопады;
И ручейки в тени лесной
Чуть вьются сонною волной...
Это типичная декорация к балету Дидло. Другие черты поэмы дополняют традиционную постановку пантомимы-феерии. «Высокий мостик над потоком пред ней висит на двух скалах»... «Мелькают светлые беседки» и проч.
Все эти «зерцала вод», «алмазные фонтаны», водопады, мостики, беседки являлись необходимыми аксессуарами балетных постановок Дидло. Они нужны были не только для декоративных эффектов, но и для различных приемов, сцен и группировок хореографической пантомимы. Вот почему сады здесь всегда украшены павильонами и портиками, водометами и каскадами. Дидло охотно вводит в мизансцену озеро, окруженное скалами, с которых падают водопады. В марте 1819 г. машинисты-декораторы требуют особых средств для
398
поправки восьми фонтанов к балету «Ацис и Галатея». В другом балете Флора наблюдает, как вода источника с шумом поднимается и, образуя каскад, представляет взорам ее Зефира.
В такой же чисто балетной традиции выдержана сцена прибытия Ратмира в замок двенадцати дев.
Она манит, она поет,
И юный хан уж под стеною;
Его встречают у ворот
Девицы красные толпою;
..................................................
В чертоги входит хан младой,
За ним отшельниц милых рой;
Одна снимает шлем крылатый,
Другая кованые латы,
Та меч берет, та пыльный щит;
..............................................
Разостлан роскошью ковер;
На нем усталый хан ложится;
Прозрачный пар над ним клубится;
Потупя неги полный взор,
Прелестные, полунагие,
В заботе нежной и немой
Вкруг хана девы молодые
Теснятся резвою толпой.
И восхищенный витязь «в кругу прелестных дев» «томится сладостным желаньем»... Наступает ночь, и в одиноком чертоге, «при серебряной луне, мелькнула дева»...
Все это выдержано в типичной традиции кордебалета. «Каждая одалиска старается привлечь его взоры и пленить сердце его», — буквально читаем в либретто Дидло. Черты типичной балетной процессии явственно различаются и в сцене появления Черномора:
...Озарена
Мгновенным блеском тьма ночная,
Мгновенно дверь отворена;
Безмолвно, гордо выступая,
Нагими саблями сверкая,
Арапов длинный ряд идет
Попарно, чинно...
в другом месте: «Пред ним арапов чудный рой, — Толпы невольниц боязливых»... Все это обычные кортежи пантомимных феерий Дидло.
Один из любимых приемов балетмейстера — использование в сюжетных целях зеркала. В предисловии к
399
программе «Молодой островитянки» Дидло говорит о важности изображения в балете «прекрасной идеи зеркала». И действительно, по свидетельству Глушковского, «большой эффект производило отражение Тамаиды в зеркале, которое представляла танцовщица Осипова». В другом балете, «Калиф багдадский», евнухи, невольницы и рабы приносят богатое зеркало, перед которым одевают Зетюльбу в роскошный наряд. В балете «Роланд и Моргана» героиня в магическом зеркале показывает рыцарю судьбу его близких. Всевозможные «зеркальные эффекты» постоянно оживляют сюжеты Дидло.
Этот же прием находим в третьей песне «Руслана»:
Постель оставила Людмила
И взор невольный обратила
К высоким, чистым зеркалам...
Происходит примерка волшебной шапки Черномора пред «верным стеклом»:
И что ж? О чудо старых дней!
Людмила в зеркале пропала;
Перевернула — перед ней
Людмила прежняя предстала;
Назад надела — снова нет;
Сняла — и в зеркале!..
Перед богатым зеркалом Зетюльбы, по обычному приему балетных постановок, «невольники разжигают курильницы с благовонными травами». Так, когда Людмила лежит «под гордой сенью балдахина», среди парчи и яхонтов,
Кругом курильницы златые
Подъемлют ароматный пар...
Система знаменитых полетов Дидло чувствуется на каждом шагу в пушкинской поэме. Часто это именно полеты-превращения:
В окно влетает змий крылатый;
Гремя железной чешуей,
Он в кольца быстрые согнулся
И вдруг Наиной обернулся
Пред изумленною толпой.
«Волшебница на легком облаке спускается к ней, — описывает в своей программе Дидло, — старая невольница исчезает — волшебница берет ее вид и место».
400
В «Руслане» читаем:
И вдруг неведомая сила,
Нежней, чем вешний ветерок,
Ее на воздух поднимает,
Несет по воздуху в чертог
И осторожно опускает
Сквозь фимиам вечерних роз
На ложе грусти, ложе слез...
«Волшебница поднимается с пленным Тао на воздух, — рассказывает Дидло, — и летит в чертоги, в которых намерена его оставить».
В «Руслане и Людмиле» ощущаются и впечатления от старинного оркестра, сопровождающего балетную постановку. Рога и арфы — вот характерные инструменты тогдашних постановок. «Звук рогов возвещает приближение султана»... «Дочери Гименея бряцаю на арфах» («Зефир и Флора»), «Эльвира играет на арфе («Молодая островитянка») и т. д. В «Руслане»:
И в тишине из-за ветвей
Незрима арфа заиграла.
Роговая музыка крепостных оркестрантов упоминаете в поэме постоянно:
Нашел и шлем, и звонкий рог.
————
И звонкий рог веселой ловли.
————
В ревущий рог, летая, трубит.
————
Чу... Вдруг раздался рога звон.
————
Призывный рог, как буря, воет...
И, наконец, полное изображение оркестрового ансамбля:
...гласы трубны,
Рога, тимпаны, гусли, бубны
Гремят над нею.
Первая поэма Пушкина насквозь театральна. Впечатление от вечернего спектакля явно отлагалось на утренней работе поэта. Сложное сотрудничество Антонолини и Кавоса, знаменитых декораторов — Гонзаго, Каноппи или Кондратьева, машиниста Тибо и целой плеяды знаменитых танцоров, под уверенным руководством замечательного организатора всей этой сцениче-
401
ской армии — самого Дидло, производило сильнейшее впечатление на восемнадцатилетнего поэта. Его словесная феерия явственно носит следы этих театральных восприятий. Он свободно и радостно отдавался им, широко вносил их в свою композицию и на каждом шагу отражал восхитительные детали этих сказочных драм, «исполненных живости воображения и прелести необыкновенной».
Современники были очарованы древнерусской сказкой в духе Ариосто, а литературная наука установила с тех пор многочисленные книжные источники «Руслана и Людмилы». Никто не заметил, что великий поэт дебютировал поэмой-балетом.
Глава пятая
КОМЕДИЯ И ВОДЕВИЛЬ
С Мольером-исполином
Фон-Визин и Княжнин...
«Городок»
I
23 сентября 1815 года русская драматургия переживала один из своих самых шумных успехов. На петербургском Малом театре шла премьера «Урок кокеткам, или Липецкие воды» Шаховского. Пушкин шутливо считал эту дату началом новой эры. «В лето 5 от Липецкого потопа», — писал он в июле 1821 г. А. И. Тургеневу.
Это был поистине исторический спектакль. Он утверждал у нас жанр легкой комедии в стихах, оставленный со времен Княжнина и Капниста; он выдвигал ряд даровитых исполнителей, которым предстояло ознаменовать своими именами целую эпоху в развитии русской комедии; острыми и задорными приемами личных характеристик он возбуждал критическую мысль современников, отозвавшихся на сценическую сатиру потоком эпиграмм, памфлетов, насмешливых выпадов и резких оценок. И, наконец, раскалывая литературную современность на группы и партии, он привел к основанию одного из наших самых замечательных литературных обществ.
Таково было значение этого спектакля. «Урок ко-
402
кеткам», несомненно, открывал новый период русской стихотворной комедии, которой вскоре предстоял наивысший расцвет под пером одного младшего друга Шаховского. После постановки «Липецких вод» забытый жанр снова ожил, блистая именами молодых драматургов — Хмельницкого, Загоскина, Жандра, Грибоедова и даже соблазняя самого Пушкина.
Комедия имела потрясающий успех. Это был первый блистательный триумф Шаховского. «Если его «Полубарские затеи» были превосходною комедиею, — пишет один из зрителей, — то в умах современников «Липецкие воды» были классическою пиесою». Отчасти это был, несомненно, успех скандала, но к такому эффекту, видимо, и стремился автор. Негодование, вызванное карикатурными персонажами пьесы, входило в расчет драматурга и составляло один из элементов подготовленной им сенсации. Шаховской охотно пользовался этим острым приемом и в прежних своих произведениях, направляя свои пародии против Карамзина, Василия Пушкина или Шаликова. Недаром в ответных выпадах литературные противники клеймили его аналогичными отзывами:
Брюхастый стиходей
Достойнейших писателей злословил
И пасквили писал на сочиненья их... 1
Но замечательно, что сценический пасквиль, введенный в русскую драматургию Шаховским, надолго утвердился в ней и был признан удачным театральным приемом.
В литературно-сценическом отношении пьеса являла ряд несомненных достоинств. Живой и занимательный сюжет, заимствованный, видимо, из французской драматургии (современники отмечали сходство «Липецких вод» с комедией «La coquette»2), был обильно уснащен всевозможными намеками на русскую современность и даже на петербургское общество в лице его отдельных представителей. Беглый, легкий и естественный диалог производил со сцены пленительное впечатление, хотя в
_________________________
1 Василий Пушкин впоследствии ставил себе в заслугу, что он «злого Гашпара убил одним стихом», намекая на упоминание «Нового Стерна» в «Опасном соседе». Пушкин приветствовал впоследствии своего «дядю на Парнассе», за то, что он сумел «лоб угрюмый Шутовского — клеймить единственным стихом». Все это отголоски бурной памфлетической литературы, вызванной «Липецкими водами».
2«Кокетка» (фр.).
403
чтении стихотворный стиль Шаховского был далеко не безупречен. Особенно бросалась в глаза небрежность рифмовки (напр., «Ухваткой — фигуранткой», «мог — восторг», «эффект — нет» и т.д.). Но зато персонажи пьесы действительно вели живую беседу, полную разнообразных интонаций, естественной беглости, разговорной гибкости стиха. Приведем для примера следующий фрагмент:
— Проведал он,
Что завтра то число, в которое родиться
Графиню бог привел; так выдумал сюрприз
Ей накануне дать, — и точно тем манером,
Каким в Италии для тамошних маркиз
Давал, как был еще в посольстве кавалером.
— Сюрприз? Какой и где?
— На этом месте щит
Он с именем ее огнями расцветит,
Там пустит фейерверк; здесь будет серенада,
Тут плошки, фонари зажгутся.
— Как я рада!
Иллюминация, и песни, и огни.
Текст пьесы, предупреждая грибоедовскую манеру, изобиловал крылатыми словами и афоризмами, иногда достаточно острыми и легко запоминающимися. В память зрителей легко западали такие летучие изречения: «Поверь мне, фейерверк не просветит его», «Какой же генерал не проиграл сраженья», «В болезнях, говорят, рассеянье полезно», «Колет глаз чужое торжество», «Без нежности, без чувств все нынешние франты», «Вам смело можно быть профессором морали», «Так женщин кто бранит, тот им же угождает» и проч.
Некоторые из этих афоризмов прямо обращают нас к «Горе от ума». «Язык пустых людей всего на свете злее», — приводит на память знаменитое восклицание Лизы: «Ах, злые языки страшнее пистолета»... Вообще Грибоедов, несомненно, учился у Шаховского, и в частности вынес ряд уроков из «Липецких вод» 1.
Но сентябрьский спектакль 1815 года, при всем его литературном значении, был прежде всего театральным
_____________________
1 Укажем мимоходом на сходство последнего выхода Хлестовой («Ну, бал! Ну, Фамусов» и проч.) с монологом старой княжны у Шаховского:
Ну что за общество! То харя, то урод.
Здесь вся кунскамера. Где, батюшки, родились?
Кто вас воспитывал? Чему вы научились?
С кем жили целый век?
и проч.
404
событием. Он представлял значительный интерес и в отношении актерского состава. Некоторую театральную сенсацию вызывало первое выступление знаменитой Валберховой после долголетнего перерыва ее сценической деятельности. На афишах специально отмечалось: «Роль графини Лелевой будет играть вновь принятая актриса г-жа Валберхова большая, которая была уволена в 1811 году, по собственному желанию». Событие это усугублялось новым амплуа, в котором выступала прежняя соперница Екатерины Семеновой. «Трагическая актриса Валберхова, — вспоминал впоследствии Зотов, — впервые явилась в комедии, и тут-то публика отдала ей полную справедливость. Тут в настоящем свете выказался высокий талант этой прелестной актрисы. Ее красота, ум и образованность усиливали всеобщий к ней восторг... Вместе с нею явился Брянский в амплуа первых любовников комедии... Рамазанов и Величкин, созданные Шаховским, явились также в этой пиесе, первый в амплуа ливреи, а второй — в роли гримов... Г-жа Асенкова (мать бывшей нашей любимицы, Варвары Николаевны Асенковой, так рано похищенной смертью) явилась в амплуа субреток, и с тех пор прелестный талант ее день ото дня развивался; мы смело можем сказать, что у нас не было уже такой субретки. Но самым замечательным явлением в этой комедии был молодой человек на амплуа петиметров. Он отличался прекрасной наружностью, был ловок, развязен и, играя роль князя, совершенно казался освоенным с приемами людей высшего общества. Одним словом, это был И. И. Сосницкий... Он удивил всех и привел в восторг публику. Это был первоклассный талант, обещавший публике величайшее наслаждение».
Афиша постановки действительно свидетельствует о прекрасном актерском составе премьеры:
Князь Холмский.............................. Г-н Яковлев
Оленька............................................ Г-жа Степанова
Графиня Лелева.............................. Г-жа Валиберхова б.
Саша, горничная............................ Г-жа Асенкова
Пронский, полковник..................... Г-н Брянский
Княжна Холмская........................... Г-жа Ежова б.
Граф Ольгин................................... Г-н Сосницкий
Барон Вольмар................................ Г-н Величкин
Угаров.............................................. Г-н Рамазанов
Фиалкин........................................... Г-н Климовский
Семен, смотритель бань................. Г-н Боченков
405
Арапов снабжает этот список исполнителей беглыми рецензентскими заметками:
«Князя, дядю графини, представлял Яковлев; Оленьку, невесту, — хорошенькая Степанова; бранчливую княжну Холмскую — Ежова; и была очень типична в этой роли; влюбленного Пронского — Брянский, сыгравший эту роль с большим одушевлением; барона Вольмара — Величкин, который был на этот раз оригинально смешон; лихого сорванца Угарова — Рамазанов, изобразивший его очень бойко; поэта Фиалкина — Климовский; горничную Сашу — Асенкова, сыгравшая свою роль мастерски, и слугу — Боченков».
Острую живость постановке придавала явная портретность многих героев. Сосницкий своими манерами, костюмом, всеми подробностями исполнения воспроизводил фигуру известного щеголя того времени — графа Соллогуба, отца автора «Тарантаса». Старики-волокиты узнавали себя в бароне Вольмаре. Наконец, сам автор дал в тексте пьесы знаменитую карикатуру на Жуковского, не оставлявшую никаких сомнений в прототипе поэта Фиалкина.
Достаточно процитировать знаменитую сцену второго действия:
Ф и а л к и н
Внушена мне гением баллада,
И посвятить хочу графине сердца плод.
Примите...
Графиня
Что, сударь?
Ф и а л к и н
Творенье небольшое,
Но есть в нем кое-что — я выбрал модный род
Баллад.
Графиня
Я их люблю.
Саша
А прозвище какое?
Ф и а л к и н
Омир или Омер. Еще не решено,
Как должно звать его, и потому я «или» 1
Поставил, чтоб меня журналы не бранили
.................................................................................................................
_______________________
1 В то время существовал обычай давать пьесам двойное название, соединяя оба заглавия союзом или. Поэт Милонов написал по этому поводу одному драматургу:
Твоя комедия без «или»,
И на театре ей не быть...
406
Графиня
Пропойте...
Ф и а л к и н
(настраивая гитару)
Я готов.
БАЛЛАДА
Пел бессмертный славну Трою,
Пел родных Приама чад,
Пел Ахилла, жадна к бою,
Пел Елены милый взгляд;
Но чувствительность слезами
Излила глаза певца —
Ах, мы любим не глазами,
Для любви у нас сердца;
И бессмертный под сетями
У бессмертного слепца.
Я мысли освежить хотел игрою слов:
Поймал под сеть свою Амур, слепец бессмертный,
Бессмертного певца Омера.
Графиня
(в сторону)
Что за вздор!
Саша
Слепец слепца ведет, прекрасно.
Ф и а л к и н
Ах, ваш взор
Решит судьбу слепца...
и проч.
Эта сатира усиливалась пародийным отрывком последнего действия. Фиалкин говорит о мертвецах:
В балладах ими я свой нежный вкус питаю.
И полночь, и петух, и звон костей в гробах;
И чу!.. Все страшно в них, но милым все приятно.
Все восхитительно, хотя невероятно...
Эта пародия произвела потрясающее действие на друзей поэта. Оно усугубилось тем, что сам Жуковский присутствовал на премьере «Липецких вод» и был, таким образом, вынужденным свидетелем своего публичного осмеяния.
«Нас сидело шестеро в третьем ряду кресел, — рассказывает Вигель, — Дашков, Тургенев, Блудов, Жуковский, Жихарев и я. Теперь, когда я могу судить без тогдашних предубеждений, нахожу я, что новая комедия была произведение примечательное по искусству, с каким автор победил трудность заставить светскую женщину хорошо говорить по-русски, по верности ха-
407
рактеров, в ней изображенных, по веселости, заманчивости, затейливости своей и, наконец, по многим хорошим стихам, которые в ней встречаются, но лукавый дернул его ни к селу ни к городу вклеить в нее одно действующее лицо, которое все дело перепортило. В поэте Фиалкине, в жалком вздыхателе, всеми пренебрегаемом, перед всеми согнутом, хотел он представить благородную скромность Жуковского; и, дабы никто не обманулся насчет его намерения, Фиалкин твердит о своих балладах и произносит несколько известных стихов прозванного нами в шутку балладника. Можно вообразить себе положение бедного Жуковского, на которого обратилось несколько нескромных взоров. Можно себе представить удивление и гнев вокруг него сидящих друзей его. Перчатка была брошена; еще кипящие молодостью Блудов и Дашков спешили поднять ее».
Так возникло знаменитое литературное общество «Арзамас», сыгравшее столь видную роль в литературной формации молодого Пушкина.
Мы видим, что пьеса Шаховского вполне оправдывает свою историческую славу. Первая постановка «Липецких вод» вводит нас в тот оживленный и радостный период русского комедийного искусства, который непосредственно предшествует появлению «Горе от ума».
II
Шаховской-драматург был во многом связан с Пушкиным. Он любил драматизировать пушкинские сюжеты и разработал для сцены «Руслана и Людмилу» («Финн»), «Бахчисарайский фонтан» («Керим-Гирей») и даже «Пиковую даму» («Хризомания, или Страсть к деньгам»). В свою очередь, впечатление от одной ранней комедии Шаховского своеобразно отразилось на крупнейшем произведении Пушкина.
Изучение комедий Шаховского вносит в Пушкиниану любопытный и до сих пор не отмеченный в ней штрих: оно дает нам возможность установить, откуда Пушкин взял фамилию Онегина.
23 сентября 1818 года на Большом театре «в пользу актрисы г-жи Ежовой» шла комедия в вольных стихах А. А. Шаховского «Не любо — не слушай, а лгать не мешай». О внимании к ней молодых театралов свидетельствует впечатление, произведенное ею на Грибоедова.
408
Не только форма вольного стиха, но и ряд отдельных моментов диалога и даже некоторые положения этой пьески Шаховского нашли довольно близкое отражение в «Горе от ума» 1.
Вот в этой легкой и удачно построенной пьеске неоднократно повторяется та фамилия, которой озаглавлен знаменитый роман в стихах. Персонажи пьесы неоднократно называют одного отсутствующего героя: «Ба, это, кажется, Онегина рука», «Онегин, друг ее и родственник по мужу», «Хоть про Онегина, ты помнишь, нам сказали...», «Онегина руки не можно вам не знать...», «Онегиных есть много...», «Поверьте, тетушка, Онегин обманулся» и проч. Одна из таких стихотворных фраз могла остаться в памяти поэта и предстать перед ним удобной формулой в момент написания первой строфы романа в 1823 году (ср. такие же амфибрахии в именах романа — Евгений, Владимир, Татьяна).
___________________________
1Приведем наиболее показательные в этом отношении места. Такова, напр., беседа Зарницкина с горничной Дашенькой:
Для милой вестницы у нас гостинец есть.
— А что, сударь?
— Безделка: Сережки с жемчугом.
Жемчуг хоть не зернист,
В орешек небольшой, да уж зато как чист,
И что за милая отделка.
И далее Дашенька на попытку Зарницкина поцеловать ее заявляет:
Нет, поцелуи вы извольте поберечь
Невесте вашей...
Или следующий отрывок:
К собачкам маленьким княгиня пристрастилась,
А я уж был влюблен: так спица ей достал,
Который был так мал,
Что в день ее рожденья
Привез его ей в чашке...
Или первый выход Зарницкина:
Я скакал фельдъегерям на диво,
Пять раз был выброшен... но в тридцать два часа...
.......................................................................................
Из Петербурга к вам не всякой бы поспел,
Зато уж я не пил, не ел...
и проч.
Имеются также совпаденья отдельных выражений: «обрыскал я весь свет»... «такая гиль»... «да нынче уж не то, что было» и проч. Мы не приводим соответственных мест «Горе от ума» по их общеизвестности. Комедия Шаховского была издана в 1818 году.
409
III
Русская комедия этого периода строилась по испытанным образцам европейского театра. Имена Гольдони, Реньяра, Бомарше, Мариво и особенно, конечно, Мольера — определяют круг традиций, воспринятых плеядой драматургов пушкинской эпохи. Все они воспитывались на классических шедеврах западной сцены, и это явственно отразилось на русской комедии грибоедовской поры.
Мольер, уже в течение целого столетия пребывавший в русском репертуаре, был, конечно, первым образцом для Шаховского и его школы. Еще в 1808 году будущий автор «Аристофана» взывает к знаменитому комику:
Мольер! Твой дар, ни с чьим на свете несравненный,
В отчаянье меня приводит всякий раз,
Как, страстью сочинять, к несчастью, ослепленный,
Я за тобой хочу взобраться на Парнас...
«Проснись, Мольер! Восстань и ум мой просвети!» — взывает Шаховской в своей сатире. И недаром комедия «Новый Стерн» украшена знаменательным эпиграфом из Мольера. В те же годы «Драматический вестник» ободряет драматурга Крылова вдохновительным лозунгом:
Дерзай вслед за Мольером...
В первой четверти XIX-го века русский мольеризм был в зените 1. Репертуарные списки интересующего нас трехлетия называют «Школу мужей» (в переводе Аксакова), «Ученых женщин» и «Le Médecin malgré lui», озаглавленную в переводе «Лекарь назло всем, или 1001-й обманутый опекун». Еще в 1814 году были возобновлены «Скапеновы обманы». Нужно ли напоминать, что еще в XVIII веке почти весь мольеровский репертуар успел пройти через русский театр?
Нашей драматургии не остается чужд и другой образец классической комедии — «итальянский Мольер»
________________________
1 Уже в XVIII веке на русской сцене идут. «Принужденная женитьба», «Тартюф, или Лицемер», «Скупой», «Лекарь поневоле», «Мнимый больной», «Мещанин во дворянстве», «Жорж Дандэн, или В смятение приведенный муж», «Мизантроп, или Нелюдим», «Скапеновы обманы», «Сганорел, мнением рогоносец», «Жеманные щеголихи», «Любовь доктора» и другие комедии Жана Пехелина Мольера.
410
Гольдони. Молодая труппа Шаховского ставит «Слугу двух господ», а «Драматический вестник», издаваемый тем же Шаховским, помещает в 1818 году специальную статью «О Гольдони, славном итальянском писателе». Не меньшим признанием пользовался Бомарше. Среди русских комиков были артисты, которые славились исполнением роли Фигаро. Пушкин, как мы видели, еще в Лицее восхищался «маленькой Розиной» на крепостном театре царскосельского мецената. Между Лицеем и ссылкой он мог видеть знаменитую комедию на петербургской драматической сцене, где она шла под архаическим названием «Фигарова женитьба» 1. Насколько ценил поэт этот шедевр мировой комедии, можно судить по его стихам 1830 года:
...Как мысли черные к тебе придут,
Откупори шампанского бутылку
Иль перечти «Женитьбу Фигаро».
Русский театр, чуткий к ценным достижениям европейской комедии, ввел в свой репертуар и комедии Мариво. Еще в 1814 году был поставлен на петербургской сцене его шедевр «Игра любви и случая», по отзыву Арапова — «одна из самых игривых пьес». Она, видимо, была прелестно разыграна Сосницким, «бойкой Асенковой», Рамазановым и Ширяевой2. Впоследствии Катенин перевел комедию Мариво «Les fausses confidences» 3, и мы видели, что на одном из представлений ее в 1826 году произошло примирение Колосовой-Каратыгиной с Пушкиным. В двадцатых годах, по возвращении из Парижа, русская артистка следовала указаниям своей знаменитой учительницы Марс, высоко ценившей пьесы Мариво.
Это был первый автор, сумевший придать новый тон французской драматургии после Мольера. Изящество, интимность и грациозность композиции, утонченность диалога, остроумие и лиризм сюжета, новая, более проникновенная трактовка любовной темы — все это созда-
_______________________
1 В Москве, на домашнем театре, в комедии Бомарше состязались два известнейших театрала-любителя Алексей Мих. Пушкин и Ф. Ф. Кокошкин в ролях Альмавивы и Фигаро.
2 Одну из постановок этой прелестной комедии в России стоит отметить особо. Во время пребывания французов в Москве оставшимися французскими актерами давались спектакли в театре Познякова на Большой Никитской, причем на представлении комедии «присутствовал сам Наполеон».
3 «Ложные признания» (фр.).
411
вало особый комедийный стиль, возобновленный впоследствии Альфредом Мюссе и косвенно отраженный в провербах Тургенева. Поэтика Мариво заключена в его признании: «Я обследовал в человеческом сердце все уголки, в которых может укрыться чувство любви, когда оно боится проявить себя, и каждая моя комедия имеет целью вывести его из этих прикрытий». Теофиль Готье признал в этом целую революцию на сцене, обеспечивающую Мариво решительное превосходство даже перед Мольером1.
Стиль этого театра полнее всего раскрывается из обычного сопоставления Мариво и Ватто. Недаром знаменитый живописец XVIII века так любил изображать актеров итальянского театра, с их балетными позами и блестящими шелковыми костюмами. «Они наполняют собою этот сказочный пейзаж, на фоне которого живописец вызвал свое видение галантного Декамерона и чувственной грусти, — говорит один из биографов Мариво, французский историк театра Ларруме. — Ватто и Мариво, эти беспокойные умы, недовольные жизнью и озабоченные поисками иной правды, снисходительные созерцатели свободных нравов, охваченные утонченно-нарядным видением мира в его умственных или пластических формах, — примешивали оба наблюдения к воображению, чтоб вызвать совершенно беспримерное создание в литературе и живописи. Из современной жизни они взяли все, что было в ней утонченного и остроумного, изгоняя все вульгарное и грубое. Они присоединили к этому то, что жило лишь в них самих, — то чувство какой-то химерической праздничности, которую ни природа, ни общество никогда не воплощали в такой пленительной форме»...
Мы видим, что обращение к Мариво свидетельствует о высоком культурном вкусе русской сцены начала столетия.
И, наконец, один из крупнейших преемников Молье-
____________________________
1 «У Мариво, — говорит Теофиль Готье, — вы начинаете ощущать биение человеческого сердца. Сквозь тысячу кокетливых игрушек здесь раскрывается нечто совершенно новое для того времени — углубленный анализ любви. Мольер, блиставший в живописи характеров, один только раз заставил прозвучать эту струну — в «Мизантропе»; в остальных случаях его влюбленные просто театральные «любовники», излагающие традиционные чувства и скроенные все на один лад».
412
pa — Реньяр был также представлен в русском театре. Вторая комедия Хмельницкого, «Шалости влюбленных», поставленная у нас в августе 1817 года, представляла собой перевод знаменитой пьесы Реньяра «Les I folies amoureuses» 1. У Арапова она ошибочно отнесена к мольеровскому репертуару. В комедии этой Реньяр обращается к итальянскому фарсу, чтоб создать живую, бурную и веселую буффонаду в сценических формах XVIII века. В прологе и эпилоге пьесы участвуют Карнавал, Безумие, Момус, а в самой пьесе — персонажи комедии от опекуна и любовников до субретки и классического слуги Криспина. Хмельницкий, отбросив пролог и эпилог, несколько понизил комизм разработки, хотя в остальном тексте вполне сохранил веселый тон Реньяра.
Весною 1817 года была поставлена у нас (и неоднократно шла в последующие годы) другая комедия Реньяра, «Игрок», в стихотворном переводе Алексея Михайловича Пушкина. Пьеса шла при превосходном составе: главные роли исполнялись Брянским, Яковлевым, Рамазановым, Жебелевым и Орловым. Постановку «Игрока» на русской сцене необходимо учитывать при изучении известного плана пушкинской комедии из быта игроков.
Мы видим, что в пору ранних театральных увлечений Пушкина перед ним прошли в превосходных воплощениях русских актеров классические образцы европейской комедии.
Насколько Пушкин сохранил навсегда склонность к этим традициям итало-французского театра, можно судить по беглой записи им сюжета будущего «Ревизора» (подаренного затем поэтом Гоголю). Вот как записался замысел веселой комедии.
«(Свиньин) Криспин приезжает в губернию NB на ярмонку — его принимают за Audass. Губернатор честный дурак, губернаторша с ним проказит. Криспин сватается за дочь». «В этом наброске перед нами, — замечает известный пушкинист театровед П. О. Морозов, — программа произведения, в котором главным лицом является пройдоха-лжец, сначала обозначенный было, для краткости, популярным именно в этом отношении именем издателя Отечественных Записок Павла Петр. Свиньина. Это имя Пушкин, однако, зачеркнул и заме-
_______________________
1 «Любовные безумства» (фр.).
нил именем еще более популярного типа итальянской commedia dell'arte, перешедшего из нее и во французскую драматическую литературу XVII и XVIII столетий, — именем Криспина, олицетворяющего добродушную и подчас глуповатую плутоватость. Этот пройдоха-слуга итальянской комедии является в губернский город на ярмарку», и проч.
Исследователь совершенно правильно отмечает, что Пушкин задумывал свой сюжет в общих формах итальянской или французской комедии, основанной на qui pro quo 1, с «криспиновским» характером главного лица.
Такова была власть бессмертных комедийных традиций. Комический эпизод российского чиновного быта, возникший в унылых недрах оренбургского захолустья, стал тотчас же облекаться поэтом в классические формы Мольера и Бомарше, Реньяра и Гольдони.
IV
Наряду с возрождением, ростом и совершенствованием стихотворной комедии этот период отмечен у нас возникновением водевиля. По свидетельству Полевого, в 1810—1812 гг. «водевилей еще не знали». А в самом начале двадцатых годов это уже был общепризнанный и любимый жанр.
В июле 1822 года, во время торжественного спектакля в память Дмитриевского, был поставлен пролог Шаховского «Новости на Парнассе, или Торжество муз». Автор, сам писавший водевили, решил в своей драматической поэме развенчать легкий жанр, грозивший захватить комическую сцену.
Когда Водевиль в полосатом костюме взбирается на Парнасе и доказывает Музам свое преимущество перед ними, Талия с возмущением произносит монолог о своем сопернике;
Его оружие — гремушка и свисток,
Которыми гремя, насвистывая шутки,
Он наскучает в трое сутки;
Мое ж — резец и кисть: одним казню порок
И режу на меди для общества уставы;
Другой живописует нравы.
И в чем успею я, то вечно не умрет.
..............................................................................................
______________________
1 недоразумении (лат.).
414
Но я, сражался с пороком,
Не низким шутовством, не странностью одежд
И не бесстыдным экивоком
Мои творения внесла бессмертья в храм;
А водевили-скороспелки,
Куплетцы, шуточки, забавныя безделки,
Никак не будут там.
Но это развенчание водевиля не встретило сочувствия в публике. Когда Меркурий изгоняет с Парнасса Водевиль и полосатый юноша скрывается с модным припевом, пародирующим куплеты Хмельницкого, — в партере раздалось дружное шиканье. Публика вступилась за обиженного Хмельницкого и за поруганный новый жанр, обещавший ей в будущем столько наслаждений.
К началу 20-х годов водевиль уже утвердился на сцене. В пушкинское трехлетие он еще только пробивал себе дорогу, мало выступая в качестве самостоятельного жанра и явно соприкасаясь с оперой-буфф, интермедией, «анекдотической комедией» или такой эклектической формой, как «комическое представление в одном действии с хорами, пением и балетами» (вроде «Именин Транжирина» Калабухина).
Датой рождения русского водевиля нужно считать премьеру «Казака-стихотворца» Шаховского. До него у нас были только комические оперы, после него стали появляться «оперы-водевили», пока наконец новый жанр не установился в качестве самостоятельного вида.
«Казак-стихотворец», по свидетельству Вигеля, «особенно примечателен тем, что первый выступил на сцену под настоящим именем водевиля. От него потянулась эта нескончаемая цепь сих легких произведений, которых ныне по три и по четыре ежедневно появляется на сцене. В первые годы появление каждого из них было происшествием для любителя театра».
В то время у нас преимущественно ставились оперы-водевили, т. е. легкие пьески с заметным преобладанием музыкальной части. Вот почему Пушкин вкладывает в этот термин особый оттенок, подчеркивающий этот музыкальный характер жанра. Водевиль для него прежде всего определяется ариями, напевами, аккомпанементом и почти сливается с понятием оперы или романса. Так, в «Графе Нулине»:
...Хотите ли послушать
Прелестный водевиль? — И граф
Поет.
415
Также и в «Арапе Петря Великого»: «Государство распадалось под игривые припевы сатирических водевилей». Жанр понимается преимущественно как музыкальное произведение.
В эпоху, когда было принято писать водевили сообща (по знаменитому рецепту Репетилова), приятели-театралы привлекали подчас и Пушкина к общей работе. Так, уже в 1826 году Катенин приглашает творца «Бориса Годунова» написать гривуазные куплеты к веселой французской комедийке. «У меня к тебе новая просьба, — сообщает он поэту 6 июня 1826 года. — Для бенефиса, следующего мне за «Андромаху», нужна была маленькая комедия в заключение спектакля; я выбрал «Minuit» 1, и некто мой приятель Николай Иванович Бахтин взялся мне ее перевести; но вот горе: там есть романс или куплеты, и в роде необыкновенном. Молодой Floridor (по-русски Владимир) случайно заперт в комнате своей кузины, молодой вдовы, ночью на Новый год и не теряет времени с нею; пока они разнеживаются, под окном дается серенада, в конце второго куплета бьет полночь, l'heure du berger 2; старики входят, застают молодых, и остается только послать за попом, ибо все прочее готово. Французские куплеты дурны, но я прошу тебя мне сделать и подарить хорошие. Ты видишь по ходу сцены, что они должны означать, а на все сладострастное ты собаку съел: сделай дружбу, не откажи. Музыку сделаем прекрасную; Кавос обещал мне давно, что он всегда готов к моим услугам. Пожалуйста, умница, не откажи; тебе же это дело легкое».
По свидетельству Н. О. Лернера, «с подобными просьбами Катенин не раз обращался к Пушкину». К сожалению, исследователям до сих пор не удалось установить точный текст пушкинских куплетов.
Существует предположение, что «куплеты для водевиля» были написаны Пушкиным. Имеется список Анненкова и, может быть, черновой автограф пяти шутливых строф:
Будь подобен полной чаше,
Молодых шастливой дом...
_____________________
1 «Полночь» (фр.).
2 Дословно: час пастуха (фр.).
416
Брюсов включил их в свое издание, отнеся их в отдел «сомнительных» и считая, что «трудно приписывать Пушкину эти более чем слабые стишки». Во всяком случае, можно допустить, с достаточной степенью вероятности, что поэт бывал причастен и в качестве автора к тогдашним опытам коллективной драматургии в области новорожденного водевиля.
V
Свои «Замечания о русском театре» Пушкин обрывает на следующей фразе:
«Оставим «неблагодарное поле» трагедии и приступим к разбору комических талантов»...
Кого же имел здесь в виду поэт? Кому из русских комедийных актеров он собирался посвятить вторую часть своей статьи? На это дает отчасти ответ сохранившаяся «Программа комедии», в которой действующие лица обозначены именами известных актеров. Из этого наброска явствует, что поэт интересовался Валберховой (которой в пьесе предназначена роль вдовы), Сосницким, Брянским, Рамазановым, Боченковым (по-видимому, роли игроков) и Величкиным (старый слуга). Список этот необходимо дополнить именем Елены Яковлевны Сосницкой, которой посвящен известный мадригал Пушкина.
Таковы комические таланты, обратившие на себя внимание поэта. Ряд сведений о них мы находим в записках современников.
«Русская комедия стояла в это время на самой блистательной точке своего существования, — читаем в театральных мемуарах эпохи, — Брянский — был тогда в цвете лет, силы и таланта. Валберхова и Колосова соперничали в красоте и даровании, Асенкова была прелестнейшая субретка, Рамазанов прекраснейший комик и амплуа ливреи, Величкин, Боченков тоже играли с успехом. Бобров, старинный актер, долго прозябавший в трагедии, наконец попал на настоящее свое амплуа и занял роли первых комиков, в которых отличался необыкновенною естественностью и простотою. Пономарев, тоже старый артист, был превосходен в ролях подьячих и стряпчих, а Рахманова неподражаема в своем амплуа комических старух. Наконец, Сосницкая (блиставшая еще в школе под именем Воробьевой, но вышедшая за-
417
муж за первого любимца публики Сосницкого в 1817г.) составляла тогда истинный бриллиант русской труппы, равно украшавший комедию, оперу и водевиль...»
Из всех этих актеров Пушкин в своих «Замечаниях» успел высказаться только о Валберховой. Говоря о Семеновой, он дает попутно оценку той, кого Шаховской хотел противопоставить знаменитой «Клитемнестре», или, по фигурному выражению Арапова, — за кем хотел утвердить «котурн и венок трагической актрисы».
«Было время, когда хотели с нею сравнивать прекрасную комическую актрису Валберхову, которая в роли Дидоны живо напоминала нам жеманную Селимену, так, как в роли ревнивой жены напоминает она и теперь Карфагенскую Царицу. Но истинные почитатели ее таланта забыли, что видали ее в венце и мантии, которые весьма благоразумно сложила она для платья с шлейфом и шляпки с перьями... Иные почитают лучшей ролью г-жи Валберховой роль «Ревнивой жены». Совершенно несправедливо. Разве они не видали ее в «Мизантропе», в «Нечаянном закладе», в «Пустодомах» и проч.?»
Валберхова принадлежала, видимо, к той категории умных, культурных и не слишком одаренных артисток, которых относят обычно к разряду «полезных». Дочь балетмейстера Валберха и ученица Шаховского, она превосходно владела сценической техникой. «Эта девица была прекрасно воспитана, образованна, — сообщает в своих воспоминаниях А. М. Каратыгина, — играла всегда с умом и благородством, но бесцветно, неоживленно, и хотя бывала хорошо понимаема зрителями, но никогда не приводила их в восторг. Ее ужимки, угловатые жесты, постоянная декламация даже и в комедии никогда мне не нравились». Другой современник отмечает, что «Валберхова, играя пьесу в стихах, читала слишком нараспев и делала неприятные жесты и мины».
И тем не менее она считалась одной из первых, актрис эпохи. По свидетельству Р. Зотова, «с молодостью и редкой красотою соединяла она блистательное воспитание, гибкий, звучный орган, много чувства, души и сценическую опытность», хотя при этом ей недоставало «физических средств для выражения сильных страстей». В первый период своей сценической деятельности она считалась серьезной соперницей Семеновой, и соревнование обеих артисток даже разделило зрителей на
418
две партии. Вернувшись на сцену в 1818 году, когда слава «Семеновой-Трагедии» была в зените, Валберхова, видимо, отказалась от всякого состязания с ней и сосредоточилась на комедийном репертуаре.
Из остальных актеров, упомянутых в сценарии пушкинской комедии, следует остановиться на Рамазанове.
«Он занимал амплуа слуг, — свидетельствует Вольф, — амплуа весьма важное в то классическое время, когда Мольер, Бомарше и Мариво были в большой моде на петербургской сцене. Он исполнял эти роли, особенно роль Фигаро, согласно старинным традициям французского театра, и притом его игра была проникнута веселостью».
Это был, очевидно, исполнитель ролей того «криспиновского» стиля, который Пушкин хотел возродить в задуманной им комедии 1833 года.
VI
Во главе комедийных актеров эпохи находилась чета Сосницких. Это самые блистательные представители русской комедии накануне двадцатых годов.
«По всей справедливости, первым и несравненным актером, — сообщает в своих «Театральных воспоминаниях» Куликов, — должен считаться Иван Иванович Сосницкий, первый заговоривший со сцены человеческим натуральным языком. До него было много величайших талантов... Но все они, следуя современной им рутине в подражании французским знаменитостям, предавались изысканной ненатуральной декламации, которую впоследствии прозвали драматическою ходульною игрою. Во Франции первый сбросил с себя эту рутину и заговорил по-человечески гениальный Тальма, а у нас Сосницкий.
Красивый, стройный, с выразительным и игривым лицом, с приятною и хитрою улыбкой, с живыми и умными глазами, он превосходно играл роли молодых людей — франтов, гвардейских офицеров, знаменитых бар и забубённых повес. Следя за современными ему выдающимися личностями, Иван Иванович и сам со сцены сделался авторитетом в одежде, в манере, в ловкости как светской, так и гвардейской молодежи... Это был любимец всей петербургской публики, приятель известных писателей: Пушкина, Хмельницкого и
419
друг.». В 1832 г. Соснипкий играл пушкинского Моцарта.
Этот тонкий и умный актер охотно лепил свои сценические образы по живым моделям. Согласно любопытному рассказу Аксакова, Сосницкий в роли Фальстафа мастерски изобразил Шаховского: «весь комизм его фигуры, походка, движения рук, все приемы и манеры, даже вся мимика лица, были переданы в совершенстве. Мне рассказывали, что сам же Шаховской, восхищавшийся на репетициях искусством Сосницкого, на настоящем представлении рассердился на своего любимца и ученика и нашел его игру каррикатурною. Копия была так похожа на оригинал, что в креслах поднялся хохот, послышались восклицания: «это Шаховской, это князь Шаховской», и последовало такое продолжительное хлопанье, что актеры принуждены были на время остановиться в представлении пьесы...»
Эта способность перевоплощаться поражала зрителей. Еще в 1814 году молодой Сосницкий исполнял в одной переводной комедии с переодеванием восемь различных ролей. Он свободно выступал и в балете, заменял заболевших танцоров и часто почти экспромтом исполнял пантомимные роли таких корифеев, как Огюст или Валберх. «В харáктерных танцах Сосницкий не имел соперников», — пишет Колосова-Каратыгина.
Разнообразие, блеск и законченность игры Сосницкого объясняется отчасти пройденной им превосходной школой. Он был учеником Дмитриевского, Дидло и Шаховского. «Жена его, Елена Яковлевна, красавица и талантливая актриса», — пишет Куликов. Дочь певца и первого буффа Воробьева, она считалась одной из лучших учениц Шаховского. Выступив на сцену в 1814 году, она долгое время выступала в операх, пробуя одновременно свои силы и в комедии, на которой вскоре и сосредоточилась. Она любила мольеровский репертуар и славилась в ролях Агнессы в «Школе женщин» и Дорины в «Тартюфе». В 1817 году, окончив театральное училище, она вышла замуж за Сосницкого. Через несколько дней после их свадьбы дирекция поставила «для рекомендации молодых Сосницких перед публикой комедию Грибоедова «Молодые супруги». Театр восторженно принимал обоих исполнителей заглавных ролей. «С этих пор имена Сосницких были тесно связаны в продолжение 38 лет на афише Императорских театров».
420
Особенно славились Сосницкие в «Женитьбе Фигаро», превосходя, по мнению современников, в ролях Фигаро и Сусанны даже французских исполнителей комедий Бомарше.
Пушкин был особенно близок к этой актерской чете. В одном из писем 1819 года он отзывается, правда, довольно холодно об игре молодой артистки. Но в письме из Кишинева от 26 сентября 1826 года он особо спрашивает о них Я. Н. Толстого. Нащокин свидетельствует, что уже в 30-х годах, разлюбив театр, поэт по-прежнему искренне любил Сосницкого. Памятью его отношений к Елене Яковлевне остался его известный мадригал:
«Вы съединить могли с холодностью сердечной
Чудесный жар пленительных очей —
Кто любит вас, тот очень глуп, конечно,
Но кто не любит вас, тот во сто раз глупей».
Сосницкие представляли на русской сцене тот блистательный тип романской комедии, который всегда отвечал театральным вкусам Пушкина. Вместе с Рамазановым, молодой Колосовой (уже выступавшей изредка в репертуаре Грибоедова, Крылова и Хмельницкого), Валберховой, Брянским и Бобровым они создали ту полосу в истории русской комедии, которую Зотов признал впоследствии самым блестящим ее периодом.
Таковы были актеры, развернувшие перед молодым Пушкиным репертуар Мольера, Бомарше, Мариво, Реньяра, Шаховского, Хмельницкого, Загоскина и Грибоедова.
VII
Удивительно ли, что Пушкин был пленен жанром комедии и мечтал проявить свои силы в этой именно области?
Пушкин был с малых лет мольеристом. Как известно, Сергей Львович славился мастерским чтением комедий Мольера и устройством домашних спектаклей, на которых, видимо, ставились бессмертные шедевры. Не удивительно, что старший сын его уже в отрочестве мечтал состязаться с великим драматургом и даже пробовал импровизировать комедии в его стиле. Знаменательно, что имя Мольера звучит уже в первой пушкинской
421
строфе, дошедшей до нас, — в известной французской эпиграмме на его комедию «Escamoteur»1, освистанную «партером», т. е. единственным зрителем — сестрою Ольгою. Не лишено значения, что в семье соседей Пушкина по Немецкой улице — Бутурлиных, где бывал в ранние годы поэт, сказывался тот же культ Мольера. Страстный актер-любитель — Дмитрий Петрович Бутурлин, по свидетельству его сына, «одинаково отличался в буффовых партиях итальянских опер и в комедиях; особенно был он хорош в ролях Альцеста в «Мизантропе» Мольера и в «Le bourru bienfaisant»2, комедии, переведенной с итальянского Гольдони».
Мы не имеем прямых сведений, был ли представлен мольеровский репертуар на царскосельском театре Варфоломея Толстого, где Пушкин смотрел Бомарше, но, во всяком случае, в «Городке» 1814 года он упоминает «М о л ь е р а - и с п о л и н а». Замечательно вообще обилие драматургов, представленных в тогдашней библиотеке Пушкина. Здесь и «соперник Эврипида» Вольтер, и Расин, и Мольер, и корифеи отечественной драмы — Фонвизин, Княжнин, Озеров и, наконец, Крылов, —
шутник бесценный,
Который Мельпомены
Котурны и кинжал
Игривой Тальи дал.
Не удивительно, что, пережив свое театральное трехлетие, Пушкин, с ранних лет охваченный веяниями театральной культуры, обращается сам к «игривой Тальи».
Анненков сообщает, что Пушкин в Кишиневе работал над «светской драмой» или комедией, в которой хотел «выставить в позорном свете безобразие крепостничества, а вместе с тем показать и темные стороны самого образованного общества нашего».
От этой обличительной комедии крепостного и шулерского мира сохранились программы и отрывки. Мы видели выше, что персонажи задуманной комедии обозначены здесь фамилиями известных актеров петербургского театра. Как истый драматург, Пушкин, задумывая пьесу, имел в виду постановку и, намечая героев, создавал роли для определенных исполнителей.
________________________
1 «Похититель» (фр.).
2 «Благодетельный ворчун» (фр.).
422
Вот как излагает содержание задуманных комедий Анненков: «Аристократическая вдова (Валберхова), имеющая любимого ею брата, желает спасти его от несчастной страсти к игре. Она советуется с своим любовником, тоже из высшего света и тоже игроком, но уже опытным и знакомым с проделками шуллеров. Любовник обещает ей содействие и на первом же игорном вечере у Сосницкого встречает шуллера Рамазанова, узнает его и принужден обыграть хозяина пополам с собою, но в шутку. Так и делается. Под конец сеанса они заставляют Сосницкого поставить на карту своего старого дядьку Величкина. Происходит раздирающая сцена, кончающаяся наставлениями, поучениями и проч.».
Соглашаясь, что в пьесе есть политические черты (образ молодого «либералиста» и проч.»), Венгеров оспаривает наличность обличения в программе пьесы и предлагает считать ее «комедией нравов».
Пушкин для своей комедии усвоил тот мольеровский стих (шестистопный ямб с парными рифмами), который утвердился в русской комедии до выработки Грибоедовым вольного метра русского комедийного стиха. Обычная форма рифмованных пьес Шаховского, Хмельницкого или молодого Грибоедова воспроизводится и в наброске пушкинской комедии.
— А, здравствуйте, maman.
— «Куда же ты? постой,
Я шла к тебе, мой друг. Мне надобно с тобой
О деле говорить...»
— Я знал.
— «Имей терпенье.
Мой друг. Не нравится твое мне поведенье...»
— А в чем же?
— «Да во всем. Во-первых, ты жены
Не видишь никогда, точь-в-точь разведены:
Адель всегда одна, все дома; ты в карете,
На скачках, в опере, на балах, вечно в свете;
Или нельзя никак с женою посидеть?»
Так безукоризненно усвоил поэт характерный стихотворный стиль ранней русской комедии.
Но если в области трагедии Пушкин от ранних опытов пришел к «Борису Годунову» и драматическим шедеврам Болдинской осени, свои комедийные замыслы он так и не осуществил. И мимолетным воспоминанием о его органической тяге к этому жанру остаются наряду с набросками кишиневской тетради импровизации французских комедий на заре его творчества, а на исходе
423
его жизни удачно задуманный образ российского Криспина. Пушкин исходит из Мольера и приходит к Гоголю-драматургу. На крайних гранях его творческого пути «Escamoteur» и замысел «Ревизора».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«Ни наших университетов, ни наших театров Пушкин не любил, — свидетельствует со слов Нащокина Бартенев, — не ценил Каратыгина, ниже Мочалова»...
Так оно, по-видимому, и было к концу жизни поэта. В 30-х годах интересы его идут мимо сцены. Юношеское увлечение балетом и драмой, видимо, совершенно прошло. Иные замыслы, иные творческие заботы, иная художественная школа и устремления. В 1826 году он еще мечтает о парижских театрах (письмо к Вяземскому от 27 мая) и, судя по «Графу Нулину», находится в курсе событий французской сцены (Тальма, Mademoiselle Марс, Потье, «прелестный водевиль» и проч.). Но отечественный театр перестает интересовать его. Русская Терпсихора уже не занимает поэта. Театральные события эпохи оставляют его равнодушным. Первые представления «Горе от ума» и «Ревизора», постановка «Ричарда III» по новому тексту, «Мария Стюарт» с Каратыгиной, дебюты Асенковой — все это мало привлекает его.
Но это охлаждение наступило не сразу. В свою южную ссылку поэт уезжал «театралом», и его скитальчества по скифским степям еще отмечены сценическими реминисценциями его ранней поры. Даже в азиатском Кишиневе, на спектаклях кочевой труппы немецких актеров, в жалком театральном сарае, освещенном сальными свечами, он вспоминает Семенову, Колосову и всех корифеев императорской сцены. В полуитальянской Одессе театральные возбуждения петербургского трехлетия оживают с необычайной силой, и поэзия темных лож вместе с эротической атмосферой кулис снова тревожат и захватывают поэта. Мы находим об этом живые свидетельства и в письмах этого времени, и в его позднейших записях, где с небывалой четкостью запечатлеваются каватины Россини, «и примадонна, и балет»... Примечательно, что именно здесь, под напором новых впечатлений от итальянской оперы, Пушкин замыкает в онегинские строфы свои пестрые театральные мемуары петербургской поры.
424
До сих пор сведения об итальянцах, пленявших Пушкина в Одессе, были крайне скудны. Нам удалось разыскать некоторые документы, проливающие свет на состав и организацию этого старого оперного театра. Как видно из архивных дел, одесская итальянская труппа настолько зарекомендовала себя, что слава о ей дошла до столиц и в 1819 году предполагалось выписать ее на зимний сезон в Москву. Не лишено интереса, что виднейшую роль в этом деле сыграл родственник Пушкина, известный театрал Алексей Михайлович Пушкин. В письме к одесскому военному губернатору Ланжерону А. Майков сообщает: «Камергер Алексей Михайлович Пушкин, возвратившись из Одессы, обнаружил здесь расположение Одесской Итальянской оперной труппы прибыть в Москву на зиму для представления двадцати спектаклей»... Из возникшей по этому вопросу служебной переписки можно почерпнуть некоторые сведения об итальянском театре, описанном в «Путешествии Онегина». Это была скромная маленькая труппа странствующих певцов. В ответном письме от 24 сентября 1819 г. Ланжерон сообщает, что во главе оперы находился директор Замбони, который сам выступал во всем репертуаре, что в труппе имелись только две певицы (очевидно, на главные роли) и что только две постановки могли идти без участия одной из этих примадонн. Труппа не имела дублеров, заболевание кого-либо из ее состава останавливало сразу все представление. Вот почему осеннее путешествие в Москву чрезвычайно испугало как антрепренера, так и артистов, из которых ни один, видимо, не бывал севернее Одессы. Из дальнейшего видно, что труппу выписывал и частично содержал город, плативший Замбони по 4000 в месяц. Ланжерон указывает как на крупную статью дохода на абонементы, выражавшиеся, впрочем, в весьма скромных цифрах — 10 или 12 лож и 20 кресел. Ввиду отказа итальянцев и ряда затруднений, возникших в Москве, гастроли так и не состоялись. Но о них, несомненно, шли разговоры в среде «московского дворянства», на средства которого и предполагалось выписать одесских актеров.
Во всяком случае, как бы ни были скромны силы и средства этой старой странствующей труппы, она, видимо, была предметом последнего театрального увлечения Пушкина. В эпоху зрелости поэта сцена почти перестает существовать для него.
Тем важнее изучить краткий период его молодости,
425
явственно прошедший под знаком театра. Эти сценические увлечения Пушкина приравниваются обычно к общему праздничному и даже разгульному образу жизни его первых петербургских лет. «Непрерывная цепь вакханалий и оргий», «распутство всех родов», водоворот наслаждений — к этому сводят нередко пристальный интерес вчерашнего лицеиста к праздничной эпохе русской сцены.
Между тем, совершенно очевидно, что театр для Пушкина не был лишь простым видом наслаждения. В трехлетие между Лицеем и ссылкой поэт прошел в петербургских партерах серьезную художественную школу. Подмостки трагической сцены, представленной превосходными дарованиями, во многом определили его эстетику и отразились на его страницах. Строгое и торжественное искусство Семеновой, высокая художественность замечательного артиста пантомимы и танца Дидло, расцвет русской комедии в эпоху молодости Сосницких — все это давало поэту несравненно больше впечатлений, раздумий и творческих импульсов, чем недавние беседы лицейских аристархов или даже штудирование классических риторик. Теория поэзии сменилась практикой тонкого синтетического искусства. Сцена не переставала щедро бросать ему образы и темы мировой поэзии. Для изучения творчества Пушкина не безразлично, что в эпоху его вступления в жизнь и художественную деятельность перед ним прошли — нередко в незабываемых драматических воплощениях — «Дон Жуан, или Каменный гость», «Карл XII», «Русалка», «Цыганский табор», «Игрок» Реньяра или «Волшебная флейта» Моцарта1. Русская сцена эпохи расцвета, когда основные жанры мирового театра сказались у нас с блестящей отчетливостью и проявились во всей выразительности выдающихся сценических воплощений, была поистине академией вкуса. Время преобладания больших драматических жанров перед надвигающимся господством мелодрамы и водевиля давало зрителю превосходные образы высшего художественного
_________________________
1 Отметим некоторые даты этих постановок (обычно премьер): «Дон Жуан, или Каменный гость» Кальциони — 2 сентября 1818 г.; «Карл XII», драма в 3 действиях, — 1 и 20 января 1820 г.; «Игрок» Реньяра в 1817 и 1818 гг.; «Цыганский табор» — 6 января 1819 г.; «Волшебная флейта» в 1818 и 1819 гг.; «Русалка» не сходила с репертуара.
426
стиля. И если прав Кузмин, что бывают эпохи массовой театральности, подлинной драматургической одержимости, как в Англии времен Шекспира или в Германии «бури и натиска», нужно признать, что в пору пушкинской молодости такое сценическое поветрие пронеслось по русскому обществу и, несомненно, захватило его первого поэта.
Оно оказалось для него плодотворным источником впечатлений и замыслов. Различные пласты художественной культуры постепенно раскрывались сознанию Пушкина. Салон Сергея Львовича, с его классическими традициями, стихами Расина и мольеровскими диалогами; царскосельские парки, с их воспоминаниями о державинской поре; впоследствии Киммерия, Таврида и другие уголки Черноморья, раскрывавшие поэту видения античности и пестрые отражения Леванта; наконец, строгий и стройный Петербург, с его преданиями XVIII века и русского ампира — все это поражало сознание, оплодотворяло мысль и отлагалось в его творчестве.
Но, может быть, одним из наиболее действенных в ряду этих возбудителей был «российский феатр». Уголок оркестра с оплывающей свечой, тяжелыми складками занавеса и гнутой ручкой старомодного контрабаса раскрывал поэту тот «волшебный край», который явственно отразился впоследствии в его поэмах и романах, театральных фрагментах и хвалебных посвящениях.
Этот искрометный и красочный мир неистощимых творческих возбуждений, бурно захвативший в свой магический круг юношу Пушкина, развертывает перед нами во всю ширь блистательную полосу старинных русских спектаклей, овеянных неувядаемой прелестью монологов Корнеля, арий Моцарта и тонких шуток Мариво.
Таков был торжественный и радостный пролог одной великой и трагической жизни.
КАРЬЕРА ДАНТЕСА
ПРЕДИСЛОВИЕ
Одна из самых печальных страниц русской истории — насильственная и преждевременная смерть Пушкина — может считаться в настоящее время весьма всесторонне изученной. Тем не менее сложность события, его политическое, литературное и «международное» значение, ошеломляющее впечатление, произведенное им на современников, особая заинтересованность в нем правительств Голландии и Франции вместе с неослабным вниманием к нему всей большой европейской прессы втягивает в его орбиту такое обилие лиц и фактов, что даже после выдающегося исследования покойного П. Е. Щеголева тема не может считаться исчерпанной и ряд вопросов, с нею связанных, окончательно решенным. Архивные папки различных ведомств, комплекты старых газет, малоизученные иностранные источники об эпохе Николая I и Наполеона III еще хранят ряд существенных свидетельств о главных участниках петербургской трагедии 1837 года. Если для нас остаются недоступными секретные документы первостепенной важности, хранящиеся в государственных архивах Голландии и в сообщении которых голландское министерство иностранных дел в свое время отказало русскому представителю, — можно уже и теперь дополнительно включить ряд неопубликованных или малоизученных материалов в обширное и жестокое «дело» о последней дуэли Пушкина. В частности, для вскрытия всей социально-политической основы конфликта чрезвычайно важно обстоятельно изучить его главных участников, то есть в первую очередь врагов и убийц Пушкина. Чем точнее будет наше
428
знание о них, тем больше света прольется на темные и запутанные ходы исторической драмы, приведшие 27 января 1837 года к смертельной развязке на Черной речке. Ряд бытовых документов о ненавистном Пушкину нидерландском посланнике Геккерне, материалы о блестящей политической карьере его приемного сына в эпоху Второй империи во многом разъясняют их облики, наглядно показывая нам, в кругу каких людей приходилось вращаться поэту в последний период его биографии.
В петербургском обществе тридцатых годов эти враги Пушкина не были одиноки. Видные представители правительственных кругов, как супруги Нессельроде или министр народного просвещения Уваров, не могли скрыть своей вражды к поэту. Крупнейшие сподвижники самодержавия, гордившиеся своей принадлежностью к высшему слою международной «аристократии», еще цепко удерживавшей в своих руках верховную власть во всех европейских странах, явственно ощущали в Пушкине сословного отщепенца, лишенного основных признаков их касты — богатства, титулов, государственного влияния. Для вице-канцлера, министров и послов, окружавших Николая I, Пушкин был деклассированным дворянином, уже открыто примкнувшим в политике к оппозиции, а в обществе — к тому tiers-état 1, которое до Великой французской революции было ничем, а после нее стало всем. В 1828 году Пушкин находился под настоящим политическим судом высшего государственного сословья, и дело о распространении стихов «на 14 декабря» рельефно выдвинуло глубочайшую социальную отчужденность всего состава верховного трибунала от маленькой горсти подсудимых, к которой принадлежал и первый поэт страны. С одной стороны — виднейшие представители дворянства, судившие недавно декабристов, — князья А. Куракин, Д. Лобанов-Ростовский, Александр Голицын, Алексей Долгорукий, Кутузов, графы В. Кочубей, П. Толстой, А.Чернышев, Строгановы; с другой — учитель Леопольдов, прапорщик Молчанов, штабс-капитан Алексеев и «сочинитель» Пушкин, главный виновник процесса, дерзко подрывавший престиж государства и церкви своей «Гавриилиадой» и «Андреем Шенье». Через несколько лет судьба ввела Пушкина в
______________________
1 третье сословие (фр.).
429
этот замкнутый круг и уже до самой смерти не выпускала его из того парадного мира, в котором он так мучительно ощущал свое политическое и сословное одиночество. Стоит взглянуть на списки дворцовых чинов Николая I, где рядом с почетными сановниками, разукрашенными бесчисленными орденами и званиями, перечень которых занимает целые страницы, лаконично назван в рубрике «вторые чины двора» «Александр Пушкин, титулярный советник по ведомству иностранных дел», чтоб почувствовать глубочайшую пропасть между бесчиновным автором «Медного всадника» и блестящим синклитом его вчерашних политических судей. Поистине образ бедного Евгения «пред горделивым истуканом» возникает в сознании современного читателя при сопоставлении столь разнородных записей придворного альманаха 1836 года.
Историк Пугачева, редактор крупнейшего ежемесячника, беспощадный политический сатирик в своих эпиграммах и памфлетах на министров и царей, Пушкин под конец жизни принадлежал к той формирующейся прослойке русской литературной интеллигенции, в среде которой его атрибут «шестисотлетнего дворянства» отступал перед личными свойствами его гениального дарования. Классовая отчужденность этих «бедных правнуков» от сиятельных и полновластных представителей столбовой и новой знати заметно сказалась в момент гибели Пушкина в знаменитой инвективе Лермонтова и в малоизвестных парижских письмах Андрея Карамзина, сына историка, к его матери:
«Поздравьте от меня петербургское общество, маменька, — оно сработало славное дело! Пошлыми сплетнями, низкою завистью к гению и красоте оно довело драму, им сочиненную, к развязке! Поздравьте его, оно стоит того. Бедная Россия! Одна звезда за другою гаснет на твоем пустынном небе, и напрасно смотрим, не зажигается ли заря, — на востоке темно!..
То, что сестра мне пишет о суждениях хорошего общества, высшего круга, гостиной аристократии (черт знает, как эту сволочь назвать!), меня нимало не удивило: оно выдержало свой характер. Убийца бранит свою жертву, и это должно быть так, это в порядке вещей... Быстро переменились чувства в душе моей при чтении вашего письма, желчь и досада наполнили ее при известии, что в церковь пускали по билетам только la haute
430
société 1. Ее-то зачем? Разве Пушкин принадлежал к ей? С тех пор как он попал в ее тлетворную атмосферу, его гению стало душно, он замолк... meconnu et deprecie il a vegete sur ce sol arride et ingrat et il est tombe victime de la medisance et de la calomnie 2. Выгнать бы их и впустить рыдающую толпу, и народная душа Пушкина улыбнулась бы свыше!» 3
Так определял социальную среду, окружавшую поэта в момент его смерти, близкий ему по воззрениям наблюдатель, во многом, вероятно, выражая его собственные ощущения перед целым обществом, ставшим его палачом.
От возмущения современников и ненависти потомков следует перейти к детальному изучению врагов и убийц поэта. Привлечение новых данных к истории международной реакции и легитимистской партии тридцатых годов в лице поклонников Меттерниха и адептов Священного союза разъясняет многое в причинах и мотивах знаменитого столкновения. В частности, более пристальное изучение Геккернов тем уместнее, что сведения о них в печати изобилуют ошибками, от которых не свободны и новейшие публикации материалов по Пушкину 4. Ошибки эти показательны для явно поверхностного и чересчур «обобщенного» отношения исследователей к непосредственным противникам Пушкина, словно не заслуживающим от них обычного научного внимания. Между тем, если прав был герой Гомера, моливший богов ниспослать ему счастливый дар «ясно видеть лицо врага», нам необходимо со всей тщательностью изучить облики соперников и убийц поэта: только при этом усло-
______________________
1 высшее общество (фр.).
2 Непризнанный и обесцененный, он прозябал на этой бесплодной и неблагодарной почве и пал жертвою злословья и клеветы (фр.).
3 «Старина и новизна». М., 1914, XVII, 291—292, 294.
4 Так, в статье о д'Антесе в Большой советской энциклопедии неверны сообщения, что он был приговорен военным судом к расстрелу, что впоследствии он был «одним из крупнейших деятелей переворота 2 декабря 1851 г.», что революция 1830 г. подорвала материальное благополучие семьи д'Антесов-Геккернов (в 1830 году никакой семьи д'Антесов-Геккернов не существовало, так как Жорж д’Антес был усыновлен голландским посланником лишь в 1836 г. БСЭ, XX. М., 1930, 410). Неверны также сообщения «Путеводителя по Пушкину» (Прил. в «Красн. ниве» на 1931 г.) о приезде д'Антеса в 1852 г. в Россию с чрезвычайным поручением к Николаю I; оставив Петербург в 1837 г., д'Антес никогда в Россию не возвращался.
431
вии будут расшифрованы бесчисленные политические загадки, окружающие печальнейший из поединков, и до конца раскрыта тяжелая личная драма, приведшая к смерти Пушкина.
Некоторые документы, и материалы на эту тему, оставшиеся за пределами внимания прежних исследователей, мы и предлагаем вниманию читателя.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРЬЕРА ДАНТЕСА
I
Счастливая линия успехов Жоржа д'Антеса трижды обрывалась крупными историческими событиями: Июльской революцией, смертью Пушкина и падением Второй империи. История восхождения и крушения сен-сирского юнкера в императорском Петербурге тридцатых годов достаточно изучена. Но дальнейшая политическая биография убийцы Пушкина известна лишь в самых общих чертах, хотя деятельность его в качестве тайного посланника Людовика-Бонапарта к северным державам и видного сенатора при Наполеоне III наиболее полно освещает его облик дельца, комбинатора и авантюриста, уже явственно сквозивший под беспечными чертами юного петербургского кавалергарда.
Целое десятилетие после дуэли 1837 года Жорж Геккерн остается не у дел. Он живет в глухой пограничной провинции, вдали от политики, не пытаясь выступать снова на поприще большой военной или государственной карьеры. Во Франции пребывает у власти Орлеанская династия, против восшествия которой он бунтовал в 1830 году, защищая белое знамя старших Бурбонов. После смертного приговора, вынесенного ему в Петербурге военным судом, он воздерживается от новых поисков счастья на чужбине. Довольствуясь скромной общественной ролью, предоставленной ему согражданами в его эльзасском затишьи, он в 1847 году носит официальное звание «помещика-капиталиста, члена главного совета Верхнерейнского департамента, жительствующего в городе Сульце» 1.
_____________________
1 Доверенность Геккерна «доктору и юрисконсульту» Францу фон Миллеру по делу о наследстве, оставшемся после его тещи Гончаровой, 26 октября 1848 г. (Архив внешних сношений).
432
Но, со свойственной его биографии резкой контрастностью переходов, он уже в следующем году облечен почетным званьем «народного представителя в Национальном собрании». В это время он уже живет в Париже. Вокруг него развертываются события 1848 года. Пронеслась февральская революция. Орлеаны пали, Луи-Филипп изгнан из Франции. Учредительное собрание настроено непримиримо к идее коренного социального переустройства. Давнишний легитимист Жорж Геккерн занимает в нем, согласно фамильным традициям, крайнюю правую. Это группа землевладельцев, избранных под влиянием католического духовенства. Их немного: на 800 республиканцев приходится всего 100 аграриев; не высказываясь открыто против республики, они упорно проводят реакционную политику и борются с социальными тенденциями собрания. Следует думать, что и эльзасский «помещик-капиталист» отнесся с полным сочувствием к изгнанию из состава правительства социалистов Луи Блана и Альбера. Фамильные предания д'Антесов свидетельствуют, что, когда в исторический день 15 мая члены рабочих клубов заняли помещение Учредительного собрания, чтобы разогнать его и провозгласить временное правительство с Бланки, Барбесом и Альбером во главе, депутат верхнего Рейна «спас жизнь одному приставу, защитив его своим телом».
Таковы были политические дебюты Ж. Геккерна в центре мировой политики — Париже. Он не выдвигается в Национальном собрании своими речами (ораторские лавры доставит ему только императорский Сенат), но приобретает известность благодаря своей внушительной внешности (способной, как мы видели, оборонять даже драбантов Бурбонского дворца) и сопутствующей ему славой бесстрашного бретера, застрелившего Пушкина. Репутация эта прочно связана с его именем. Он избирается в арбитры парламентских дуэлей. В конце 1848 года член Собрания Биксио обвиняет Тьера в неблаговидной тактике перед президентскими выборами. Бывший министр Луи-Филиппа считает необходимым вызвать оскорбителя, а в секунданты выбирают знатока дуэльного права Жоржа Геккерна. 20 декабря 1848 года д'Антес мог живо вспомнить снежный плацдарм на Коломяге. Но в отличие от 27 января 1837 года политический поединок французских депутатов прошел бескровно и закончился примирением.
433
Отныне д'Антесу обеспечена дружба Тьера, во многом весьма родственного ему искателя политических успехов, славы и золота. Будущий усмиритель Коммуны представлял собою законченный тип авантюриста-завоевателя, и недаром именно он послужил Бальзаку прототипом для его «арривиста» Растиньяка. Адвокатура, журналистика, салоны, связи, личные романы — все служило безвестному провинциалу двадцатых годов трамплином для его политической и финансовой карьеры. Его новейшие биографы не скрывают, что тщеславие и жизненные аппетиты «господина Тьера» сообщали его убеждениям недопустимую гибкость и нередко обращали его к весьма неприглядным методам достижения своих целей. Но в течение сорока лет этот неразборчивый делец принимал у себя всех знаменитостей Парижа и Европы, стремясь упрочить свою популярность и влияние. В салонах известного особняка на улице Сен-Жорж Геккерн мог в беспечной обстановке светской беседы незаметно осуществлять сложные и тонкие задания видного сподвижника бонапартовской диктатуры.
Уже с первых шагов своей большой политической деятельности д'Антес заметно приближается к самому крупному авантюристу эпохи — Луи-Бонапарту. По свидетельству Метмана, Жорж Геккерн входил в «комитет, известный под именем «Комитета улицы Пуатье» и подготовивший водворение Империи». Следует расшифровать это малопонятное обозначение. К концу 1848 года роялистская и католическая партия сконструировались в «партию порядка» под руководством «Комитета улицы Пуатье», возглавляемого лидерами трех фракций: орлеаниста Тьера, легитимиста Беррье и католика Монталамбера. Они предложили свою поддержку Кавеньяку на условиях закрытия рабочих клубов и ряда других реакционных мер, которые представитель республиканцев вынужден был отклонить. Комитет решил поддерживать Луи-Бонапарта, принявшего все условия. 10 декабря произошли президентские выборы, на которых Бонапарт получил 5 1/2 миллионов голосов, его соперник Кавеньяк лишь 1 1/2 миллиона, Ледрю Роллен 370 тысяч, а знаменитый Ламартин всего только 8 тысяч. Маркс объяснял этот успех тем, что «Бонапарт — представитель самого многочисленного класса французского общества, представитель мелких
434
крестьян-собственников. Подобно тому, как Бурбоны — династия крупной поземельной собственности, а Орлеаны — династия денег, Бонапарты — династия крестьян, т. е. французской народной массы» 1.
Между тем ход политических событий дает возможность Ж. Геккерну шире проявлять свою реакционную программу.
13 мая 1849 года было избрано Законодательное собрание, значительно видоизменившее соотношение сил в народном представительстве Франции. Против 250 республиканцев монархически-католическая коалиция улицы Пуатье выдвигала теперь 500 представителей от «партии порядка». Таким образом, исполнительная и законодательная власть оказались в союзе против республиканской партии. Народное собрание принимает отчетливую реакционную окраску. Принц-президент открыто стремится к единоличной власти, требуя пересмотра конституции.
17 июля 1851 года Виктор Гюго выступал в Законодательном собрании против проекта Луи-Бонапарта. Он указал на три революции, обновившие Францию за полстолетия и установившие в ней республику: «Французский народ выточил в неразрушимом граните и установил посреди старого монархического континента первую основу этого грандиозного здания будущего, которое когда-нибудь получит название «Соединенные штаты Европы»...
Последнее выражение, впервые прозвучавшее с трибуны, вызвало изумление и ропот на правых скамьях. Гюго продолжал: «Эта революция — беспримерная в Европе, это идеал великих мудрецов, осуществленный великой нацией, это перевоспитание народов по примеру Франции. Священная цель ее — всемирное благо, это как бы новое искупление человечества. Это эра, предсказанная Сократом и за которую он выпил цикуту; это деяние, осуществленное Иисусом и за которое он был распят»...
Бурные протесты на правых скамьях. Крики «К порядку!». Аплодисменты слева. Длительное и всеобщее возбуждение.
Г. де Фонтен и несколько других: «Это кощунство»
______________________
1 К. Маркс. «18 брюмера Луи-Бонапарта», с. 98. (См.: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, т. 8, М., 1957, с. 207. — Ред.)
435
Г. де Геккерн 1: «Нужно было бы предоставить нам право свистеть, если рукоплещут подобным заявлениям».
Гюго продолжал свою речь, неоднократно прерываемую с правых скамей, в том числе еще несколько раз репликами Геккерна.
В это время представитель Альзаса уже открыто примкнул к бонапартистам, от которых его отделяло некоторое время его легитимистское прошлое. Но уже в 1850 году, когда власть принца-президента упрочилась и он начал открыто стремиться к императорской диктатуре, бывший паж герцогини Беррийской решился изменить белому знамени. Согласно свидетельству его внука Луи Метмана, «в 1850 году, несмотря на легитимистские привязанности его семьи, он присоединился к принцу Луи-Наполеону, полагая, что его родина может вновь обрести покой лишь при условии сильной власти. Таким образом, он очутился в числе политических деятелей, образовавших «Комитет улицы Пуатье» и подготовивших водворение Империи». Сложная ситуация политических партий во Франции начала пятидесятых годов, как и факты дальнейшей деятельности Жоржа Геккерна, дают, впрочем, основание предполагать, что он не вполне разорвал с легитимистами, а только примкнул к тому крылу роялистской партии, которое отстаивало компромисс и перемирие с принцем-президентом. Он принадлежал, видимо, к той группе легитимистов, которая 1 декабря 1851 года вечером накануне переворота предложила Луи-Наполеону свое сотрудничество. Во всяком случае, он находился в этот исторический вечер на обычном понедельничном приеме в Елисейском дворце. Современные свидетельства сообщают, что принц-президент, искусно скрывая свою озабоченность, принимал у себя в этот вечер послов, министров, депутатов, военных, знатных иностранцев: присутствовали мистрис Нортон, маркиз Дуглас, граф Флао, де Бомон-Васи, де Геккерн. К 10 часам начался разъезд. Озабоченность главы правительства объяснялась труднейшей политической ситуацией: президентские полномочья Луи-Наполеона заканчивались в мае 1852 года, и,
_______________________
1 Впоследствии сенатор Империи с годовым окладом в 30 тысяч франков. (Примечание В. Гюго.)
436
согласно конституции, он не мог быть переизбран ранее 1856 года. Орлеанисты во главе с Тьером подготовляли избрание в президенты принца Жуанвильского, одного из сыновей Луи-Филиппа, чтоб вслед за избранием короновать его на королевский престол. Необходимо было спешно предупредить события и восстановлением империи Бонапартов парализовать реставрацию Орлеанской монархии.
Луи-Наполеон избрал для осуществления переворота трех сотрудников: военного министра Сент-Арно, префекта полиции де Мопа и депутата де Морни (своего единоутробного брата). В течение двух недель были обдуманы все детали и разрешены все трудности предстоящего чрезвычайного шага. Вечером 1 декабря легитимисты предложили президенту свое сотрудничество, которое не было принято. Но обстоятельство это указывает на пристальный интерес Жоржа Геккерна к развертывающимся историческим событиям.
Напомним в общих чертах их политические цели и общий ход.
Через полчаса после разъезда гостей из Елисейского дворца в кабинете принца-президента собрались в последний раз перед выступлением главные участники заговора.
Луи-Наполеон извлек из письменного стола папку с надписью синим карандашом «Р у б и к о н». Здесь были собраны все проекты и планы переворота; роль каждого участника была точнейшим образом предопределена.
Принц-президент начал с того, что вручил своему флигель-адъютанту полковнику Бевилю текст прокламаций, которые ночью должны были быть отпечатаны в национальной типографии и на рассвете расклеены по всему городу. Воззвание начиналось словами: «Во имя французского народа! Национальное собрание распущено. Всеобщее голосование восстановлено. Французский народ созван в избирательные комиссии. Осадное положение объявлено в пределах первой военной дивизии»...
Луи-Наполеон отдает последнее распоряжение: он назначает своего брата герцога Морни министром внутренних дел и предписывает ему ранним утром занять министерство. Своему преданнейшему стороннику Персиньи он поручает занять войсками дворец Националь-
437
ного собрания; военный министр генерал Сент-Арно распределит бригады по нужным местам и организует осадное положение. Префект полиции де Мопа арестует на рассвете всех опасных лиц: Тьера, Кавеньяка, Шангарнье, Ламорисьера и около 70 других. К 8 часам утра четыре основные меры политического переворота должны быть осуществлены и закончены.
С точки зрения техники политического переворота замысел был выполнен образцово: в 6.15 были арестованы 78 политически «опасных» лиц; в 6.30 войска занимали свои посты; в 7 часов декреты о роспуске Собрания и новой власти расклеивались на стенах Парижа; ровно в половине 8-го Морни занимал министерство внутренних дел в сопровождении 250 стрелков. На другое утро президент назначал своих первых министров. Впоследствии Гамбетта в одной из своих речей назвал их «безвестными людьми, без таланта, без имени, без чести, без положения — кучкой дельцов, потерянных в долгах и преступлениях!». Вскоре к этой первой горсти преданных единомышленников были привлечены и легитимисты. Отклонив их сотрудничество для непосредственного осуществления переворота, Наполеон принял его сейчас же после своего «18 брюмера», стремясь укрепить свое положение силами враждебных партий и всемерно использовать для престижа и упрочения новой власти разногласья и растерянность в среде своих врагов.
Переворот 2 декабря поставил легитимистов в затруднительное положение. Действовать против Луи-Наполеона было равносильно приобщению к революции; высказаться за него было предательством монархической идеи. Большинство создало фикцию о том, что Луи-Наполеон — предшественник законного короля, подготовляющий трон Генриху V, а потому в известных границах допустимо служение ему. Наконец горсточка роялистов, отбросив всякие стеснения и маскировки, открыто и решительно перешла на сторону победившего Бонапарта, за что и получила от него высшую награду — кресла сенаторов. К этой группе принадлежал и Жорж де Геккерн.
Сообщение Луи Метмана, что «кресло сенатора вознаградило в 1852 году» успех миссии Жоржа Геккерна к иностранным дворам (Австрии, Пруссии и России), оказывается ошибочным. Дипломатическая поездка
438
Геккерна относится к маю 1852 года, между тем уже 27 марта императорский декрет пополнял состав Сената, установленный в феврале, пятью новыми членами, в том числе парижским архиепископом, герцогом Мортемаром и бароном де Геккерном. Возможно даже, что намечавшаяся миссия к Николаю I по важнейшему государственному вопросу способствовала возведению будущего чрезвычайного посла в высокое звание члена Законодательного собрания.
Во всяком случае, 27 марта 1852 года открывалась — почти на целое двадцатилетье — новая эра в биографии Жоржа де Геккерна. Это эпоха осуществления его честолюбивых замыслов и грандиозных финансовых вожделений. В качестве члена Сената он имеет непосредственное прикосновение ко всем историческим выступлениям Франции — Крымской кампании, итальянскому походу, франко-прусской войне. Седанская катастрофа, положившая конец владычеству Наполеона III, знаменует и завершение политической карьеры младшего барона де Геккерна.
II
Вскоре принц-президент возложил на молодого сенатора важнейшее политическое поручение. Необходимо было до провозглашения во Франции империи заручиться гарантией признания нового режима сильнейшими северными державами. Эту секретную дипломатическую миссию Луи-Наполеон и поручил Жоржу Геккерну. Вероятно, правительство принца-президента считалось с известными связями этого международного барона — по отцу француза, по матери немца, по приемному отцу — голландца, в придачу еще женатого на русской. Было известно, что старый барон Луи фон Геккерн занимает видное положение при австрийском дворе, что родственники Жоржа по матери, Гацфельдты, влиятельны в Пруссии, что русский вице-канцлер Нессельроде издавна благоволит к нему, а Николай I высказал ему в трудную минуту исключительное расположение. Во всяком случае, в мае 1852 г. Жорж Геккерн отправился в Вену и Берлин, где как раз гостил у своего шурина — короля прусского — русский император.
439
Перед нами неизвестное письме Жоржа Геккерна к канцлеру Нессельроде с просьбой аудиенции у царя.
«Берлин, 18 мая 1852. Отель де Люти под Липами, № 44.
Господин граф! Прибыв сегодня утром из Вены, я немедленно же отправился в Потсдам, чтобы иметь честь повидаться с Вами и узнать у Вас, когда император удостоит принять меня. К сожалению, Вы выехали за город как раз перед тем, как я явился в Ваш отель. Имею честь поэтому, господин граф, просить Вас не отказать мне в сообщении намерений его величества, в распоряжении которого мне приказано всецело находиться. Примите, господин граф, уверение в моем глубочайшем уважении и полной преданности.
Барон де Геккерн.
Господину графу Нессельроде».
Николай I, соглашаясь на свидание, поручил предупредить посланца, что русский император не может принять его в качестве представителя иностранной державы ввиду приговора военного суда, удалившего д'Антеса с русской службы; но если он желает предстать перед царем как бывший офицер его гвардии, осужденный и помилованный, Николай согласен выслушать то, что он имеет сообщить ему от главы Французской республики.
Жорж Геккерн с полной готовностью принял это условие, и свиданье состоялось утром 10/22 мая.
Согласно депеше канцлера Горчакова к русскому послу в Париже Киселеву из Потсдама от 15/27 мая 1852 года, «г. де Геккерн сообщил, что принц Луи-Наполеон, удовлетворенный своим положением, озабоченный исключительно счастьем Франции и укреплением учреждений, единственно способных обеспечить силу правительству и спокойствие стране, не питая при этом никаких честолюбивых планов вовне, но стремясь прежде всего к сохранению мира, будет поддерживать указанное состояние, пока ему это позволят обстоятельства; но что он вынужден все же предвидеть случай, когда они заставят его изменить республиканскую форму правления вследствие единодушного пожелания, которое выразит ему нация законным путем; что об этой возможности он желает заранее договориться с
440
иностранными дворами и представить им уверение, что восстановление империи, если оно осуществится, не внесет никаких изменений в его внешнюю политику; что он готов представить им все желательные гарантии своих мирных намерений и своей твердой воли уважать существующие договоры, как и территориальные границы, ими установленные, что в целях дать неопровержимое доказательство искренности своих мирных намерений он даже приступит к разоружению и что за это он просит державы открыто признать его, выразить ему свое доверие и благорасположение и поддержать его в борьбе с революционной партией» 1.
В ответ Николай I заявил о своем полном сочувствии перевороту 2 декабря, оказавшему услугу «делу порядка» и торжеству «консервативных принципов», но рекомендовал Луи-Бонапарту воздержаться от возведения себя в императорский титул.
Следующая депеша, до сих пор не опубликованная, показывает, какое значение придавал Николай миссии Геккерна и, одновременно, как мало доверия он питал к нему.
«Проект депеши г. Киселеву. Утвержден 12/24 мая 1852 г.
Вы должны понять, насколько нам важно, чтобы президент не заблуждался относительно подлинного смысла слов, которые император обратил к барону Геккерну, и одновременно удостовериться в точности, с какою сей последний даст в них отчет. С этой целью его величество приказал мне направить к Вашему сиятельству предыдущую депешу. Быть может, было бы нелишним показать ее принцу Луи-Наполеону в аудиенции, которую Вы испросите у него, что даст Вам также возможность проконтролировать отчет барона Геккерна. Примите и пр.».
Миссия Жоржа Геккерна увенчалась полным успехом. Уже 15/27 мая 1852 года Горчаков сообщал в секретной депеше Киселеву, что три «союзных двора» (то есть Австрия, Пруссия и Россия) решили в случае за-
______________________
1 А. М. Заиончковский. Восточная война 1853—1856 гг., т. I, Приложения, стр. 228, № 50: Депеша канцлера Киселеву 15/27 мая 1852 г., № 13 из Постдама (на французском языке).
441
мены Луи-Наполеоном президентского звания императорским титулом признать по получении обещанных гарантий принца-президента императором и что такое признание надлежит сообщить французскому правительству «от имени нашего августейшего повелителя». Это открывало перед Жоржем Геккерном широкие политические перспективы при дворе нового императора и на трибуне верхней палаты.
III
Согласно составленной Луи-Наполеоном конституции 1852 года (еще до принятия им императорского титула), высшая и почти неограниченная власть во Франции была предоставлена президенту республики (верховное командование армией и флотом, объявление войны и осадного положения, заключение союзов и торговых договоров, назначение на все государственные должности, право помилования и законодательной инициативы, право созыва и роспуска палат). В качестве совещательных органов были восстановлены Законодательный корпус и Сенат. Последнее учреждение представляло собой самую своеобразную креатуру нового режима. Кардиналы, маршалы и адмиралы считались сенаторами по должности; остальных назначал глава правительства «среди людей, отмеченных знаменитостью имени или состояния, талантом или блеском своих услуг». Отправление этих высших и почетнейших обязанностей признавалось в принципе безвозмездным. Тем не менее, составляя гражданский лист в декабре 1852 года, Сенат не забыл своих членов при распределении крупнейших государственных окладов и определил оплату услуг каждого из них ежегодной суммой в 30 тысяч франков. Звание сенатора было пожизненным и несменяемым. Не имея непосредственного отношения ни к законодательной, ни к исполнительной, ни к судебной власти, Сенат выполнял неопределенную функцию «оберегать конституцию», разъяснять и в некоторых случаях дополнять ее, при условии обязательной санкции президента. Составленный почти сплошь из людей преклонного возраста, наполеоновский Сенат беспрекословно подчинился всем требованиям и положениям главы правительства и в течение двух десяти-
442
летий являл картину полной бесполезности и оторванности от жизни: он не изучил ни одной проблемы эпохи, ни разу не прислушался к общественному мнению, не предложил ни одного улучшения и ни в одном вопросе не проявил инициативы. Сессии его проходили совершенно незамеченными. В 1870 году он яростно требовал войны с Пруссией, а после 4 сентября собрался в последний раз, чтобы «послать императору последнее пожелание и последний привет»... Общий облик Сената Второй империи метко очертил Проспер Мериме, описывая свое волнение перед одним из выступлений в высоком собрании: «Я, впрочем, успокоился, вспомнив, что передо мною 200 дураков и что нечего перед ними волноваться»...
Даже в этом раболепном учреждении Жорж Геккерн занимал крайне правую позицию и выступал в защиту воззрений Наполеона III с большой страстностью и заносчивостью.
Особенный интерес представляет его речь по итальянскому вопросу 28 февраля 1861 года, направленная против оппозиционера и либерала — принца Наполеона-Жерома (кузена императора).
В современных отчетах находим об этом выступлении следующие сведения.
По итальянскому вопросу первым выступил в заседании 28 февраля маркиз де ла Рошжаклен с речью, направленной против политики Кавура, с ее «химерическим» объединением Италии. Он высказывался в защиту интересов католицизма и папы, отстаивая права короля против революции. «Г. де Геккерн, сменивший его на трибуне, выразил те же идеи в менее пространной, но не менее решительной речи; тем не менее, сожалея, что адрес Сената на имя императора не высказался определеннее по итальянскому вопросу, он предлагал утвердить прочитанную редакцию ввиду того, что она воспроизводила чувства, выраженные в речи самого императора в пользу папства и установлений международного права.
Г. де Геккерн высказался об общем направлении политики по поводу вопроса о Риме. Англия, по его словам, представляет протестантизм, Франция — католицизм. Вот почему Франция обязана распространять свое покровительство на католиков всех стран. Ее политика и интересы требовали восстановления в Риме
443
папы как главы христианского мира. Оратор выражал надежду, что французская армия, изгнавшая революцию из папских владений, останется в них для защиты папы, пока его безопасность и его верховная власть будут находиться под угрозой. Что же касается существа итальянских дел, г. де Геккерн осуждал «полным голосом» пьемонтское правительство, которое захватило папскую область, и он выражал благодарность императору за то, что он заклеймил с высоты трона это международное насилие и с достоинством выразил свое сочувствие неаполитанскому королю, мужественно боровшемуся, несмотря на полное отсутствие шансов на успех. Оратор выражал надежду, что Сенат разделит эти симпатии, вместо того чтоб расточать их князю, который предательски бросил против неаполитанского короля революционные банды и затем захватил его государство, чтоб ликовать в его столице, плясать в его дворцах, разъезжать по городам покоренных провинций и бросать на расправу военных палачей население тех областей, которые поднимались на защиту своей национальности против чужеземного вторжения.
Эту почти заносчивую речь сменило слово сенатора Пьетри.
Сенатор де ла Рошжаклен и де Геккерн встретили оппонента в лице принца Наполеона, горячего защитника независимости и объединения Италии. В своей речи он должен был ответить и на некоторые оскорбительные личные намеки, нашедшие себе место в речи г. де Геккерна и превосходно понятые Сенатом и публикой. Первые же слова его свидетельствовали, что он живо воспринял нападение и что нельзя рассчитывать на умеренность его защиты. (Следует изложение речи.) Словом, единство Италии с Римом как столицей — таково было заключительное положение этой речи, вызвавшей в Сенате живейшее волнение как своим радикализмом, так и резкостью своих нападок»...
Таковы официальные реляции. Но наиболее полный отчет о выступлении Геккерна дал Проспер Мериме под непосредственным впечатлением его речи в письме к Антонио Панидзи, директору Британского музея. Приведем полностью это ценное для характеристики Геккерна описание, из которого до сих пор только несколько слов вошло в пушкинскую литературу.
444
«Париж, 28 февраля 1861 года, 5 1/2 часов.
Дорогой друг, я пишу Вам с заседания Сената. Оно открылось папистской речью г. де ла Рошжаклена весьма резкой и длинной, достаточно скучной и даже оскорбительной для короля Виктора-Эммануила, так что председателю пришлось прервать оратора.
После г. де ла Рошжаклена на трибуну взошел г. Геккерн, тот самый, который убил Пушкина. Это человек атлетического сложения, с германским произношением, с видом суровым, но тонким, а в общем субъект чрезвычайно хитрый. Я не знаю, приготовил ли он свою речь, но он ее превосходно произнес с тем сдержанным возмущением, которое производит впечатление. Смысл его речи в части, относящейся к Италии, заключается в том, что Франция и ее император были постоянно жертвами пьемонтских обманов. Кавур, Виктор-Эммануил и Гарибальди — вот три головы под одним колпаком. Нет уверенности в том, что Мадзини не был агентом этого триумвирата, в котором у каждого была своя обязанность и своя роль. Гарибальди выкидывал свои безрассудства, Виктор-Эммануил принимал их для итальянцев, и Кавур их опровергал перед Европой. (Все едкие выражения против Кавура и Виктора-Эммануила были хорошо приняты.) Он вскрыл противоречия в речах туринского кабинета до и после экспедиции Гарибальди, все высказанные и даже написанные обещания, которые не были выполнены. Он прочел выдержки из письма короля к Гарибальди, в котором говорится, что если Виктор-Эммануил не послал ему пушек, то лишь потому, что он, Гарибальди, признал это излишним. Геккерн высказался еще резче по поводу завоевания Неаполя, когда пьемонтцы, по его выражению, чаще прикладывались к карманам, чем к оружию. Ему сильно аплодировали. Сильнее всего, когда он произносил похвалу Франциску II, который, по его словам, получив воспитание у плохого отца и плохого короля, у злой матери, окруженный вероломными советниками, среди военных трусов и предателей, нашел в самом себе благородные и великодушные побуждения. Он сказал, что Франциск вышел из Неаполя ребенком, а из Гаэты — королем, мужем и воином».
Судя по отзыву, приводящему главные тезисы и от-
445
дельные выражения, речь в общем понравилась и самому Просперу Мериме. Пятидесятилетний д’Антес из балагура и острослова, видимо, выработался в политического оратора, умеющего подготовить обстоятельный государственный доклад, отлить его в эмоциональную форму и произнести его с тем воинствующим пафосом, который вызывает среди речи взрывы рукоплесканий.
По этому выступлению можно заключить, что Геккерн страстно отстаивал в Сенате личную политику Наполеона III, выступал в полной солидарности с легитимистами, защищал самые реакционные политические позиции монархической и католической Европы.
Приходится признать, что обязательство, данное им в 1851 году в письме к Николаю I, бороться до конца «против жалких безумцев, имеющих безрассудное притязание переродить Европу», свято выполнялось им с высоты сенатской трибуны.
Мы увидим сейчас, что это обязательство он выполнял и другими, менее открытыми и возвышенными способами.
IV
Начав свою карьеру в Петербурге, д'Антес до конца оставался связанным с Россией. Женатый на русской, заинтересованный в наследственных и имущественных делах Гончаровых, которым он в сороковые годы цинично предъявляет крупные иски, Жорж Геккерн продолжал поддерживать связи с рядом видных соотечественников своей жены и, видимо, до конца был политически связан с русским правительством.
Товарищ д'Антеса по полку А. П. Злотницкий отмечал по личным наблюдениям, что бывший кавалергард был «чрезвычайно ценим за границей русской аристократией. И великому князю Михаилу Павловичу нравилось его остроумие, и потому он любил с ним беседовать». Действительно, в заграничных письмах Михаила к царю имеются сообщения о Геккерне: «Несколько дней тому назад был здесь (т. е. в Бадене) д'Антес и пробыл два дня. Он, как говорят, весьма соболезнует о бывшем с ним, но уверяет, что со времени его свадьбы он ни в чем не может себя обвинять касательно Пушкина и жены его и не имел с нею совершенно никаких
446
сношений, был же вынужден на поединок поведением Пушкина. Всем твердит, что после России все кажется ему petit et mesquin (ничтожным и мелким). На лето он переезжает с женою жить сюда».
Выбор места для летнего отдыха молодых Геккернов весьма показателен. Баден-Баден, ставший к этому времени «летней столицей Европы», слыл излюбленным местом отдыха русской аристократии, и недавние петербуржцы, очевидно, были твердо уверены в ожидающей их перспективе общения с знакомым и дружеским кругом. Они не ошиблись. На этот раз здесь был собран почти весь «пушкинский Петербург», т. е. представители того круга, в котором поэт должен был вращаться в последние годы своей жизни. Здесь присутствовали Смирнова-Россет, Андрей Карамзин, упомянутый в знаменитом анонимном пасквиле граф Борх с женой, брат царя Михаил Павлович, В. А. Соллогуб, князь Гагарин, Свистуновы, к концу сезона — Гоголь. Не все эти лица, конечно, общались с Геккерном, но большинство все же дружило с ним.
Геккерны искусно преодолевали даже открытую враждебность к ним некоторых пушкинских друзей. Андрей Карамзин, глубоко потрясенный, как мы видели, смертью Пушкина, встретившись летом 1837 года в Баден-Бадене с молодыми Геккернами, проявил к ним большую сдержанность. Но ему пришлось уступить встречному натиску и возобновить приятельские отношения. В начале августа на балу «в присутствии здешних монархов» д'Антес в паре с графиней Борх предводительствовал мазуркой, в которой участвовали Андрей Карамзин и Елена Соллогуб. Сын историка присутствует и «за веселым обедом в трактире, где д'Антес, подстрекаемый шампанским, заставлял своих собутыльников хохотать до колик».
Характерно, что в том же письме Карамзин сообщает, что он получил нумер «Современника» и с «восхищением прочел «Медного всадника»...
Гораздо враждебнее к Геккернам была настроена Долли Фикельмон, жена бывшего австрийского посла в Петербурге, в сороковые годы австрийского министра иностранных дел и главы военной секции. Но и она уступила требованиям светских отношений. В 1842 году, когда старший Геккерн получил наконец
447
новое дипломатическое назначение и прибыл в Вену, к нему приехали его «дети». По этому поводу Долли Фикельмон сообщает своей сестре в Петербург 28 ноября 1842 года: «Мы не будем видеться с г-жою д’Антес, она не появится в свете, и особенно у меня, ибо ей известно мое отвращение к ее мужу. Геккерн также не появляется, его даже мало видно среди его коллег. Сын носит теперь имя барона Жоржа де Геккерна». Но в одном из следующих писем уже имеется сообщение: «Г-жа де Геккерн была у меня недавно вечером с визитом. Меня взволновало свидание с лицом, напомнившим мне о стольком. Я приняла ее, как будто всегда продолжала с ней встречаться, и у нее был вид несравненно более смущенный, чем у меня».
Впоследствии в Париже русские связи Геккерна поддерживались в двух политических салонах, тесно связанных с Петербургом, — у известной сестры Бенкендорфа княгини Ливен и у родной племянницы Нессельроде М. В. Калержи-Мухановой. Первая — Дарья Христофоровна Ливен — почти открыто воздействовала на французское правительство в интересах России и реакции; ее связь с Гизо открывала ей в этом направлении широкие возможности, а салон ее соперничал с знаменитой гостиной г-жи Рекамье, где царил Шатобриан, оставивший в своих «Замогильных записках» весьма острые страницы о русской «нимфе Эгерии». Менее известна весьма характерная фигура Марии Калержи-Мухановой, связанной по происхождению с Россией, Польшей и Германией, а по мужу — с Грецией. Она, несомненно, знала Жоржа д'Антеса в Петербурге, где воспитывалась в тридцатых годах злейшей противницей поэта — самой графиней Марией Дмитриевной Нессельроде. Разрыв отца будущей Калержи, командира корпуса жандармов в Варшаве Фридриха Нессельроде, с ее матерью — красавицей Теклой Горской, мистически настроенной польской патриоткой и католичкой, вызвал переезд шестилетней Марии в Петербург, где она и росла в палатах вице-канцлера при министерстве иностранных дел. В Баден-Бадене в 1835 году она стала ученицей знаменитого пианиста Калькбренера, что навсегда определило ее музыкальные вкусы. В 1838 году она вышла замуж за богатого грека Ивана Калержи, но вскоре разошлась с ним и поселилась навсегда в Пари-
448
же. Здесь она знала Шатобриана и г-жу Рекамье, дружила с Альфредом Мюссе, Листом, Шопеном, Делакруа, Теофилем Готье. Она посещала Гейне, играла перед самим Россини и в 1845 году присутствовала на первом представлении «Тангейзера» в Дрездене, после чего стала навсегда поклонницей, защитницей и другом Вагнера. Впоследствии она оплатила часть его долгов и сильно способствовала постройке его театра в Байрейте. Одним из последних друзей ее был Вилье де Лиль Адан.
Но эта «романтическая муза», вероятно, не была чужда политической жизни. По словам ее биографа, современники утверждали, что покровительница поэтов с rue d'Anjou продолжала играть политическую роль княгини Ливен, снабжавшей царское правительство секретными сведениями государственного значения. Во всяком случае, Мария Калержи поддерживала тесную связь с «русскими дамами, состоявшими информаторшами своего суверена», — госпожой Свечиной, княгиней Багратион и самой княгиней Ливен.
Вскоре она открыла собственный салон, посещавшийся и Жоржем Геккерном и считавшийся одним из наиболее посещаемых мест всего «модного Парижа». Здесь в конце сороковых годов она пыталась примирить двух политических противников — Луи-Наполеона и генерала Кавеньяка. Впоследствии она занимала привилегированное положение при дворе Наполеона III. Под старость она вышла замуж за русского полковника Сергея Муханова. Понятен интерес Геккерна к племяннице Нессельроде, связанной с политическими салонами русской аристократии и, вероятно, не чуждой делу международной политической информации.
В этих отношениях французского сенатора особенно ощущается связь его с русским посольством. Этим, вероятно, объясняется один эпизод, вызвавший в конце пятидесятых годов даже скандальные отзвуки в печати. В 1858 году только что назначенный в Париж русским послом Н. А. Орлов венчался с Ек. Ник. Трубецкой. А. И. Герцен по этому поводу писал:
«Несколько месяцев тому назад fine fleur нашей знати праздновал в Париже свадьбу! Рюриковские князья и князья вчерашнего дня, графы и сенаторы, лите-
449
раторы, увенчанные любовью народной1, и чины, почтенные его ненавистью, — все русское население, гуляющее в Париже, собралось на домашний русский пир к послу, один иностранец и был приглашен как почетное исключение — Геккерн, убийца Пушкина! Ну, найдите мне пошехонцев, ирокезов, лилипутов, немцев, которые бы имели меньше такта!» 2
Некоторый свет на эти взаимоотношения Геккерна с русским посольством проливает следующий краткий, но выразительный документ, относящийся уже к эпохе покушений на Александра II. Посол Орлов сообщает в секретной телеграмме:
«Гирсу, из Парижа 1/13 марта 1880 года.
Барон Геккерн-д'Антес сообщает сведение, полученное им из Женевы, как он полагает, из верного источника: женевские нигилисты утверждают, что большой удар будет нанесен в ближайший понедельник» 3.
Так любимец Николая I оберегал от революционных покушений его престарелого сына. Документ не оставляет сомнений в существе отношений; бывший сенатор состоял политическим осведомителем императорского посольства. Почти через полстолетья после убийства Пушкина он продолжал оказывать русскому правительству тайные услуги.
После падения Второй империи государственная активность Жоржа Геккерна приняла исключительно такие скрытые формы.
Он играл слишком крупную и слишком преданную роль в государственном аппарате Наполеона III, чтоб рассчитывать на какой-нибудь политический пост после 4 сентября 1870 года. Ставшая на мгновение реальной королевская кандидатура героя его молодости — Генриха V могла вызвать только чувство горечи в бывшем легитимисте, изменившем знамени «законных» Бурбонов для службы сомнительному Бонапарту. Но и выборы в президенты республики его старинного приятеля
________________________
1 На свадьбе присутствовал И. С. Тургенев.
2 А. И. Герцен. Соч., IX, 345. (См.: Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. XIII. М., АН СССР, 1958, с. 349. — Ред.).
3 Документ извлечен из архива внешних сношений М. М. Чистяковой, которой выражаю искреннюю благодарность за сообщение его.
450
Тьера уже не могли содействовать политическому возрождению «сенатора Второй империи». Трибуна и пресса были для него закрыты. Широко применявшийся во Франции середины столетья политический шпионаж, которому служили виднейшие представители знати, как княгиня Ливен или граф Я. Н. Толстой, стал тайной сферой деятельности и постаревшего д'Антеса. Трудно установить, когда именно прекратился совершенно и этот вид его политической работы, но известные нам даты допускают его продолжение почти до самого «конца века». Родившийся при Наполеоне I, Жорж Геккерн, как известно, скончался, когда в России уже царствовал правнук обласкавшего его императора — Николай II.
Это было 2 ноября 1895 г. Со времени «вечно печальной дуэли» истекало шестое десятилетие. Близилась столетняя годовщина со дня рождения поэта.
451
В ДЕНЬ ДУЭЛИ
В день 27 января 1837 года, среди переговоров и переписки о предстоящем поединке, в непрерывных заботах о секунданте, о пистолетах, об условиях боя, Пушкин, как всегда, провел утро за литературной работой. В последний раз он сидел за своим письменным столом, опускал перо в чернильницу с бронзовой статуэткой негра, подходил к своим длинным книжным полкам за нужным томом.
Дуэльные события уже врывались в литературные занятия. Секундант д'Антеса настойчивыми записками требовал подчинения дуэльному кодексу.
Но с обычной закономерностью своей творческой воли, быть может, еще более проясненной мыслью о смертельной опасности, Пушкин спокойно и уверенно продолжал свою текущую кабинетную работу.
Он читал, выбирал материалы для «Современника», вел письменные переговоры с новым сотрудником. «После чаю много писал», — отмечено в заметках Жуковского; это следует понимать не буквально, а лишь как указание на довольно длительные утренние занятия Пушкина в день дуэли. Они продолжались два-три часа. По некоторым косвенным данным и прямым свидетельствам поэта мы можем восстановить общий ход его последней работы.
Нужно полагать, что ежедневная газета была, по обыкновению, прочитана в то утро Пушкиным. Как писатель, редактор и участник официальной жизни Петербурга, он должен был следить за «Северной пчелой», на столбцах которой нередко упоминалось его имя.
В день 27 января газета Булгарина, как всегда, представляла довольно тусклый материал, приспособленный к бесцветным казенным интересам монархической столицы. Но несколько заметок в отделе «Новости
452
заграничные» могли обратить на себя внимание Пушкина.
«Вчера в 11 часов утра, — сообщалось из Страсбурга, — происходил на одном острову Рейна поединок между полковником Тальяндье и эскадронным командиром Паркеном. Выбор оружия был предоставлен жребию; они сражались на шпагах. Паркен был ранен».
В день предстоящей дуэли заметка эта, естественно, могла заинтересовать поэта.
В тридцатые годы он, как известно, читал Сен-Симона, выписывал книги о нем, отчеркивал на полях поражавшие его положения сенсимонизма. Вот почему в круг его внимания могло попасть и следующее сообщение из Парижа:
«Глава Сен-Симонистской школы отец Анфантен возвратился в Париж из путешествия своего по востоку, где, кажется, он немногих успел обратить к своему учению».
Наконец, среди заграничных известий была напечатана и последняя парижская новость, не лишенная политического интереса:
«Сегодня начинается здесь продажа с публичного торга библиотеки герцогини Беррийской».
В петербургском свете было известно, что противник Пушкина Жорж д'Антес был преданным сторонником герцогини Беррийской, числился в составе ее пажей, принимал участие в ее заговорах. Газета лишний раз свидетельствовала об окончательном проигрыше политического дела герцогини.
В отделе внутренних известий одесская корреспонденция сообщала, что «английский посланник отправился на этой неделе, на пароходе, в Англию». Речь шла о знакомом Пушкина по петербургскому дипломатическому корпусу представителе Великобритании лорде Дэраме. Это маленький комментарий к истории отпевания Пушкина: среди посланников, ставших у гроба поэта, не было представителя Англии. Оказывается, он незадолго перед тем выехал из Петербурга.
Наконец, в отделе «Русская история» газета печатала статью Павла Свиньина «Жизнь Петра Великого в новой своей столице». В отрывке говорится о смутных событиях 1706 года на Волге, Дону и Яике и о подавлении стрелецкого бунта в Астрахани фельдмаршалом Шереметьевым. Если Пушкин успел прочесть эту ста-
453
тью, она явилась последним изученным им источником к его истории Петра.
Утренняя газета прочитана. Небольшой лист «Северной пчелы» отложен в сторону. Через три дня точно такая же страница оповестит на своих столбцах: «Сегодня, 29 января, в 3-м часу пополудни литература русская понесла невознаградимую потерю. Александр Сергеевич Пушкин, по кратковременных страданиях телесных, оставил юдольную сию обитель»...
Между тем записки из французского посольства от секунданта его противника прерывают утреннюю работу Пушкина. «Готовый явиться на место встречи, Жорж де Геккерн торопит вас подчиниться правилам»... Не без раздражения Пушкин набрасывает свой ответ д'Аршиаку.
Но эти дуэльные переговоры не отрывают его от главной работы. Только что вышел четвертый том «Современника». Журнал понемногу рос и улучшался. В отделе поэзии появилось несколько замечательных стихотворений, «присланных из Германии», за подписью Ф. Т., т. е. Тютчева.
Душа моя — Элизиум теней,
Теней безмолвных, светлых и прекрасных...
Но отдел прозы был почти целиком занят одной «Капитанской дочкой».
В печати находился пятый том «Современника». Эта первая книжка на 1837 год отвечала самым строгим требованиям. В стихотворном отделе — Баратынский, Жуковский, Языков и Козлов. В прозе — путевые заметки Александра Тургенева о Риме, Веймаре, Лондоне и Париже; критический труд Вяземского, новая повесть Одоевского, отрывок из рукописи Карамзина.
Но необходимо было и далее оживлять журнал, разнообразить его содержание, возбуждать новые темы, откликаться на крупнейшие события научной и художественной современности, вводить в умственный оборот русских читателей замечательные явления западноевропейского искусства. Накануне ночью, на балу у Разумовских, уже в полном разгаре приготовлений к дуэли, в напряженных поисках секунданта, между двумя беседами с д'Аршиаком, уже представляющим официально д'Антеса, и Медженисом, приглашенным поэтом в свидетели, — Пушкин не оставлял мыслей о своем журнале.
454
«Именно в последний разговор мой с Пушкиным 26 января на бале у гр. Разумовской, — сообщал Вяземский, — просил он меня написать к П. Н. Козловскому и напомнить ему об обещанной статье для «Современника».
Речь шла о статье научного содержания — по животрепещущему вопросу о паровых машинах. Автор сообщил впоследствии о своих редакционных переговорах с поэтом. Они бросают свет на принципы журнальной работы Пушкина, и в частности на его стремление развить самостоятельную научную журналистику в России.
«Когда незабвенный издатель «Современника» убеждал меня быть сотрудником в этом журнале, я представлял ему, без всякой лицемерной скромности, сколько сухие статьи мои долженствовали казаться неуместными в периодических листах, одной легкой литературе посвященных. Не так думал Пушкин: он говорил, что иногда случалось ему читать в некоторых из наших журналов полезные статьи о науках естественных, переведенные из иностранных журналов или книг; но что переводы в таком государстве, где люди образованные, которым «Современник» особенно посвящен, сами могут прибегать к оригиналам, всегда казались ему какой-то бедною заплатою, не заменяющей недостатка собственного упражнения в науках. — Не так думали и его продолжатели, которые мне благосклонно сообщили, что одно из последних желаний покойного было исполнение моего обещания: доставить в «Современник» статью о теории паровых машин...»
Одной из постоянных забот Пушкина-журналиста было ознакомление русского читателя с крупными явлениями европейской литературы, почему-либо не замеченными у нас. Через «Современник» он хотел провести в круг читаемых у нас авторов любимого им Барри Корнуоля. Плетнев сообщил ему о желании писательницы Ишимовой сотрудничать в «Современнике». «Не согласитесь ли вы перевести несколько из его (Барри Корнуоля) драматических очерков?» — писал Пушкин 25 января Ишимовой.
Письмо это, отправленное, очевидно, городской почтой, было получено адресатом на следующий день.
26 января Ишимова извещала Пушкина о своем полном согласии принять его предложение и приглашала его зайти к ней на другой день для окончательных переговоров. Письмо это было, вероятно, получено Пушкиным
455
утром 27 января. Не имея возможности зайти в этот день к Ишимовой, он решил закончить дело о переводе Барри Корнуоля заочно.
Очевидно, прежде чем завершить переговоры, Пушкин решил еще раз проверить литературные способности приглашаемой им сотрудницы. Он раскрыл ее «Историю России в рассказах для детей».
Синяя книжка с узорной рамкой вокруг титула представляла собою новинку. В то время из пяти или шести томов первого издания успели выйти только один-два 1. Очерк главнейших исторических событий России излагался здесь по Карамзину, но в простом и общепонятном изложении. Рассказ был выдержан в патриотическом и верноподданном тоне, почтительном к дворянству и хвалебном к династии. Но сжатость языка, отчетливость построения и непринужденная разговорность изложения сообщали этому первому опыту популярной истории черты занимательной живости. Год спустя издатели «Современника» — Жуковский и Вяземский — свидетельствовали, что слог Ишимовой необыкновенно нравился Пушкину. Не приходится сомневаться в искренности последней пушкинской похвалы: «Вот как надобно писать» 2...
Пушкин утверждается в своем решении принять Ишимову в сотрудницы «Современника». Он разыскивает на своих полках антологию современных английских поэтов, изданную в Париже в 1829 году. Среди четырех авторов здесь был представлен и Барри Корнуоль. Таков был псевдоним Бриана Уоллера Проктора, поэта и драматурга, стремившегося создать новый жанр коротких и трагически напряженных сцен на основе изучения драматургов елизаветинской эпохи и новеллистов итальянского Возрождения.
Еще в 1830 году, вдохновляясь Корнуолем для своих Маленьких трагедий, Пушкин пробовал озаглавить
___________________________
1 Цензурная помета на втором томе: 17 декабря 1836 г.
2 Отметим, что во втором издании своей «Истории» (П., 1841) Ишимова воздает особую хвалу Пушкину. Она испещряет свой рассказ цитатами из «Бориса Годунова», «Полтавы», «Онегина». Описывая основание Лицея, она отмечает его значение как «место образования нашего незабвенного поэта Пушкина»: «Здесь нельзя лучше почтить память учреждения Лицея и память гения, так рано покинувшего нас, как вспомнив одно из последних стихотворений его, написанное на Д е н ь Л и ц е я». Следует полный текст Лицейской годовщины 1836 года.
456
их: драматические сцены, драматические очерки, драматические изучения, даже «опыт драматических изучений». Этими формулами Пушкин прекрасно передавал сущность коротких драм Барри Корнуоля. Это психологические этюды отдельных страстей в сжатой диалогической форме. Отмечая 27 января пьесы, особенно близкие ему, Пушкин выделил среди них два «драматических изучения» — опыт о ревности и о мщении, «Амелию Уэнтуорт» и «Людовико Сфорца».
Этими драмами Пушкин в то утро мог тоже «невольно зачитаться». В них было много общего с его собственной судьбой. В первой из них Готфрид Уэнтуорт, возмущенный нежностью своей жены Амелии к юноше Карлу, решает отправить его в Индию или заключить в темницу. Главный стимул для его ревности — боязнь насмешек, опасение стать басней в устах людей, пережить непоправимое бесчестие. Отсюда его непоколебимая воля — устранить соперника. Амелия считает Готфрида «своим злым ангелом», увлекшим ее «в зловещее величье», называет себя «горестной супругой, несчастливицей, невольницей чужих страстей»...
Вот характерный отрывок из их объяснения:
«Амелия. Я прошу тебя снять проклятье твое с этого юноши. Он невинен. Он совершенно невинен перед тобою. Что ж касается до меня, то я также слишком невинна, чтобы просить за себя, но дай сказать мне, что с того печального часа, когда я сделалась женою твоею, я была так верна холодному союзу нашему, как будто сердце мое с самого начала принадлежало тебе или как будто было побеждено твоим великодушием после. Еще раз умоляю тебя — пощади этого мальчика...
Уэнтуорт. Женщина! всегда ли просьбы твои так горячи, как теперь? Клянусь небом и землей, если бы я еще колебался, то это заставило бы меня решиться. Поди в свою комнату теперь и в глубоком размышлении обдумай, как хорошо будет раздаваться имя твое — в то же время и мое имя, — когда его будут произносить в насмешках».
Нам известно, что аналогичные соображения в значительной степени руководили и Пушкиным: он вменял себе в обязанность защищать от насмешек свое имя, принадлежащее всей стране.
Другой драматический очерк Корнуоля, «Людовико Сфорца», трактовал не менее сложную проблему — право на мщенье.
457
Вот одна из сцен драмы:
«Изабелла (в сторону). Благодарю вас, духи мести! (К Людовико.) Теперь пора вкусить бессмертного вина, государь, и выпить в честь Купидона.
С ф о р ц а. Вино очень холодно.
Изабелла. Оно скоро покажется тебе горячее. Говорят, что оно согревает сердце. Вчера я читала об одном старике, поэте греческом, который посвящал всю жизнь свою вину и умер от винограда; ведь это справедливо, кажется?
С ф о р ц а. Да. Это вино...
Изабелла. А сколько рассказывают повестей о людях, которых бесчестная жизнь имела бесчестный конец: я думаю, что кровожадный убийца всегда умирал также от убийства, а изменник от измены!.. Так яд дается за яд...
С ф о р ц а. ...Сердце мое, сердце мое! Злодейка! Я слабею, слабею — ах!..
Изабелла. Я хотела легче совершить правое мщение свое, но невозможно было... Что ж было делать? Другого спасенья не было, и кровь пошла за кровь...»
Такие сцены напряженных и злых страстей — гнева, гордости, похоти, мстительности — перечитывал Пушкин в утро 27 января.
Но время идет. Скоро одиннадцать. Карандаш поэта отчеркивает в оглавлении «Людовико Сфорца», «Амелию Уэнтуорт», «Сокол», «Любовь, излеченную снисхождением», «Средство побеждать».
Пушкин завертывает книгу в плотную серую бумагу, надписывает адрес и быстро набрасывает сопроводительную записку. Это его знаменитое последнее письмо Александре Осиповне Ишимовой:
«...Вы найдете в конце книги пьесы, отмеченные карандашом, переведите их как умеете — уверяю Вас, что переведете как нельзя лучше. Сегодня я нечаянно открыл Вашу Историю в рассказах и поневоле зачитался. Вот как надобно писать».
Такова последняя запись Пушкина. Уходя из жизни, он посылает безвестному малому товарищу по их общему делу — служению русской литературе — свою озаряющую похвалу, бодрящую ласку и прощальный привет.
458
Нам известна точная история этой последней посылки Пушкина. «27 января, — свидетельствуют друзья поэта, — в третьем часу пополудни девица Ишимова получила от него пакет, собственною рукою его надписанный, в нем книгу для перевода и письмо, после которого, по всей вероятности, уже некогда ему было написать ни строки, кроме означенного адреса на пакете к ней».
Это верное указание: писать более было некогда. Предстояло спешно сговориться с Данзасом, отправиться во французское посольство к д'Аршиаку, послать за пистолетами к оружейнику Куракину, условиться о месте и часе встречи, переодеться, как для вечернего выхода, в свежее белье и до наступления сумерек обменяться огнем с противником. Сколько дел, и как мало времени!
Редактор «Современника» отодвинул книги, положил перо и отошел от письменного стола.
Последний литературный день поэта Пушкина был окончен. Двадцатилетний творческий труд его обрывался навсегда.
Это было в среду двадцать седьмого января 1837 года в одиннадцать часов утра.
ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ ГРОССМАН
Л. П. Гроссман родился 25 января 1888 г. в Одессе, в семье врача. В 1904 г. с серебряной медалью окончил Ришельевскую гимназию, один год состоял студентом Сорбонны в Париже. В 1911 г. закончил Одесский университет, где и начинается его преподавательская деятельность. С 1921 г. Л. П. Гроссман работает в Москве: читает курс методологии и истории критики в Высшем литературно-художественном институте им. Брюсова, ведет семинары и читает лекции на высших литературных курсах, кроме того, состоит ученым секретарем литературной секции Государственной академии художественных наук. Писать Гроссман начал с семи лет, а первое печатное выступление относится к 1903 г., когда в газете «Одесский листок» появилась его рецензия на спектакль по пьесе М. Метерлинка «Жуазель». Именно с этого года он активно работает в области литературоведения и художественной критики в журналах «Вестник Европы», «Русская мысль», «Красная нива», «Каторга и ссылка», «Новый мир», «Искусство», «Печать и революция». Широкую известность Гроссману принесли исследования творчества Пушкина, Достоевского, Сухово-Кобылина, Чехова, Лескова, Бальзака, книги и статьи по истории русской литературы — «Вторник у Каролины Павловой» (1919), «Три современника» (1922), «От Пушкина до Блока» (1926), «Спор о Бакунине и Достоевском» (совместно с Вяч. Полонским) (1926), «Борьба за стиль» (1927), «Преступление Сухово-Кобылина» (1940), «Поэтика Белинского» (1954). Широта интересов, огромная эрудиция ученого позволили ему написать и опубликовать работы, посвященные театру и искусству актера: «Театр Тургенева» (1924), «Пушкин в театральных креслах» (1926), «Театр Сухово-Кобылина» (1940), «Алиса Коонен» (1930), Особое место в творческой деятельности Гроссмана занимают три историко-биографиче-
460
ских романа—«Записки д'Аршиака» (1930), «Рулетенбург. Повесть о Достоевском» (1932), «Бархатный диктатор» (1932). Блестящее знание эпохи, умение построить занимательный, порой интригующий сюжет, яркий живой язык и запоминающаяся галерея образов людей, представляющих разные сословия русского общества прошлого века, определили широкий успех этих произведений, неоднократно издававшихся как у нас в стране, так и за ее пределами (в Англии, Польше, Чехословакии, Италии).
В течение многих лет Гроссман вел активную преподавательскую деятельность в московских педагогических институтах, будучи профессором и доктором филологических наук.
Более полувека Гроссман отдал глубоким исследованиям жизни и творчества А. С. Пушкина и Ф. М. Достоевского, результатом которых, наряду с многочисленными чисто научными работами, явились две книги — увлекательно написанные творческие биографии «Пушкин» (1939, 1958, 1960) и «Достоевский» (1962, 1965), изданные в серии «Жизнь замечательных людей».
Об огромном творческом потенциале ученого свидетельствует библиография изданных печатных работ, содержащая триста шестьдесят два названия.
Скончался Леонид Петрович Гроссман 16 декабря 1965 г.
М. Френкель
СОДЕРЖАНИЕ
Владимир Шацков. Мера романа................................................ 5
ЗАПИСКИ Д’АРШИАКА
Предисловие.................................................................................. 11
Записки Д’Аршиака..................................................................... 16
Глава первая.................................................................................. 20
Глава вторая.................................................................................. 55
Глава третья.................................................................................. 119
Глава четвертая............................................................................. 172
Глава пятая.................................................................................... 215
Глава шестая.................................................................................. 254
Эпилог............................................................................................. 311
ПУШКИН В ТЕАТРАЛЬНЫХ КРЕСЛАХ................................. 319
Глава первая В ЗРИТЕЛЬНОМ ЗАЛЕ......................................... 324
Глава вторая АКТЕРЫ И ТЕАТРАЛЫ....................................... 331
Глава третья РАСЦВЕТ ТРАГЕДИИ.......................................... 359
Глава четвертая БАЛЕТЫ ДИДЛО.............................................. 379
Глава пятая КОМЕДИЯ И ВОДЕВИЛЬ...................................... 402
Заключение.................................................................................... 424
КАРЬЕРА Д’АНТЕСА
Предисловие................................................................................... 428
Политическая карьера д’Антеса.................................................. 432
В ДЕНЬ ДУЭЛИ............................................................................. 452
М.Френкель ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ ГРОССМАН.................... 460
Роман известного ученого-литературоведа Л.П.Гроссмана (1888—1965) «Записки д' Аршиака», впервые опубликованный в 1930 году и получивший широкую известность как у нас в стране, так и за рубежом, написанный как бы от лица секунданта убийцы А. Пушкина Дантеса, рассказывает о трагической истории гибели великого русского поэта. Кроме того, в книгу входят популярная театроведческая работа «Пушкин в театральных креслах» (1926) и историко-биографическое эссе «Карьера д'Антеса» (1935).