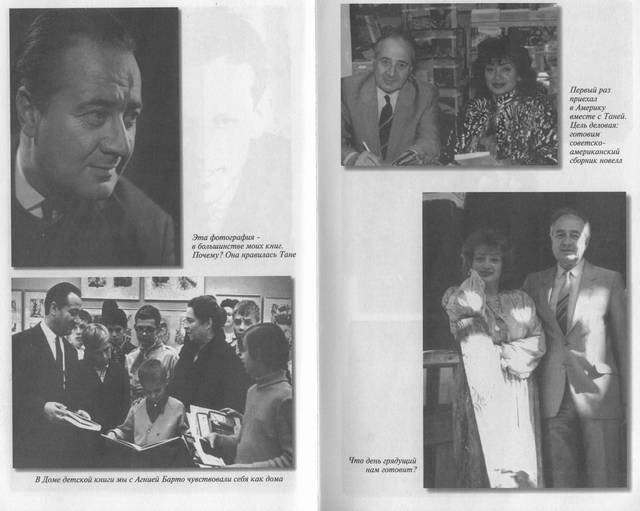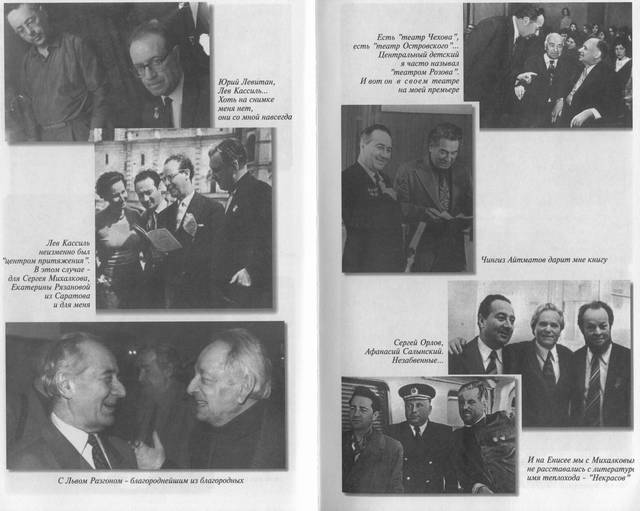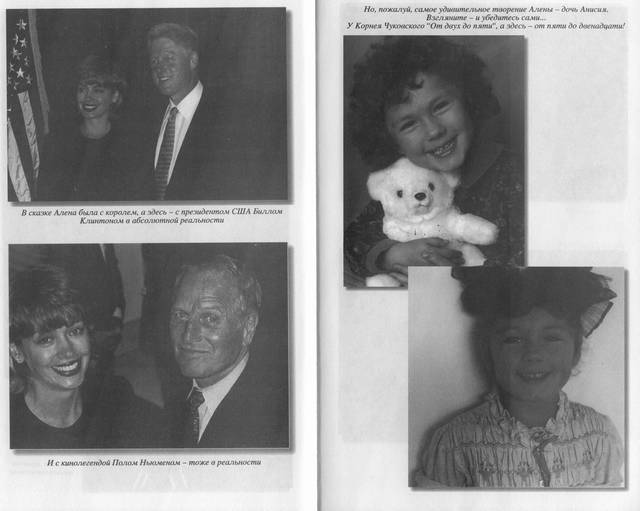OCR и вычитка: Давид Титиевский, октябрь 2007 г., Хайфа
Библиотека Александра Белоусенко
-----------------------------------------------------------
Анатолий Алексин
ПЕРЕЛИСТЫВАЯ ГОДЫ
Книга воспоминаний
МОСКВА
ТЕРРА – КНИЖНЫЙ КЛУБ
1998
Книга современного писателя Анатолия Алексина — воспоминания о встречах с известными людьми искусства, литературы, кино, политики. Эти воспоминания представляют собой фрагменты писательского блокнота Алексина, новеллы и короткие повести.
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Едва Лев Николаевич присел на крыльцо своего яснополянского дома, как в щеку ему вонзился комар. Толстой прихлопнул его ладонью, а стоявший рядом толстовец Чертков принялся нудить: «Вот вы, Лев Николаевич, учите нас не противляться злу, не ранить, не убивать... А сами убили живое существо — и на щеке у вас кровь!» Толстой ответил толстовцу:
— Не живите так подробно.
Вспоминаю этот случай, описанный очевидцем, потому что хочу последовать совету гения: не перемалывать вновь и подробно всю свою жизнь, а воссоздать лишь то, что, мне кажется, заслуживает воссоздания.
На художественность в этом случае не замахиваюсь, а хочу именно перелистать прожитое и поведать прежде всего не о своем бытие, а о событиях, которые, думается, воспроизводят важные приметы Времени, о знаменитых людях, которых — по деяниям их — знали весь бывший Советский Союз, вся Россия, а то и весь мир, и с которыми я был, как говорится, лично знаком.
Знаменитые — это отнюдь не всегда замечательные. Известность приносят и свершенное добро и, увы, свершенное зло, если они масштабны. А иногда в действиях знаменитостей непостижимо перемешаны свет и тень, теоретическое стремление к возвышенным целям и безнравственная неразборчивость в средствах. Пусть факты и люди предстанут такими, какими я их увидел. Зрение мое кому-то может показаться не вполне точным, даже искаженным. Что ж, на снайперство я тоже не претендую. Но постараюсь быть справедливым...
Перелистывая годы, я не буду верен законам последовательности, хронологии, а буду подчиняться, что поделаешь, своеволию памяти.
Но все это — ро мои личные воспоминания... Они являют собой лишь страницы писательского блокнота, который предпочитает язык фактов, конкретности — пусть суховатый,
3
но зато не отвлекающий от сути реальных событий, личностей, встреч.
Однако блокнотные страницы перемежаются новеллами и короткими повестями. Это тоже главы воспоминаний, но чаще они принадлежат как бы не мне, а тем, от чьего имени ведется повествование... Можно сказать, что они записаны мною «с голоса» чужих исповедей. Но и когда новеллы звучат «от третьего лица» — это все равно исповеди, это «тоже из жизни». Все сюжеты, даже самые невообразимые, загадочно соединившие в себе страшное и смешное, рождены реальностью, которая столь часто фантастичнее самой изощренной фантастики. Не случайно книга открывается новеллой «Рентген»: я пытаюсь высветить те недуги, те потрясения, горестные и счастливые, те ошеломившие меня высокие и низменные своеобразности характеров, поступков, с которыми свела жизнь. Нет, пожалуй, точнее сказать иначе: в своих новеллах и повестях я пытаюсь помочь самим читателям с рентгеновской пристальностью вглядеться во все это...
Надеюсь, не покажется нескромностью то, что я, в связи с вышесказанным, процитирую слова писателя и бесстрашного воителя за права людские Льва Разгона: «Анатолий Алексин, как правило, воздерживается от тяжко-окончательной оценки даже тех, кому после его детального нравственного исследования можно было бы поставить диагноз: злокачественно, неизлечимо. Писатель предоставляет право ставить моральные диагнозы читателям, потому что полностью доверяет их умению не только отличать добро от зла, но и устанавливать «степень виновности».
Новеллам и повестям, логично, мне думается, соседствующим с блокнотными записями, я здесь даю те имена, те названия, кои возникали не позже, не потом, а когда я внимал исповедям собеседников. Иные не совпадут с названиями в моих сборниках рассказов и повестей. К тому же, для этого издания я некоторые главы воспоминаний доработал и дополнил.
«Я встретил вас — и все былое...» Тютчевская строка звучит для меня эпиграфом к этим воспоминаниям. «Я встретил вас...» — обращаюсь я к дням и годам.
Былое, ожившее в сердце и памяти, — это и есть моя книга.
4
РЕНТГЕН
С голоса
Когда-то, в озорном детстве я упала и расшибла коленку. «До свадьбы заживет», — успокоила меня мама. Но предсказание не сбылось... Коленка затаила обиду — и через тридцать лет (когда свадьба давно уж стала воспоминанием!) она неожиданно и злокачественно воспалилась. И решила покинуть меня... вместе со всей ногой.
«Придется ампутировать!» — радуясь отсутствию разногласий, заявил врачебный консилиум.
Я навзрыд захлебнулась кашлем.
— С вами это часто случается? — осведомился глава консилиума.
— Что? — сквозь кашель пробилась я.
— Вот это...
Он как бы указал пальцем на мой кашель.
— В последнее время... часто, — прорывалась я сквозь удушье.
— Что вы называете последним временем?
— Примерно полгода. И без видимой причины.
— Если причина невидима, надо сделать рентген.
Рентгена страшатся... И того, который высвечивает физические недуги, и того, что обнажает заболевания характеров, людских отношений. Но если второй, психологический, рентген, думала я, условен и с ним можно спорить, то первый, медицинский, неопровержим и потому, случается, беспощаден. Он устанавливает диагноз, либо подтверждая опасения, либо их отвергая. Но людям-то свойственно предполагать худшее. Поэтому просвечивать свой организм они отправляются, как на экзамен, исход которого от них не зависит.
У меня рентген обнаружил как раз то, что считается самым страшным: метастазы в легких. Разбитая в детстве коленка решила покинуть меня не только вместе с ногой, но и вместе со всей моей жизнью.
5
По отношению к себе самой я слыла фаталисткой: чему быть, того не обойдешь и не объедешь даже на самой изворотливой «иномарке» (в заграничное у нас искони верят больше и трепетней, чем в свое). Советуя «перепроверить» отечественный рентгенокабинет, в котором было установлено трагичное будущее, мои мужчины — муж и оба сына — настаивали:
— Просветись на новейшем японском оборудовании. Проверься на современнейшей немецкой аппаратуре...
Словно более современное оборудование обеспечивает более обнадеживающие диагнозы! Я была убеждена, что родной рентген по-родственному сказал мне правду: какие секреты от близких?
Ранее отечественные врачи также по-родственному упреждали, что никотин — это яд, способный убить лошадь. Но я относила эту опасность исключительно к лошадям. И бесстрашно насыщалась ядом, столь опасным для них.
«Вон Черчилль уничтожал себя сигарами, похожими на ракеты, а не какими-то щуплыми сигаретками, но жил — не дотянул, а именно жил! — до девяноста», — прибегала я к аргументу, коим самоутешались многие фанатики курева. И в этом случае зарубежный авторитет казался выше авторитетов отечественных. Еще и потому, что он был для меня более выгодным. Мы часто верим в то, во что приятнее верить...
— Уинстон Черчилль, стало быть, повинен в двух войнах: в холодной — с политическим организмом планеты и в никотинной — с физическим организмом доверчивого человечества, которое так любит обманывать само себя. Не много ли жертв в результате тех войн?! — сказал как-то мой муж, любивший сопоставлять исторические примеры с житейскими. — Вот и ты... Коленка не случайно ударила именно в легкие!
«И спасибо ей, что ударила: не прыгать же мне на одной ноге!» — молча, про себя ответила я.
Результаты просвечивания были, как сообщил мне онколог, «положительными». Он исповедовал американскую (вновь иноземную!) «откровенность с пациентом в любых случаях»: организм-де мобилизуется для отчаянной схватки. Хотя главное для американцев в такой ситуации, думала я, не вздыбить сопротивление, а вовремя сочинить завещание и все заранее распределить. Мне же завещать было нечего... кроме любви и забот, которых мои мужчины могли лишиться. Мне чудилось, что я нарекла супруга и двух сыновей «моими мужчинами» еще до их появления в моей жизни.
Злокачественные заболевания все переворачивают вверх тормашками — представления о земных ценностях, земной
6
суете и даже привычные определения: «положительный» результат исследований — это значит приговор, «высшая мера», будто за вину с отягчающими обстоятельствами, а результат «отрицательный» — освобождение от неправедных наказаний. Прятаться от смерти я вовсе не собиралась... Думы о ней, а они посещают каждого, приводили меня к одной-единственной тревоге: как же они, мои мужчины, вдруг останутся без меня?
— Ты приучила их к неприспособленности, беззащитности. И возишь их в коляске, подобно младенцам, — ласково, без раздражения упрекала когда-то покойная мама. Раздражаться она не умела и считала для себя унизительным. Сберегая стрессы внутри, она вроде бы накопила взрывчатку, которая и обнаружила себя необратимым инфарктом.
Из трех моих мужчин самым самостоятельным был младший, сын Виктор. Сперва мы именовали его Витиком. Но от нежного Витик вскоре само собой образовалось прозвище Винтик. Так его стали звать сверстники... Антисталинская убежденность моего мужа не выдержала:
— Винтиками людей называл тиран!
Не знавший этого Винтик взбунтовался против политически оскорбительного обращения с его именем — и сделался Виктором. До полновесно-взрослого имени пожелал дотянуться и характер младшего сына. Виктор был сообразителен, находчив в защите своих интересов и скрупулезно практичен, — мы ликовали: среди «новых русских» не пропадет!
Второй сын, Алеша, был мечтательным и хронически в кого-то влюбленным: то в девочку из соседнего класса, то из соседней квартиры, то из соседнего дома... В каждом конкретном случае он был однолюбом — и не желал делить свое внимание к девочке с вниманием к наукам, книгам и домашним обязанностям.
Впрочем, кроме предмета страсти (всегда, безусловно, последней!), Алеша постоянно любил и меня. Мне — одной на земле! — доверял он сокровенные тайны, которые были очевидны для всех окружающих. Алеша еще не понял, что любовь никуда не запрячешь — и всякий раз был романтически убежден, что в курсе лишь мы вдвоем.
Мне это почему-то льстило.
На правах доверенного лица я все же как-то сказала ему:
— Ты — бабник! Или, мягче говоря, ветреник...
— В каком смысле... ветреник?
— А в том, что сегодня клянешься, а через неделю — ищи ветра в поле!
7
Девочки искали его не в поле, а по телефону или возле подъезда. Алеша, как уверяли, был «весь в отца»: строен и притягателен. Девочки притягивались к нему столь прочно, что оттягивать иногда приходилось с моей помощью. «Создан для любви, — думала я. И вздрагивала: — А еще для чего он создан?» Отец-то звался доктором физико-математических наук! Если он и был расчетлив, то исключительно в расчетах математических. Если мечтал, то о новых открытиях в «физике твердых тел» (но отнюдь не женских!). А коль был влюблен, то в меня...
Алеша упоенно следил за своей внешностью, а муж — за прогрессом науки. Ни на репутации его, ни на его костюмах не было ни пылинки. Пылинки вовремя перехватывала или сдувала я...
При всей практичности младшего сына, романтичности старшего и научной оснащенности мужа фундаментом дома единодушно считали меня. Потому, видимо, что я им и была.
И вот фундамент дал трещины. Одну... и тут же, вослед, без передышки — другую. Впрочем, о второй я мыслила как о спасительнице... не собираясь передвигаться по жизни на костылях.
Для осознания и определения значительных или экстремальных событий я, по совету мамы, обращалась к великой литературе. То было нашей интеллектуальной семейной традицией. Эпиграфом к нынешней драме могла стать пушкинская строка: «И от судеб защиты нет». Или его последние два слова, произнесенные вслух и уже в прозе: «Жизнь кончена».
Поначалу я сообщила, что рентгенолог якобы отправил меня обратно к ларингологу, ничего такого, дескать, не обнаружив. Это было убедительно для доктора физико-математических наук, для романтика, достигшего пятнадцати с половиной лет, но не для моего младшего, двенадцатилетнего сына Виктора. Он к тому времени разузнал, что полное имя его происходит от победного слова «виктория», о чем впопыхах, в житейской сутолоке мы не удосужились ему сообщить. А когда разузнал, стал еще более напорист. Напирал же он прежде всего на досрочное, не ограниченное возрастом узнавание фактов, сведений... И полной правды, которую взрослость от детства утаивает.
Исследовав мою сумку и разобравшись в диагнозе, находчивый Виктор, словно самолет, получивший неожиданное повреждение, стал «терять высоту». Он пригнулся от неожиданного удара. Я постаралась с помощью полуправды, которая еще обманчивей, но убедительней лжи, вернуть его на прежний
8
уверенный курс. Хоть на короткий срок... В результате, он не упал, не взорвался, не пошел на рискованную вынужденную посадку... Не сел, но как-то осел. И вся моя семья внезапно осела. Накренилась от травмы, которая образовалась в основании дома и все опаснее углублялась и расширялась. С фундамента же дом не только начинается, — фундамент его на себе держит.
— Я абсолютно жива, а вы уже насмерть струхнули! — осудила я их. И слегла в постель.
С приятельницей моей Гертрудой мы давно уж распространяли билеты на концерты классической и неклассической музыки. Гертруда именовала нашу деятельность просветительской. Хоть для меня она была просветительской лишь в том смысле, что оставляла просветы для хлопот о своем доме, своих мужчинах.
Иногда некрасивость женщины становится ее отличительной чертой, как бы главной приметой. Такой внешностью и обладала моя подруга. Я заметила, что имена часто, как собаки, отражают характер своих хозяев. В имя Гертруды было врублено слово «труд».
«Душа обязана трудиться...» — сказал, хоть и не Пушкин, но прекрасный поэт. Душа Гертруды трудилась без передыха. Эта трудолюбивость была еще одной определяющей приметой моей подруги. Но уже внутренней... Можно было сказать, что Гертруда «Герой труда», но не социалистического, а, напротив, гуманистического. Я в этом была уверена. Мне виделось, что Гертруда воспринимает катастрофы дальних судеб, как близких и своих личных. Хотя ничего «личного» у нее, мне казалось, не было...
— Проблемы других стали основными моими проблемами, — не раз повторяла Гертруда.
«У каждого обязаны быть и свои основные проблемы, — размышляла я ей в ответ. — Печально, если их нету».
«Но и мои мужчины мучаются за меня не меньше, чем страдали бы за себя», — думала я без гордости за своих мужчин и даже без ощущения благодарности, а лишь с болью за то, что им на долю выпали такие терзания.
Я называла их троих — мои мужчины, а подразумевала: мои дети. И доктора физико-математических наук я дома превратила в ребенка: неумелым и неразумным дитем быть проще и, да простится мне, выгоднее. Эти запоздалые и уже бессмысленные мысли нагнали меня сейчас. В последние недели или дни существования моего...
9
Превращая же мужа в ребенка, я, наверно, удовлетворяла и свою неутоленную жажду иметь побольше детей. О чем грезила маниакально. Пока не осознала, что в нашей жизни та мечта беспощадна, жестока... по отношению к будущим детям.
Гертруда постоянно что-нибудь для кого-нибудь искала и обретала. Для меня она обрела весы. Они не были медицинским рентгеном, но, хоть и не высвечивали, зато взвешивали тяжесть моей болезни. Тут — как и в остальном при злокачественных историях — все было наоборот: чем меньше оказывался мой вес, тем весомее становились недуги. Все вздыбилось вверх ногами: как «положительный» результат просвечивания обозначал результат отрицательный, так и утеря моей тяжести означала увеличение моих тягот. И панической растерянности моих мужчин.
— Ничего... ничего, — пытался утешить себя мой супруг. — В нашей аттестационной комиссии есть и онкологическое светило: академик медицины.
Как будто академическое звание могло отменить ампутацию и что-то приказать метастазам! К тому же выяснилось, что академики нарасхват. Бенциона Борисовича расхватывали даже представители зарубежных королевских семейств. Как поется, «все могут короли...». Но гарантировать себе безопасность и защиту от недоброкачественных заболеваний не могут и короли. Здесь требуются особые «телохранители», умеющие охранять и спасать тело изнутри. Таким телохранителем и слыл Бенцион Борисович.
Даже и путь на тот свет титулованные пациенты совершают все же в привилегированных условиях, обладая и на «последнем отрезке» своими особыми преимуществами. До того последнего мига... который ставит крест на любых привилегиях. Одним словом, Бенцион Борисович улетел в какой-то зарубежный дворец, тайно сообщив моему мужу, что летит «по делу безнадежному».
«Как и мое!» — безмолвно добавила я.
— Ничего... он вернется! — продолжал усмирять свое отчаяние мой супруг. — Он вернется... Ничего предпринимать без него мы не будем!
В одно очередное не прекрасное утро я не обнаружила возле постели весов, которые с точностью определяли мое состояние.
— Они испортились, — сообщил младший сын. — Пока ты спала, я их снес в мастерскую. А там очередь, как везде! Готовы будут через месяц, не раньше.
10
— Все возжаждали вдруг определять свой вес? Слава Богу, что только физический... А если возжаждут так же точно определять политический? Представляешь, какая начнется свара? — сказала я, поскольку, привязанная к постели, вынуждена была принимать не только повышенные дозы лекарств, но и чрезмерные дозы газетной информации и теленовостей. И лукаво добавила: — Ты спрятал весы? Или поломал? Спасибо, сынок.
Его изобретательность продолжала действовать. Но зеркальце, в которое я пристрастно заглядывала, Виктор не стал разбивать. Во-первых, это плохая примета, а во-вторых, в доме было много других зеркал.
«Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи!» И зеркальце докладывало: восковой оттенок щек, костистая худоба, изможденность.
А ведь была хороша! Об этом говорил муж... шептал, бормотал, забывая обо всех своих кафедрах и научных советах. И даже о том, что в соседней комнате спали два сына. Один из которых, хоть и был младшим, ничего мимо ушей не пропускал. Другой же готов был пропускать все, что угодно, кроме как раз того, что мы должны были от него скрыть.
Не только супруг — и другие представители сильного пола порой слабели у меня на глазах. Интимная порывистость входила в противоречие с заученностью их комплиментов. И расшибалась о заградительную полосу моей насмешливости и мою мнимую недогадливость. «Упустила? Не воспользовалась? Теперь уже поздно?» — интересовался чей-то, словно допрашивающий меня, голос. «Нет, возможности, которые были мне ни к чему, цены не имели, — отвечала я бесцеремонному допросу и себе самой. — А перебирать в памяти те давние, ненужные завоевания... ныне, приблизившись к небесам, грешно и стыдно».
Рассуждениями этими я пыталась отстранить от себя безысходность. Но ее заложницей продолжала быть вся наша семья. Меня и в больницу-то не направляли не только потому, что против этого восставали мои мужчины, а потому, что умирать лучше дома.
Мужчины мои ужасались тому, что останутся без меня. А я тому, что оставлю их без себя.
Мы ждали Бенциона Борисовича... Нога же, однако, хотела распрощаться со мной поскорее. И нестерпимой болью рвалась к разлуке. Я привыкла делить со своими мужчинами
11
светлые мгновения, но не свои боли. Ничто, кроме наркотиков, не в состоянии уже было облегчить мои муки. Пора было отправляться в больницу.
Я всегда придирчиво выбирала слова, определявшие мрачные, неблагостные события. И старалась затушевать, скрасить ими реальность, а не выпячивать горести, не выставлять напоказ. Но навалилось такое, что замаскировать было уже нельзя. Я попала в ту единственную трагедию, когда дьявольское зелье становилось ангелом-избавителем. Пусть ненадолго. Но и страдать-то мне оставалось... недолго.
Стыдно, грешно было и ужасаться своим болям, если в палате, на соседней постели, ни о чем не догадываясь, погибала от саркомы ноги восемнадцатилетняя девушка. «Так мне ли, в мои сорок три?.. Я пережила ее уже на четверть века. На целую жизнь!»
Лера отличалась безупречным природным вкусом. Во сне она даже больничную подушку обнимала как-то по-своему, обворожительно, словно чью-то любимую голову. Да и сама была... Пробудившись, она прежде, чем к лекарствам, обращалась к своей нехитрой косметике — и с ее ненавязчивой, чуть заметной помощью противостояла признакам скоротечной болезни, которая оставила ей не более полугода... И для косметики, и для звонков, навстречу которым она устремлялась в коридор, на ходу преображая свою, пока еще легкую, хромоту в своеобразную полукокетливую походку.
Талия ее утопала в больничном халате, который она подпоясывала. А на груди халат еле сходился... Глаза, помимо Лериной воли, были откровенно зазывными. Такую открытость можно было приписать провинциальности, но мне виделась в ней искренность, коя не бывает чрезмерной.
«Все поклонники, все поклонники...» — ворчливо завидовала ей, приговоренной, старшая медсестра, которую мужчины звонками не утомляли.
Для лирических перипетий Лере было предоставлено всего месяцев шесть. За что? Неужто только за то, что девчонкой она, как и я, споткнулась и ушибла коленку? Многие спотыкаются гораздо серьезней, но не приговариваются за это к высшей мере наказания. Лерина нога оказалась, увы, гораздо обидчивей и мстительней, чем моя.
До возвращения академика из королевских хором в палаты не царские, не хоромные, а забитые теми, кто и так-то был
12
забит нуждою и горем, меня, по просьбе мужа, врачи с удовольствием оставили в полном покое. И даже нашли своему безразличию достойные объяснения: повторные рентгены — это-де повторная радиация, а дополнительные анализы — лишняя перегрузка истомленного организма. Почти все на этом свете можно объяснить красиво и убедительно.
— С облучением и химиотерапией тоже повременим, — не таясь, сообщил мне палатный врач: от оглашения приговорных диагнозов и крайних способов уже бесцельного лечения оберегали, да и то согласно моей мольбе, лишь восемнадцатилетнюю Леру.
Однако ко мне, увы, не проявляли невнимания и буквально ни на час не забывали обо мне удушья и кашель — то разрывной, то шрапнельный. И незримые остроконечные пики, вонзавшиеся в ногу все чаще и глубже... Отпор им по-прежнему давали лишь наркотики, если Лере удавалось дозваться старшую медсестру.
— Ты уж о поклонниках своих заботься, — продолжала исходить завистью медсестра. А в мою сторону без намека на сострадание бурчала: — Наркоманкой заделаешься!
Хотя она знала, что «заделаться» я никем уже не успею.
В мой первый больничный день, нарушив все административные правила, — а только они в больнице и соблюдались — ко мне под водительством Гертруды пробились мои мужчины.
— Как это удалось? Всем сразу? Больше двух посетителей зараз не пускают.
— Искусство всесильно, — ответствовала Гертруда. — Главный врач обожает музыкальную классику.
— Как вы об этом узнали?
Вопрос был наивным: ради других Гертруда способна была разузнать все.
Трое мужчин припали к моей постели, а Гертруда отвернулась, чтоб «не мешать семье».
Муж сообщил, что без меня не в состоянии соображать (а доктору физико-математических наук иногда это необходимо!). Виктор мигом подсчитал, сколько в палате больных и установил, что их в два с половиной раза больше, чем полагается. А сколько «положено», он заранее выяснил. Младший сын сказал еще, что не может входить в квартиру, зная, что не увидит меня. А старший, что не может посещать школу... И заплакал. Но тут он заметил Леру. Глаза его мигом просохли. Он пересел с моей постели на бывший когда-то белым обшарпанный
13
стул. И уставился на нее таким взглядом, что Лера поплотней запахнула халат. А я поняла: пятнадцать с половиной — это уже возраст мужчины. Также мне стало ясно, что палату нашу, в отличие от школы, Алеша отныне будет посещать ежедневно.
Мне как раз принесли обед, состоявший из тарелки подогретой мутной воды с плавающими на поверхности бледными кружочками жира и гречневой каши-размазни. Младший сын незамедлительно поинтересовался, на какую сумму в день нас «питают». Я не знала. Тогда он выяснил это у кого-то из моих пожилых дотошных соседок... После чего отнес обе тарелки в туалет, а обратно принес их пустыми.
— Питание твое будет домашним! — заявил он.
— И ваше тоже... — томно пообещал Лере мой старший сын.
Виктор указал на судки, которые Гертруда успела опустить на пол, вымытый возле моей постели, будто к их приходу, чистюлей Лерой.
— Без тебя мы не можем... — проговорил мне в плечо муж.
Совместная скорбь трех мужчин не взбодрила мою гордость тем, что без меня они жить не смогут. Мне хотелось, чтобы смогли.
— Я ведь оставила вместо себя Гертруду!
— Но я же... не вы, — услышав меня и на миг повернув голову, возразила подруга.
— Они привыкнут. И поймут... что вы будете даже лучше меня.
Гертруда энергичными кивками выразила протест.
— Привыкнут!
Я произнесла это вполне убежденно: сколько у Гертруды скопилось нерастраченной энергии внимания к роду мужскому! Вот и пусть выплескивает всю ее на моих мужчин. Я-то уж никогда и ни в чем не смогу... Никогда и ни в чем.
— Поймут... что вы будете даже лучше меня, — не задумываясь, повторила я, чтобы убедить мужчин. Возможно, она была не лучше и не хуже — просто мы были такими разными, что, приятельствуя много лет, никак не могли перейти на «ты».
Не только Алеша впивался в Леру алчущим взором. От этого не удерживались и студенты-практиканты, частенько навещавшие нашу палату.
— Неужели ей ничто и ничуть не поможет? — спросила я палатного врача, видевшего в Лере лишь пациентку.
Он, измотанный онкологическим адом, который называл
14
«своей службой», похоже, к тому аду прижился. Но с Лериной саркомой смириться не мог даже он. Слишком уж она противоречила справедливости.
— Оттягиваем, как можем. Для нее ведь каждый месяц... и даже каждый день...
Та его не завершенная фраза мне запомнилась.
«Жить сегодняшним днем» — призывали не только жизнелюбы-хапуги, но и бессмертные мудрецы. Правда, аргументы не совпадали — у одних: возьми, ухвати все, что в этот день сможешь, а у других: отдай, сотвори все, что тебе предназначено сотворить в этот день. Бывают, однако же, ситуации, когда получить что-то досрочно и в большем количестве, чем рассчитано на один день, необходимо и вовсе не грех.
Студент-практикант по имени Вячеслав выглядел чересчур отутюженно на больничном фоне. Свои бакенбарды и усы он опекал, как влюбленный в природу садовник опекает грядки и клумбы. Но влюблен Вячеслав был не в растительность — садовую или свою собственную — а, как и мой Алеша, в прекрасный пол, на данном же этапе — в Леру, старше которой был с виду лет на пять.
Мне, честно говоря, с юности казалось, что бакенбарды следует заслужить, что на них имеют право выдающиеся художники и поэты.
— Приглашает в кино, — прильнув к моей подушке, словно мои мужчины, но более мягко и нежно, прошептала Лера. — Я боюсь.
— А ведь звонков своих многочисленных почитателей ты не боишься!
— Они звонят из нашего города... как и мама. Это далеко. Оттуда они не дотянутся. А он... совсем рядом.
— И хорошо!
— А если в темноте вдруг полезет ко мне... обниматься и целоваться?
— Ну, и целуйся. И обнимайся... Что такого?
— Да-а? — изумилась она, воспринимая мой совет, как очень авторитетный, но странный. — А если потом домой пригласит? Он намекнул... Как отвертеться?
— Зачем отворачиваться? Что тут особенного?
— А если вдруг...
— Ну, таких советов я давать не могу. Но вообще-то настает время, когда...
— Вы так думаете?
Я могла бы сказать: «Советую тебе как мать...» Но сове-
15
ты матери для нее, я заметила, не были убедительны. И я сказала:
— Советую тебе как женщина.
Она опять изумленно вперилась в меня.
Вячеслав был мне неприятен. Не своими ухоженными усами и даже не претенциозными, будто не по праву принадлежащими ему, бакенбардами, которые, я приметила, производили на Леру впечатление (интеллигентность и обаяние все же хитроумно уживались в ней иногда с наивной провинциальностью). Вячеслав был неприятен мне, думаю, потому, что он претендовал на обреченно больную. Однако за это же я была и благодарна ему.
— Должна же ты когда-то... начать? — сказала я, потому что времени откладывать у нее не было.
Мать навещала Леру только междугородными звонками.
— У нее новый муж. Молодой... Его одного оставлять опасно, — пояснила мне Лера.
Она не осуждала мать. Как не осуждала вообще никого. И стремилась сама, по возможности, исправлять чужие промахи и прегрешения. Приносила мне лекарства, которые, случалось, забывали приносить сестры. Помогла усаживаться на постель, переворачивала меня. Напоминала, что мне пора в туалет, отводила туда и приводила обратно.
Лера была обречена саркомой на скоротечность беды. Но и скорое течение бывает разным. Неотвратимость иезуитски сочеталась с неизвестностью... Она могла ходить, слегка припадая на больную ногу и, повторюсь, даже этим придавая себе дополнительное кокетливое очарование.
Мой срок был растянут на более долгое время. Но передвигаться, в отличие от Леры, я почти не могла. В онкологии, как во всякой экстремальности, много загадочностей и нелогичностей.
Саркома торопливей, прожорливей рака... И если бы не метастазы в легких, моя злокачественная беда вообще могла быть устранена... разумеется, вместе с ногой. Но в таком спасении я не нуждалась.
— Ты похожа на мать? — спросила я Леру.
— Говорят, поразительно.
— Тогда опасно не его одного оставлять, а ее одну отпускать.
— Может быть... Давайте я вас переверну со спины на здоровую ногу. — И как обычно, не дожидаясь моего разрешения, стала переворачивать.
16
— Спасибо...
— Пожалуйста.
Она не восклицала, впадая в скромность: «Ах, что вы? Что вы?!» Лера во всем была до неестественности естественна.
Двое моих мужчин — муж и младший сын — навещали меня поздними вечерами. Это было разрешено, поскольку главный врач «любил музыкальную классику». В часы официальных дневных посещений муж находился еще в своем научно-исследовательском институте, хотя что-либо исследовать до возвращения Бенциона Борисовича (да еще научно!) он, согласно своим заверениям, был не в силах. Виктор же посещал какие-то курсы начинающих бизнесменов, которые, по его словам, призваны были изменить в будущем лицо государства. И сделать страну, как ему объяснили, «страной с привлекательным лицом». Не просто с человеческим (человеческое лицо может быть разным!), а именно с привлекательным. Ну, а старший сын мой помышлял не о привлекательности всего отечества, а исключительно — Леры. Из всех коленок — больных и здоровых — его, я понимала, волновали только ее коленки.
Душа же Гертруды, натрудившись на нашей домашней ниве, не пропустила ни единого посещения. Как не пропустило и «домашнее питание» в ее аккуратных алюминиевых судках.
Но однажды она явилась ко мне в одиночестве.
— Где Алеша? — привычно забеспокоилась я.
— А где ваша соседка?
— Лера?
— Она... — Гертруда огляделась по сторонам, будто остерегаясь заговора.
Как раз в тот день Лера, которой был предоставлен «свободный режим», отправилась со студентом-практикантом в кино. Ни режим, ни что остальное для нее уже не имело значения. «Видишь, стало быть, нет оснований тревожиться...» — не раз повторяла я. Ложь во спасение, может, и не спасала, но облегчала.
— Значит, она не так уж больна? — предположила Гертруда всерьез.
— Да, Лера больна не так... — ответила я закодированной фразой.
— Ушла в кино? Из онкологического отделения! — продолжала недоумевать Гертруда.
— Она ведь так молода...
— Вот, вот. Молода! И, можно сказать, смазлива.
17
— Очаровательна, — поправила я.
— Алеша, к несчастью, тоже так думает. И влюбился в нее!
— Влюбился? Алеша?
— Как безумный! Представьте себе... И это моя вина. Вы же доверили мне... Не доглядела!
Ей казалось, что можно «доглядеть» за любовью.
— Как безумный? Откуда известно, что он потерял рассудок?
Она вновь таинственно огляделась.
— Полночи рассказывал мне. По секрету (абсолютнейшему секрету!). И плакал... Вот на этом плече. Как ребенок.
— Он и есть ребенок, — неискренне произнесла я.
Она предавала моего сына... Пусть в разговоре с его матерью, но все равно выдавала его секреты. А сын? Он, стало быть, перестал делиться самым заветным... только со мной? И начал плакать у нее на плече?
«Вы привыкнете!» — пообещала я своим мужчинам так, будто бы приказала. И старший сын уже подчинился. Так быстро? Вопросы громоздились, не получая ответов. «Ты — ветреник!» — когда-то сказала я сыну, не допуская, что это может распространиться и на меня.
По велению разума, а не сердца разработала я план действий, который про себя именовала «предсмертным». Но все же предпочла заменить себя подругою некрасивой. Потому что считала Гертруду свободной от личной жизни. Освобожденной от нее навечно...
Меж тем из кино возвратилась Лера. Потом я узнала, что домой к практиканту она пойти не решилась: «Успею еще... Не к спеху!»
Она не спешила.
— Эта женщина очень заботлива, — прямодушно сказала Лера, когда Гертруда ушла.
— Но некрасива... И мне ее даже жаль.
— Почему? В ней что-то есть.
Я внутренне встрепенулась: может, «что-то» способно заменить красоту?
Исподволь я сама готовила сыновей к тому, что им придется поменять мать на мачеху. «Пусть мачеха окажется для них матерью!» — молила я судьбу. «А все же не такой, как была я», — вползала в ту мольбу неправедная поправка. Но вот уже Алеша плакал не на моем плече... Я ведь сама счи-
18
тала, что так должно быть. Но считать и хотеть — не одно и то же.
Дней через десять мои мужчины и Гертруда явили себя нашей палате в парадном, разряженном виде. Это вызывающе не стыковалось с онкологическим климатом. Оказалось, что прямо из больницы они отправлялись на концерт неклассической музыки.
— Этой рок-группой бредит весь мир! — захлебываясь приподнятостью своего настроения, возвестил младший сын.
Возле окна бредила не в переносном, а в самом буквальном смысле «новенькая», которая была моложе меня даже не на четверть века, как Лера, а на все тридцать лет. Однако танцевать ей в жизни не предстояло.
Некрасивость моей подруги подчеркивалась ее разодетостью столь же безжалостно, как праздничность всех моих посетителей оттеняла трагичность больничного бытия. Гертруда не была похожа на себя, на мою давнюю приятельницу... с ее способностью издали угадывать чью-то беду и кидаться наперерез. Куда девалась ее сострадательная дальнозоркость? А может, я раньше была близорука?
— Удалось достать три билета! Чтобы как-то отвлечь... — угадав мое недоумение, пояснила Гертруда. — Два в пятом ряду и один — входной.
— Ничего, я пристроюсь, — успокоил ее Виктор. Неужели и он уже вполне к ней пристроился? Так ведь я же к этому и стремилась.
— Александру Олеговичу дальше пятого ряда сидеть некомфортно, — обратилась ко мне Гертруда. — Алеша же хочет остаться с вами...
Она дважды сознательно не договорила: о том, что Алеша остается не только со мной, но и с Лерой, и о том еще... что сама будет сидеть в пятом, рядом с моим мужем.
— Из рубашек Александра Олеговича я выбрала для концерта эту. Я не ошиблась?
Она уже ориентировалась в гардеробе моего супруга. Я все больше казалась «сдающей дела», а Гертруда — «дела принимающей».
Бенцион Борисович был не типичным академиком. По крайней мере, не таким, какого я ожидала.
Накануне, уже не боясь навредить моему организму радиацией и перегрузкой, меня изучали рентгеном спереди, со
19
спины и с боков... Меня «анализировали» детально и тоже с разных сторон.
Академик не соответствовал и некоторой парадности своего имени-отчества. Он был невзрачным, сухощавым и оптимистично подвижным. Лишь торжественность, возникшая вдруг в облике палатного врача, чаще всего беспробудно измотанного, соответствовала медицинскому рангу Бенциона Борисовича. Академик игриво подмигнул Лере, а меня, как девочку, потрепал по загривку. И уселся на обшарпанный стул, не замечая его обшарпанности.
— Я уже видел ваши последние снимки и результаты анализов. Так что, можно считать, мы знакомы!
Палатный врач приготовился записывать.
— У вас был коклюш? — спросил академик. — Пусть и давно, в раннем возрасте?
Палатный врач растерянно замер, словно академик пошутил или задал какой-то ребус.
«Большой врач отличается от обыкновенного, как Пушкин от своего современника Кукольника, а Чехов — от своего коллеги Потапенко. Впрочем, это были люди даже разных профессий», — объясняла мне покойная мама, которая была детским врачом. И, как считалось, не очень обыкновенным.
Я сообщила академику, что коклюш был.
— И долго вы кашляли? Болезнь тогда ненароком не запустили?
— Разве моя мама могла подобное допустить? Она была педиатром! — ответила я столь протестующе, будто оскорбили мамину память.
Академик даже отпрянул и прижался к обшарпанной спинке.
— Я тоже очень любил свою маму. Но все-таки... В студеной реке или в холодном озере вы когда-нибудь не застужались? — осторожно поинтересовался он.
— Застужалась, но... когда мамы уже не было. Палатный врач записывал, хотя и продолжал удивляться. А я принялась рассказывать о той, долго не отпускавшей меня, простуде.
— Вот в этом все дело, — обернулся Бенцион Борисович к своему коллеге, который начал строчить более интенсивно. — Я легкие имею в виду. И бронхи. У нее — хронический и весьма, я бы сказал, запущенный, застарелый бронхит. И к тому же еще — эмфизема. — Он вновь обратился ко мне: — У вас тяжелые заболевания легких и бронхов. «Тяжелые», «легкие»... Антиподные понятия, да? Но жизнь часто соединя-
20
ет несоединимое. Да еще эмфизема! Красиво звучит? Эм-фи-зе-ма... Похоже на «диадему». Так что никаких метастазов и вообще ничего неизлечимого у вас нет. Первый рентген, простим его, обознался.
Он не захотел сказать, что обознались и доктора. И мой палатный врач обознался... Тот оценил тактичность Бенциона Борисовича и согласно кивнул: да, мол, рентген виноват.
— Ну, а с ногою расстанемся, — без оптимизма, но и без драматизма как бы заключил академик. — Ничего не поделаешь. Это тяжко, но не смертельно. Костыли приходят на выручку, иногда протезы. А еще лучше — лечебная коляска. В вашем конкретном случае... — Он не сказал «инвалидная», а сказал «лечебная». — Чтобы, упаси Бог, не упасть. Но главный сюрприз, думается, я вам преподнес: вы будете жить. А на коляске передвигаться? Ну, что ж, вспомните Рузвельта. Ему это не помешало.
«Опять аналогии, — внутренне воспротивилась я. — То Черчилль, то Рузвельт... Нет ничего сомнительней аналогий. У Франклина Рузвельта был полиомиелит, а мне предстоит полная ампутация. Раз уж коляска...» Так я подумала, а сказала иное:
— Благодарю вас, Бенцион Борисович.
— Судьбу надо благодарить: коляска — это не метастазы. Будут вас катать... У вас ведь есть дети!
— Трое, — вдруг ответила я.
Бенцион Борисович повернулся к палатному врачу:
— Позовите, пожалуйста, семью. Они небось истомились, ожидаючи.
Палатный врач заспешил в коридор, а академик вновь потрепал меня по загривку:
— Сперва решил подарить сюрприз вам. И вашему доктору. Игнорировать его неудобно: вдруг бы он был с моим заключением не согласен? А теперь уж вручу подарок родным и близким.
— Ты будешь жить... Будешь жить... — повторяли мои мужчины, которых я назвала своими детьми. И стали жать руку Бенциону Борисовичу. Палатный врач пошел его провожать.
— Ты будешь жить...
Слова их констатировали факт. Но я не уловила в них торжества. Скорее, мои мужчины были растеряны, точно застигнуты врасплох... Узнав, что смертный приговор отменен, они еле заметно оторопели. Были обмануты их ожидания? Нет,
21
они не желали моей кончины. Но уже свыклись с нею. Они привыкли к моей смерти... Которой еще не было. Которая еще не пришла.
— Как же ты будешь... без ноги? — проговорил мой сообразительный младший сын. А прозвучало: «Как же м ы будем?»
— Ты нехорошо сказал, — тихонько поправил его отец. Но формальные фразы остаются без смысла, словно без воздуха.
Я знала: они жалели меня, мечтали никогда не расставаться со мною... но с той, которой я была прежде. А с этой?
«Возишь их в коляске, подобно младенцам», — сказала когда-то покойная мама. «Но я-то им в инвалидной коляске...» Завершить ту фразу я даже мысленно не смогла. Может, я не была справедлива? И все же... Рентген, просветивший мою семью, в отличие от медицинского, кажется, не ошибся. Не обознался.
Гертруда, стиснув губы и всю себя стиснув, молчала. Вероятно, по ее убеждению, мой новый диагноз возвращал ей одиночество. Не исключено, что у нее, в отличие от прежних времен, возникли и свои, личные проблемы. Может, ее уже сотрясали не только проблемы «других»?.. Об этом я знать не могла.
Неожиданно, что-то угадав, меня сзади обняла Лера. Семьи моей в палате уже не было. И Лера прижалась ко мне:
— Я полюбила вас. И буду вам верна... До конца своих дней!
На полгода верность мне была обеспечена. А каким образом... Об этом я не хотела думать.
Вечером опять появился палатный врач.
— И я поздравляю. Вслед за Бенционом Борисовичем. Рентген, слава Богу, ошибся. — Он был порядочным человеком — и потому добавил: — Или ошиблись м ы. Теперь осталась лишь ампутация.
— Полная, — уточнила я. Он не возразил.
— Она необходима... Иначе то, чего, как оказалось, нет, может возникнуть. Откладывать не стоит. Ни на одну неделю! — Он протянул мне какую-то бумагу. — Это вы должны подписать.
— Что... это?
— Удостоверить, что против ампутации не возражаете. Он протянул мне шариковую ручку.
22
— Я это не подпишу.
— Как же так? Вы обязаны.
— Почему обязана? Это моя нога. И моя коленка... И
моя жизнь.
ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА...
Из блокнота
Мамы давно уже нет... А я все еще мысленно говорю: «Прости меня, мама». Она рассказывала близким, знакомым и даже не очень близким, какой у нее сын: очень хотела, чтобы люди ко мне хорошо относились, чтобы уважали меня. Я и в самом деле старался спасти ее от болезней, от житейских невзгод, торопился выполнить ее нечастые просьбы. А слов, которыми сейчас до того переполнен, что они подступают к горлу, не высказал. Многое мы, увы, осознаем запоздало, когда исправить уже ничего нельзя. Случалось, забывал позвонить в назначенный час. «Я понимаю, ты так занят!» Иногда раздражался по пустякам... «Я понимаю, как ты устал!» Она все стремилась понять, исходя из интересов сына, которые были для нее подчас выше истины. Если бы можно было сейчас позвонить, прибежать, высказать! Поздно.
Однажды Паустовский подарил мне стихотворение, переписанное его рукой из какого-то сборника. То были стихи молодого поэта Бориса Лебедева, который словно провидел свою судьбу: он ушел из жизни в самом ее начале.
Двадцать дней и двадцать ночей
Он жить продолжал,
изумляя врачей...
Но рядом с ним была его мать —
И смерть не могла его доломать.
Двадцать дней и двадцать ночей
Она не сводила с него очей.
Утром,
на двадцать первые сутки,
Она вздремнула на полминутки.
И чтобы не разбудить ее,
Он сердце остановил свое...
— Выучи эти стихи наизусть, — посоветовал Константин Георгиевич.
Я выучил.
«Берегите матерей!» — провозгласил в поэме другой, уже маститый, поэт. Хорошо было бы добавить: «Берегите матерей
23
так, как они берегут нас!» Этот призыв выглядел бы красивым, но нереальным: то, что может мать, может только она.
В истории Второй мировой войны много и таких трагических фактов, которые полузабыты или вовсе поросли сорняками забвения. Иные из них гневно развенчивают мифы о гениальных прозрениях Сталина. Вот один из таких неопровержимых фактов.
Как известно, алюминий — это самолеты, а кроме того, он входит в большинство оборонных сплавов. Тем не менее сталинский план индустриализации легкомысленно расположил алюминиевые предприятия в местах весьма уязвимых, недалеко от западной границы — и все те заводы (творцы «крылатого металла!») были уничтожены в первые же месяцы битвы.
Страна практически осталась без алюминия. То было событием катастрофическим. И тогда вождь создал новый план, который вскоре нарекли «историческим»: на базе маленького УАЗа (уральского алюминиевого завода) в кратчайший срок и, естественно, «не считаясь с потерями» создать гигант — по тем временам! — алюминиевой промышленности. Предлагалось вводить в строй цех за цехом и чтобы новые эти цеха, не дожидаясь остальных, сразу же гнали продукцию, без которой победить было невозможно.
Самый мощный и опытный в стране строительный коллектив, в котором работала мама, был брошен на выполнение «исторического» задания.
«Ты будешь нам нужен!» — сказал мне начальник стройки Андрей Никитич Прокофьев, которого любили и называли стариком, хотя теперь я понимаю, что ему было едва за пятьдесят. Он знал меня и потому, что я был сыном своей мамы, и потому, что уже тогда, в мальчишеском возрасте, часто печатался и выступал по радио. Одним словом, мы с мамой отправились вместе.
Эшелон добирался до места назначения полмесяца. И мама в пути заболела... Помню первое ноября сорок первого года. Мы выгрузились, покинули эшелон — и перед нами простерлось неоглядное, промозглое пространство: разбухшая, вся в лужах и ямах, земля, бараки, палатки, одинокие, закопченные дома и цеха. Холодный, унылый дождь, казалось, заладил навечно...
Ко мне подошел Яков Белопольский, впоследствии знаменитый архитектор, лауреат всех и всяческих премий.
— Толя, ты должен быть мужчиной, — сказал он. — Мама, ты знаешь, в дороге тяжело заболела... И помочь ей
24
здесь никто не сумеет. Нужна срочная операция! А до города, сказали, довезти не успеют...
Помню, я сразу же, по наитию свыше, рухнул коленями на мокрую землю и воздел руки к небу:
— Господи, спаси мою мамочку!
Минут через пятнадцать выяснилось, что жена одного из инженеров — искусный хирург, что она привезла с собой инструменты, лекарства. Фамилия ее была Свердлова, но к первому председателю ВЦИК она отношения не имела. В барачных, воинствующе антисанитарных условиях она сделала сложнейшую операцию. И мама прожила еще тридцать семь лет. А я с того дня, с первого ноября сорок первого года, стал верить в Бога. Он услышал меня... Могу ли я сомневаться?..
Дня через три меня вызвал парторг той гигантской оборонной стройки по фамилии Голынский, который, хоть и представлял «большевистскую партию», но человеком оказался хорошим. Как было, так было...
— Начальник сказал мне, что ты печатаешься. Где?
— В «Комсомольской правде». И в «Пионерской»...
— Так вот. Сегодня пятница, а со вторника по приказу верховного главнокомандующего (стройка-то считалась военным объектом!) у нас начнет выходить газета «Крепость обороны». Ежедневная! На правах фронтовой... Ты станешь ответственным секретарем. Приступай прямо сейчас!
И я приступил.
Возвращаясь в предрассветные часы из типографии, я неизменно видел возле барака маму. Она ждала... А еще она, работавшая часов по четырнадцать, находила время днем забежать в редакцию и прочитать газетные полосы — вдруг проскочила опечатка: корректоры предусмотрены не были. Она проверяла типографские оттиски, как мои домашние сочинения в довоенную пору.
У меня был секретный «свод военных тайн»: о чем можно писать, а о чем под страхом смерти нельзя. Одна ошибка, один просчет — и НКВД, трибунал (стройка-то была сверхсекретная!). Тот «свод» я и маме ни разу не показал. А ошибку допустил лишь однажды...
К нам любили наезжать знаменитые мастера искусств: в виде гонорара им выдавали скромный, но все же продуктовый паек. Концерты начинались после полуночи (до того часа люди работали).
Помню, был объявлен концерт прославленного чтеца Всеволода Аксенова. К тому же красавца и мужа Елены Гоголевой.
25
Он должен был читать лирику русских классиков. Я несколько ночей до того не спал — и наслаждаться даже классиками не было сил. Поскольку ни в Аксенове, ни тем более в классиках сомнений у меня не было, я заранее написал, что «великие стихи вдохновили строителей на новые подвиги». Заверстал ту заметку в номер и отправился спать. Утром мне позвонил Голынский.
— Ну, как великие стихи вдохновили?
— Замечательно! — заверил я.
— Не могли они вдохновить. Потому что концерт не состоялся... Пути замело — и артист не приехал.
— Но это, по-моему... уж не такая большая ошибка, — промямлил я.
— Запомни, — чересчур внятно произнес он, — маленькая ложка дегтя и большая ложка одинаково отравляют бочку меда. Из-за этого «небольшого» вранья не поверят и во все значительное, о чем написано в номере: в страдания, в подвиги. Договоримся: это — первая ошибка, но и последняя!
— Я обещаю.
Больше ошибок не было. Маме я о той истории не рассказал.
Я видел: матери, которые подчас сутками вкалывали в цехах, где, по медицинским законам мирного времени, можно было находиться не более четырех или пяти часов, отдавали детям все, что полагалось «за вредность производства». И дети выпивали молоко, съедали хлеб, намазанный слоем масла, который был не толще папиросной бумаги и сквозь который просвечивали хлебные поры, кидали в стакан последний кусок сахара... Сейчас я думаю, что мы порой чересчур уж бездумно принимаем жертвы матерей своих. Принимая их, мы обязаны всякий раз задать себе вопрос: «Не отдает ли нам мать последнее? Не отдает ли то, без чего не может выжить на земле человек?»
Жертвенность материнского чувства естественна, но естественной обязана быть и наша готовность противостоять благородной «неразумности» материнских щедрот.
«В муках мы мать вспоминаем», — писал Н.А.Некрасов. И за спасением от детских недугов тоже обращаемся к ней. «Ничего страшного: я с тобой. Все пройдет...» — шепчет мама. И болезнь отступает, потому что рядом Она. «Ах, если б навеки так было!»
Возвращаясь из типографии, я нередко и с ужасом — привыкнуть к этому было нельзя! — натыкался на бугорки, припорошенные снегом. То были люди, навсегда сшибленные с ног дистрофией, болезнями, нечеловеческой усталостью. Я думал:
26
«Если б здесь у людей этих были матери... Они, мамы, что-нибудь бы придумали, изобрели. Они бы уберегли детей своих, они бы не допустили...»
17 июня 1953 года маму сразил «бронебойный» инфаркт. Ей было всего сорок девять... Неотложка отказалась отправить ее в больницу:
— Бесполезно... Разве не видите? Ногти синеют. Она отходит.
Тогда я позвонил Борису Евгеньевичу Вотчалу, который считался в то время лучшим терапевтом не только страны, но и мира (о том свидетельствовал международный диплом). Он не отказался и сразу приехал: выяснилось, что внуки его любили мои книги того времени, которые сам я сейчас ничуть не ценю.
Могучий, седовласый красавец, он самим видом своим дарил веру в спасение. Поскольку неотложка предсказала, что сердце мамино вот-вот остановится, я еле слышно спросил академика медицины:
— А отчего сердце останавливается?
— Сначала надо выяснить, отчего оно бьется, — ответил лучший терапевт мира. — Я лично понятия не имею. Мои студенты знают и охотно вам объяснят. Но маму вашу спасу...
И он спас.
Я думал, надеялся — уже через много лет! — что искусство другого знаменитого врача, уролога, спасет маму от злокачественной опухоли. Я не знал, и никто вовремя не заметил, что метастазы вероломно проникли в кости, тайно распространились. За что выпали маме, моей добрейшей, бескорыстной, самоотверженной маме, такие страдания? Позвоночник перестал быть опорой... Она даже не могла приподняться. Анестезиологи отключили ее сознание, чтобы не ощущала последних и страшных мук. Мама бредила... А я плакал возле постели.
И вдруг... произошло то, чего, как уверяет медицина, быть не могло. Но случилось... Мама, без помощи позвоночника и всей как бы растворившейся костной системы, приподнялась, пробилась через отсутствующее сознание и спросила:
— Толюшка, что случилось?
Сквозь небытие она увидела мои слезы. Это было последнее, что она увидела. И те слова были последним, что произнес мамин голос...
Я прихожу к маме, склоняюсь над гранитной плитой. То в реальности, а то мысленно... Вовремя, при жизни их,
27
должны мы сказать матерям все доброе, что можем сказать, и сделать для них все доброе, что можем сделать. Прости меня, мама...
СКВОЗЬ РЕШЕТКУ
Из блокнота
Когда тюремный вагон увозил отца моей жены Евсея Борисовича Фейнберга в магаданский лагерь, он на просвечивающихся папиросных листочках обратил свой голос, свою истерзанную, но не сдавшуюся палачам душу к жене... И на дальней, неведомой станции выбросил письмо сквозь решетку того застенка на колесах — в снег, в мороз, в никуда. Но письмо... дошло. Стало быть, кто-то, не побоявшись свирепого наказания (а за содействие такой «переписке» причиталось бы многолетнее заключение без права на переписку!), да, кто-то не устрашился и доставил письмо в Москву. Значит, были люди, которым и «большой террор» не мешал оставаться людьми.
«Я ни в чем не виноват!..» Чем же все-таки Евсей Фейнберг не угодил режиму? Он оказался виноват перед сталинской системой лишь в том, что был до нереальности честен, порядочен, неспособен на пресмыкательство и холуйство. Эти его качества были антиподны строю, при котором все должны были замереть «в строю», оцепеневшем от послушания. А он, сын богатого немецкого банкира, идеалист и неукротимый правдолюбец, на расстоянии поверил тому режиму, чьи провозглашения никогда не стыковались с намерениями и действиями. Поверил и устремился на созидание «светлого будущего», под которым сталинская система разумела жестокую непроглядность. Но он-то, Евсей Борисович, и его талант строителя воздвигали дома, заводы, мосты... Под светом и добром он-то разумел свет и добро. Разве могли такое простить?
Пробиться к желанному всеобщему раболепию режим мог только дорогой страха. Но не какого-нибудь обычного, заурядного, а дьявольского, еще не виданного в истории! Такой ужас и порождала сталинская, официально, разумеется, не объявленная, теория «нелогичной кары». Если кара «логична» (хоть и с точки зрения чуждой тебе логики), она предсказуема — и можно ее упредить, избежать: веди себя согласно требованиям режима — и ты в безопасности. Но нет: ты можешь быть фанатически предан коммунистической партии, с утра до глубокой ночи славить вождя, даже рисковать ради них жизнью — и будешь арестован, судим, уничтожен. А кто-то другой (как,
28
допустим, бывший генеральный прокурор Вышинский) может быть в прошлом кадетом или меньшевиком, состоять в родстве с зарубежным священником высокого ранга — и он-то как раз будет тебя обвинять, судить, приговаривать. «Какое вообще значение имеет биография?» — демократично изречет в этом случае товарищ Сталин. Вот при такой «нелогичности» наказания, по сталинскому замыслу, должны были трепетать все, ибо неизвестно было, в кого ткнет, на кого укажет карающий перст.
Разве мог хоть кто-то — тем более в «заграничной дали» — подобное себе представить, вообразить? Это было немыслимо, потому что подобного — вновь берусь утверждать! — еще не ведало человечество. Царь Иван, прозванный Грозным, уничтожил столько единоплеменников, сколько в годы «большого террора» репрессировали, думаю, за две-три ночи в одной только Москве. А ведь «черные вороны» рыскали по всем городам и весям страны...
Ни один властитель не сгноил такого количества своих сограждан, какое замучил пытками и утопил в крови Сталин. Это известно, но надо повторять, чтобы все тоскующие по его сатанинской власти избавились от своей самоубийственной, грешной тоски.
Даже человек высокого ума и уникального образования, каким был Евсей Фейнберг, но выросший или, как принято говорить, формировавшийся вдали от ленинско-сталинских нравов, так и не сумел до конца поверить в осуществимость жестокости такого непостижимого «качества» и таких небывалых — ни в прошлом, ни, надеюсь, в грядущем — масштабов. Вот почему он все же надеялся, что восемь лет заточения, к которым был приговорен, будут восьмью годами... Даже в Магадане он, думаю, не сразу осознал, что то была конечная станция его короткого бытия.
Достаточно увидеть его лицо, чтобы еще раз понять, убедиться: режим уничтожал лучших.
История Евсея Фейнберга — не потому, что он отец моей жены, а потому, что так и есть! — это сюжет романа, повести. Я и написал «Ночной обыск», который был опубликован в московском журнале «Октябрь». О многом из того, о чем вы прочли на предыдущей странице, мученически размышляет героиня моей, по сути документальной, повести...
Среди непонятностей, которые, наталкиваясь одна на другую, вторгаются в каждую человеческую жизнь, есть непонятность, для меня совершенно невообразимая: как, каким обра-
29
зом неслыханное в веках злодейство сочеталось с массовым обожанием злодея его жертвами, в том числе потенциальными, коими были почти все?! Когда моего отца и всех его друзей репрессировали, я, тринадцатилетний, понял, что это происходит не только с ведома Сталина, но и с его благословения. Задолго до своего ареста понял это и Евсей Борисович. Позже, однако, гораздо позже, из мемуаров знаменитых писателей, деятелей культуры, полководцев я узнал, что они, оказывается, верили... Во что?! Ну, у кого-то из, так сказать, рядовых граждан ужасом разум отшибло. Даже Лион Фейхтвангер, приехав ненадолго, не разобрался. Грустно, но можно понять... А вот умнейшие люди, постоянно жившие при советском строе, они-то во что верили, рискуя каждый день стать жертвами «большого террора»? В то, что все знаменитые военачальники (кроме таких дебильных, как Ворошилов, Буденный) были шпионами? В то, что вражески действовали почти все без исключения министры (в то время наркомы), их заместители, почти все поголовно командиры производства, тысячи и тысячи ученых, людей искусства, простых рабочих, крестьян? Верить можно было лишь в некоем обалдении. Или все-таки лгут, что верили? Полагаю, вторая версия чаще всего и является истиной.
Другое дело, что такие «рыцари без страха и упрека», как Евсей Фейнберг, всегда считают в чем-то виноватыми и себя: «Сегодня исполнилось десять лет со дня нашей женитьбы... Слишком много тяжелого пришлось нам пережить. Но большая часть страданий выпала на твою долю». Большая часть... Так пишет он жене из сталинского лагеря смерти. «Это терзает меня сейчас сильнее всего. Ведь я лишен возможности в течение восьми лет загладить эту вину перед тобой...»
И ни одной жалобы, ни одной просьбы о сострадании. Из лагеря смерти! Через несколько месяцев его не стало...
Более бесхитростного человека, чем Евсей Борисович, отыскать было трудно. Но, поняв, что его арестуют, он пошел на спасительный для своей жены, — а стало быть, и для дочери Тани — спектакль. Изменив себе, а не жене, не своему дому, он сделал вид, что семья распалась, — и развелся. Уже потом, через много лет, мать рассказала Тане, что тот развод был подвигом мужа и отца. Евсей Фейнберг не мог допустить, чтобы жена и дочь считались «семьей изменника родины». ЧС (или «члены семьи»)... То было клеймо, которое, как правило, становилось путевкой в тюрьму, в ссылку, в детдом. Евсей Фейнберг уберег самых любимых людей от клейма. И эту историю я тоже воссоздал в повести «Ночной обыск».
30
«Я ни в чем не виноват!» Кажется, только одна фраза в письме была криком.
«Я ни в чем не виноват!», «Я ни в чем не виновата...» — писали, кричали, доказывали десятки миллионов. Никто не услышал.
Как же надо было вымуштровать, выдрессировать общество, чтобы оно не воспротивилось тому кошмару... и обливалось слезами, когда наконец освободилось от палача?! Как же надо было...
ЗАБРОШЕННЫЙ ПАМЯТНИК
С голоса
Могилы, надгробия, памятники... Иные обросли сорной травой забвения, покосились, сровнялись с землей из-за беспощадности времени: некому приходить, никого не осталось. Но если есть кому, тогда по горестным этим пристанищам можно определить: продолжается ли жизнь того, кто ушел, хоть в чьей-то душе, в чьей-то памяти или навеки оборвана безразличием, неблагодарностью, расплатой за что-то, происшедшее на земле.
Надгробия, памятники, могилы... Нет, они не безмолвны — они свидетельствуют, они повествуют.
Первые и единственные конфликты — а верней, несогласия — между мной и мужем произошли месяца за три до рождения сына. Речь шла об имени и национальности, которыми сыну предстояло обладать с появлением на свет и до последнего вздоха. Но вспомню все по порядку.
Часами, совершая прогулки по совету врачей, я разговаривала с будущим сыном, который был будущим лишь для других, а для меня он уже существовал, даже действовал потихоньку... и не где-нибудь вдали или рядом, а во мне самой. Большей близости матери и ребенка, чем в пору беременности, наверное, не бывает. Я называла сына — то вслух, то мысленно, про себя — Фимой, потому что Ефимом звали моего мужа. С фанатичным нетерпением ждала я мальчика, потому что после, когда-нибудь он должен был стать мужчиной: как мой муж! И таким — только таким — как он. Столь нетерпеливо, порой с истеричным напряжением ждала я продолжения нашей семьи оттого, что предвкушала в этом продолжении повторение. Повторение своего мужа, его облика, его образа.
31
Позже, к великому огорчению, оказалось, что сын являл собой мою копию.
— Замечательная примета, — уверяли меня. — Это к счастью!
Но понятие счастье соединялось у меня только с понятием «муж». Я, испытывая претензии к слишком длительному — девятимесячному! — преддверию материнства, ждала ребенка, но знала, ни на мгновение не сомневалась, что, даже по-сумасшедшему обожая сына, я все равно буду боготворить его меньше, чем мужа. Ибо сильнее любить было попросту нереально.
Услышав, что я, обращаясь к еще не появившемуся на свет сыну, произношу его имя, муж выразил удивление. Выразил беззвучным вопросом незаданно добрых глаз, которые источали покой и надежность. Тревожащие эмоции он проявлял лишь в любви ко мне. Только в любви. А в житейской суете и в ненависти ни разу! Он, мне казалось, даже не ведал, что такое злоба и раздраженность. Никогда не повышал голос, но и не понижал... Муж был уверен, что стабильность благотворна не только в экономике, но и в общении между людьми.
Ты постоянно находишься в санатории «Душевный покой», — говорила мне мама, которая давно уже жила лишь моей жизнью. — О чем еще могу я мечтать?..
Особое спокойствие муж проявлял в ситуациях чрезвычайных. Без промедления начинал действовать. Энергия его воплощалась в поступки, а не в страхи и стрессы, которые лишь отбирают энергию действий.
Мужу казалось, что имя Ефим блеклое, ничего собою не выражает, хотя для меня оно олицетворяло смысл бытия. Узнав, что я намереваюсь сделать сына его тезкой, он ни словом не возразил, а лишь задал незадирчивый вопрос:
— Может, лучше назвать его Венедиктом? В честь моего отца... Роскошное имя!
И хоть отец мужа был, как вспоминали, человеком незаурядным и погиб в последнюю неделю войны, я упрямо хотела назвать сына не в честь его дедушки, отца своего мужа, а в честь самого мужа. Который, кажется, впервые не уступил мне тут же, немедленно, а принялся мирно меня убеждать:
— Я не видел отца ни разу. И не слышал... Пусть мне кажется, что я вижу его в сыне и слышу в нем.
Мне следовало бы сдаться. Так было разумней. Но в противостоянии разума и любви неизменно побеждает любовь. И я настояла.
32
Муж мимолетно нахмурился, но сразу же преобразил недовольство в раздумье:
— Хочешь, чтобы он был Ефимом Ефимовичем? Ну, что ж... Если для тебя это имеет значение, откажемся от Венедикта. Не тревожься, пожалуйста.
Он часто просил, чтобы я «пожалуйста» не трепыхалась: нервные всплески были мне категорически запрещены. На них агрессивно реагировала моя астма.
У мужа была неповторимая, чудилось мне, способность заражать своим отношением ко мне окружающих. Термин «заражать» изначально принадлежит медицине. И это выглядело неслучайным, естественным, потому что наиболее зримое «заражение» проявилось в кабинете Ольги Митрофановны — выдающегося борца с астмами разных происхождений: сердечными, бронхиальными, аллергическими.
У меня была аллергия. Но на что? Ольга Митрофановна докопалась, что мои бронхи не любят цветов.
— Вам часто их преподносят? — спросила она.
— Да, постоянно...
— И кто, если не тайна?
— Мой муж.
— Вот кто виновник!
Я принялась взахлеб и по-дурацки всерьез защищать, мужа. А она, отбросив в сторону свою постоянную занятость, не перебивала меня. Она слушала с любопытством... «Потому что ей неведомы те добрые и отважные мужские достоинства, которыми переполнен мой муж!» Так думала я, когда живописала Фимины качества в виде аргументов, нелепо защищая мужа от ее шутки.
Ольга Митрофановна отдалась своим пациентам до такой степени, что не имела ни семьи и ни мужа. Она обладала значительной внешностью, главной приметой которой была сосредоточенность на одной-единственной цели.
«Чтобы справиться с астмой, вероятно, нельзя от нее отвлекаться», — думала я.
Как ученый она сокрушала астму теоретически, а как врач — практически. Последнее представлялось мне более важным: мой недуг был жестоким душителем и отступал только в схватке. Кроме того, он был наследственным, — и потому Ольга Митрофановна избавляла от удуший и мою маму.
— Ты получила в наследство от меня лишь болезни, — виновато вздыхала мама.
Словесно она возводила Ольгу Митрофановну на пьедестал
33
и называла ее «спасателем». Но муж мой привык не к восклицаниям, а к поступкам.
— Голыми руками с душителями не справишься... если ты, конечно, не каратист, — сказал он однажды. — А у нее не хватает лекарств, ингаляторов, аппаратуры. Оружие в битве не может быть дефицитом! Иначе проигрываются сражения. Скажи, неужели и нашему Фиме тоже грозит астма? Если она... по наследству.
— Может быть, — тихо ответила я, будто извиняясь, что могу, подобно моей маме, преподнести такое наследство ребенку.
— Надо предотвратить! — сказал муж.
Без настырности (но изгладиться, остаться незамеченным это не могло!) он давал понять, что и в сыне любит меня, поскольку Ефим Второй повторяет меня и лицом, и характером. «Лучше бы и тем, и другим он повторял отца!» — мысленно возражала я.
Ефим Второй — так, будто царственную особу, именовала я в полушутку сына. Но только в «полу», потому что он, действительно, был для меня вторым после Ефима Первого.
— Ольга Митрофановна спасает нашу семью, — в другой раз сказал муж, — а сама нуждается в помощи. И даже в спасении!
Это значило, что он ее непременно спасет. Совершит спасение ради спасения — меня, мамы, сына... и вообще всех, кого она старалась избавить, исцелить от удушья.
Я хотела, чтобы Ефим Второй повторил Ефима Первого, а он повторил меня.
— Ты в детстве была — ну, точь-в-точь! — преподнесла мне сюрприз мама.
Муж называл меня красавицей. Выгодно было в это поверить. И я поверила... Значит, и сын должен был выглядеть неотразимым. Однако, когда женские характер и внешность достаются сыну, а мужские — дочери, случается «нестыковка». Муж при всей своей деликатности был неотвратимо определенен в намерениях и шагах. Сын же не шагал, а по-женски метался. Я жалела его и старалась привить ему отцовские качества, но возможность пересадки внутренних органов на душу и характер, увы, не распространяется. Муж был до педантичности обязателен. А если сын обещал вернуться домой часов в шесть, раньше десяти я его не ждала. Точней, не должна была ждать... Но все равно по-матерински места себе не находила.
— Не тревожься, пожалуйста, — просил муж. — Все в порядке. Ничего опасного...
34
И опасения сами собой рассеивались, исчезали.
По утрам мы с мужем поднимались вместе. Все двадцать пять лет. Четверть века! Он провожал меня до музея, где я была реставратором. Я и дома стремилась все реставрировать... Кроме своих отношений с мужем: они в реставрации не нуждались. Так было каждый день, каждый день... А по вечерам он заходил за мной с такой обязательностью, будто я была не супругой, а девочкой в детском саду. Изо дня в день, изо дня в день...
Для нашей с мамой спасательницы он отыскал дорогу к лекарствам, ингаляторам и вообще ко всему, без чего Ольга Митрофановна не смогла бы справляться с болезнью-душительницей.
— Во имя медицины и возвращения людям здоровья — по крайней мере, в масштабе нашего города! — мне следовало бы заболеть всеми недугами, — как-то сказала я по этому поводу.
— Не преувеличивай. Не фантазируй, — попросил он. «Да, всем моим хворям, будь их хоть тысяча, он бы сумел дать отпор, — подумала я в тот день, который казался мне самым безысходным в истории. — А свою болезнь... проглядел. Я ее заслонила! Только я... Лучше бы этот рак легких на меня навалился! И все болезни лучше бы на меня...»
Ольга Митрофановна не была хирургом, но подняла на ноги весь медицинский мир. О, как я за нее уцепилась! И только в ней видела шанс на чудо. Она разыскала и вытащила из отпуска самого опытного онколога, дочь которого тоже спасала от астмы.
— Зачем он курил? — равнодушно осведомился хирург, ко всему уж привыкший и отучившийся горевать в обнимку с больными и их родственниками.
— Зачем курил? Работа была такая... Он отвечал за объекты, которые что-то вредное выделяли. Очень вредное. И с ними что-то могло случаться... Я точно не знаю. Муж оберегал меня...
— Его тоже следовало беречь.
Хирург сказал правду, но не потому, что дорожил моим мужем, а потому, что так говорил всем.
— Надежда есть, а? Скажите... Есть? — шепотом произнесла я, заранее ужасаясь его ответу. — Муж не хотел меня тревожить. Скрывал от меня... Есть надежда?
— Жена обязана знать, если от нее и скрывают, — проговорил он, не отвечая на мой главный вопрос. И разглядывал при этом свои, по-медицински тщательно обстриженные, ногти.
35
— Надежда есть?
— А сколько он курил... в сутки?
— Одну сигарету прикуривал от другой. Особенно в последние годы, — ответила я. — Но все обойдется, а?
— Как же вы допустили подобное? — вместо ответа спросил он сам.
«Как же я допустила? Как же я?.. Как же?!» — разрывал запоздалый вопрос.
— Нервничал слишком? — дежурно поинтересовался хирург.
Он был знаменитым. «Но знаменитость свою, — подумала я, — приобрел не душевностью, не состраданием.» Впрочем, от него требовались врачебное искусство и знания, а не жалостливая душевность. Где было взять ее в том количестве, какое требовала его профессия? Все равно бы на всех не хватило...
Что было на кладбище, я не помню. Говорят, кричала: «Фимочка, я с тобой!» И рвалась вслед за ним. Говорят, пять или шесть мужчин еле удерживали меня. Говорят...
Я собрала все наши сбережения, кое-что продала, кое-что одолжила. И поставила нам с Фимой памятник. Нам обоим, потому что рядом с его фотографией в темно-серый гранит врезали и мою. Под ней — день, месяц и год рождения, за ними — черточка, а за черточкой — пустое каменное пространство для даты смерти, которую я звала, мечтала приблизить. Кроме наших с ним имен, нашей фамилии и дат, на памятнике, посреди него, высечено было лишь одно слово: «Люблю...» Все субботы и воскресенья я проводила на лавочке возле памятника. Мыла его нежно и старательно, погружала в цветы.
Пожилая женщина, подметавшая кладбищенские дорожки, как-то подошла сзади и негромко спросила:
— Он знал, что ты так его любишь?
— Он так же меня любил.
Через год и четырнадцать дней после смерти мужа сын, уже студент третьего курса, зачем-то стал листать книгу, в которую мы никогда не заглядывали. Это был учебник японского языка, который забыл у нас Фимин приятель, живший в Оренбурге, но преклонявшийся перед японцами. Из Оренбурга он сообщил нам лет десять назад, что учебник ему не
36
нужен: это начальный курс, а он продвинулся дальше. Сын учился в автодорожном... Зачем ему понадобился японский язык? Вроде, ничего в жизни не бывает случайным. Но ему-то к чему было раскрывать ту книгу и разглядывать иероглифы? Иероглифы... Это слово с того дня преследует меня, как символ непостижимости.
Сын на что-то наткнулся в той книжке. Прочитал... И, как о нежданной сенсации, крикнул:
— Посмотри, мама!
Я взяла в руки лист, вырванный из врачебного блокнота с фамильным штампом:
«Милый! Как коротки наши встречи... И как невыносимо длинны разлуки! Ты говоришь, что еще никогда так не любил. А я вообще, не любила — ни так, ни по-другому. И никому больше не скажу слова, которое повторяю с рассвета дотемна (и по ночам тоже!) — все эти четыре года: «Жду!» А все другое делаю уже механически. Врачу стыдно в этом признаться…
Я жду! Но как бы ситуация не оказалась той астмой, которая нас задушит...
Твоя Ольга.
P.S. В Москву, ты знаешь, вылетаю через неделю. Буду по-прежнему писать до востребования каждый день. Если даже письма долетят до тебя позже, чем я сама... Жду!»
Я забыла дорогу на кладбище. И возненавидела сына. Разве не мог он предать то письмо огню? Превратить в клочки, которые невозможно было бы склеить? Зачем протянул его мне — и перечеркнул мою жизнь?. Которую я вспомнила сейчас так, будто все, что казалось мне счастьем, было счастьем на самом деле... Я воссоздала события с объективностью, приносящей страдания. Воссоздала точно такими, какими ощущала их в пору, когда они возникали, происходили. Зачем? Чем сильней очаровываешься, тем мучительней разочарование, если оно наступает. Но я не была разочарована — я была убита.
Могилы, надгробия, памятники... Иные обросли сорной травой забвения, покосились, сравнялись с землей из-за беспощадности времени: некому приходить, никого не осталось. Но если есть кому...
К памятнику, покинутому одним, может приникнуть другой. Может, конечно. О своем бывшем памятнике я ничего та-
37
кого не знаю. Он стал заброшенным для меня. И фотография моя там — не на своем месте. Трудно себе представить...
Надгробия, памятники, могилы... Нет, они не безмолвны — они свидетельствуют, они повествуют.
КАК СОЗДАВАЛИСЬ ЛЕГЕНДЫ...
Из блокнота
Одним из лучших редакторов издательства «Детская литература» не только считалась, но и была Екатерина Тихоновна Бобрышева. Двух ее братьев (из того же фанатичного племени коммунистов-идеалистов!) расстреляли в лубянском подвале. А третий был убит тоже пулей, но немецкой, в бою. Его имя начертано золотом на мраморе в вестибюле Центрального Дома литераторов.
Считается, что пороки с возрастом прогрессируют. Вот и «величайший вождь и мучитель» стал вовсе уж величайшим на краю своего дьявольского существования: расправа с Еврейским антифашистским комитетом, «дело врачей»... Подстраиваясь под общий политический психоз, один из наиболее инициативных московских райкомов партии снарядил «ответственную комиссию» и натравил ее на самое крупное издательство детской литературы. Самое крупное в планетарном измерении... Райкомовская чистка призвана была очистить коллектив от засорения родственниками «врагов народа». Директор издательства Константин Федотович Пискунов — один из самых святых людей, которых я когда-либо встречал, — пытался противоборствовать, противодействовать... Но безуспешно. Комиссия потребовала «убрать» в том числе и сестру «братьев-разбойников», уничтоженных еще в тридцать седьмом году. Тогда группа писателей отправилась к Фадееву отстаивать любимую Катю Бобрышеву... Лицо Александра Александровича, которое всегда казалось мне притягивающе красивым и мужественным, стало неэстетично заливаться густо-алым цветом, что резко обозначилось на фоне его белоснежной, без малейших оттенков, шевелюры.
— Обращайтесь ко мне с любыми просьбами. Кроме подобных...
Я отважился вслух изумиться:
— Значит, если б ее третий, погибший на фронте, брат был жив, его бы тоже уволили?
А тут еще подоспел донос о том, что мы с Кассилем организовали в Союзе писателей сионистский центр. Вовсю уже
38
полыхало «дело врачей»... Помня разговор о Кате Бобрышевой, мы за помощью к Фадееву не обратились. Хотя если б «лучший друг писателей» вскоре не освободил нас — да и весь земной шар! — от себя, наша с Кассилем судьба была бы предрешена.
Однажды Сергей Преображенский, первый заместитель главного редактора «Юности», предложил мне:
— Поедем вечером на дачу к Фадееву.
— Но мы с ним едва знакомы.
— Ничего... Он любит новые лица. Особенно молодые... Тогда я был молодым.
Преображенский сам ничего не сочинял. Но и окололитературным человеком его назвать было нельзя. У него имелся врожденный литературный вкус, и он почти безошибочно отличал талант от безосновательных претензий на него. Из писателей Александр Фадеев более всего, мне кажется, тяготел к Александру Твардовскому, а из тех, кто, хоть и не пером, но служил литературе, — к Сергею Преображенскому. Сергей Николаевич был, бесспорно, в курсе всех, весьма запутанных, личных фадеевских перипетий. Но из его уст ни один, даже малозначительный факт не стал ничьим достоянием.
...Фигура Александра Александровича, склонившегося над столом в большой и пустынной комнате, олицетворяла одиночество.
— Пить не будем! Условились? — сам себя уговаривал он.
— Значит, минуя выпивку, перейдем к закуске! — поспешно согласился Преображенский. Тем более что закуску привез он сам: малосольные огурцы, маринованные помидоры, какие-то пирожки из ресторана Дома литераторов. Это действительно была не еда, а закуска.
Но Фадеев от своей трезвенности в тот вечер не отказался.
— Целый день думаю, так сказать, об одном и том же.
— О чем? Или о ком? — поинтересовался Сергей Николаевич.
— О нем.
И хоть со времени смерти Сталина прошли уже годы, было ясно, кто именно тот о н, о котором размышлял Александр Александрович.
— Он владел загадочной магией воздействия на окружающих. Так сказать, силой политического и психологического гипноза. Могу, так сказать, засвидетельствовать, потому что на собственном опыте убедился...
39
Бесконечные фадеевские «так сказать» придавали его речи ироничный оттенок. Словно бы он нарочно, профилактически амортизировал ими возвышенность и велеречивость, которых всегда опасался.
— Кажется, теперь помаленьку, так сказать, освобождаюсь от власти того гипноза. Выпутываюсь! Но все-таки...
Он «уступал» Сталина понемногу и очень нехотя.
— Теперь я осознаю, что были в его общении, так сказать, отрепетированность, хитрейшая театральность.
— Коварнейшая... — добавил я. Но он не услышал.
Александр Александрович уступал своего недавнего кумира, следуя велению времени и фактов, но пока еще вопреки своему желанию. Тот многолетний гипноз еще удерживал его, сопротивлялся.
С натугой высказал он мысль о том, что одно из главных стремлений диктаторов — «это, так сказать, навязчивое желание потрясать современников неожиданностью своих решений... ибо так, как мыслят они, владыки, могут мыслить только они».
А еще, по неуверенному мнению Фадеева, диктаторы (слова «тираны» он избегал) «блестяще умеют создавать о себе, так сказать, легенды, противоречащие их истинным взглядам, намерениям и их политике». Да, постепенно, но с упрямым внутренним сопротивлением он уступал Сталина запоздалым, однако, и неизбежным, праведным развенчаниям.
Фадеев считался любимцем Сталина. Но никаких любимцев у тиранов не может быть! Бывают временно приближенные, которые становятся потом навечно «отдаленными» от властителя, а то и от жизни вообще. Я робко напомнил слова давнего политика о том, что «у трона нет друзей, а есть интересы». Александр Александрович пропустил мою фразу мимо своих локаторно оттопыренных ушей. Он, и правда, принадлежал к той кучке приближенных, которую никак нельзя было назвать не только «могучей кучкой», но даже влиятельной, поскольку она ни на что серьезное не влияла. Но вождь вроде для того, чтобы посоветоваться, собирал иногда временно доверенных лиц, добавляя ее к членам политбюро, а позднее — президиума ЦК. Возникала одна из легенд: о мнимом желании диктатора «прислушиваться», что было, разумеется, признаком свободы и демократии. Это тоже являло собой одну из легенд. Кстати, в годы Большого террора распоясавшиеся следователи НКВД между собой, но почти официально, именовали обвинения, предъявлявшиеся миллионам ни в чем не повинных, «легендами».
40
Темы для «совместных обсуждений» выбирались либо нарочито сенсационные, либо политически значимые, но непременно такие, кои способствовали резонансу. «Временно доверенные» призваны были распространять легенды, выгодные вождю. «Пусть народ знает!» — не раз провозглашал вождь на тех обсуждениях, как бы снимая с них гриф секретности. Случайно он не провозглашал ничего.
Александру Фадееву довелось однажды быть членом правительственной делегации, отправившейся на монгольскую землю. Возглавлял ту делегацию председатель президиума Верховного Совета России Бадаев. Глава был необъятных размеров: он обожал поесть, а точнее — пожрать, и заливал обильную снедь литрами пива, по каковой причине, вероятно, знаменитому в России пивному заводу и было присвоено его имя.
Согласно древним обычаям, как объяснил нам Фадеев, жена хозяина монгольского дома, принимающего гостей, должна, завершая застолье, исполнить танец перед всеми его участниками. У маршала Чойбалсана жены уже не было, но была дочь... Она, худенькая, хрупкая, принялась изящно исполнять свою традиционную обязанность. И вдруг Фадеев с ужасом увидел, что сильно нахлебавшийся глава делегации с правительственно-гигантским, расползавшимся в стороны букетом, неуверенно покачиваясь всем своим необъятным туловищем, пытается взойти на сцену... Натыкаясь на ступени, он наконец взбирается — и не обнимает, а обхватывает дочь маршала. Букет рассыпается. А сам «глава» вместе с юной хозяйкой валится на помост... к изумлению всего дипломатического корпуса.
И вот этот международный скандал обсуждается.
Молотов считает, что Бадаева следует немедленно изгнать из партии, Каганович — что надо к тому же с треском снять с должности, а наиболее принципиальный и высоконравственный Берия убежден, что необходимо лишить Бадаева депутатской неприкосновенности (с какой целью лишить — само собой разумеется!). Сталин стоит, отвернувшись к окну, и попыхивает трубкой. Никто не видит, к чему он склоняется и к чему, стало быть, предстоит склониться всем остальным...
Наконец, вождь и учитель оборачивается и медленно, с расстановкой, подчеркнутой восточным акцентом, произносит такие слова:
— Товарищ Бадаев принадлежит к ленинской гвардии большевиков. Он был даже депутатом Государственной думы. И
41
мы долго думали, как нам использовать опыт товарища Бадаева... Мы избрали его президентом России. И вот этот «президент» едет в маленькую страну и — позорит русский народ. Что сделать с товарищем Бадаевым? Тишина становится вакуумной.
— Исключить из партии? Не можем: не мы принимали! Итак, легенда номер один (к тому же наистраннейшая!) была рождена: Иосиф Виссарионович, оказывается, не ведает, не осведомлен, сколько не им принятых в партию из нее прямиком проследовали в застенки! Вождь между тем продолжает:
— Снять с работы? Наверно, надо. Но мало! — Вдруг Сталин, обычно размеренный в движениях, со звериной хищностью подходит к Бадаеву:
— Убирайтесь на завод своего имени. Пейте пиво. И сдохните там! Это я вам говорю, товарищ Сталин!
Глаза у вождя в тот момент, как рассказывал Фадеев, стали оловянными, остановившимися от бешенства. Он вышел и хлопнул дверью, заодно прихлопнув и жизнь бывшего депутата дореволюционной Государственной думы.
Все свершилось по сталинской программе: Бадаев был назначен директором пивного завода своего имени, неумеренно (согласно высочайшему приказу!) наливался там пивом — и вскоре скончался.
Главная легенда, созданная в тот день, должна была оповестить города и веси, что, когда речь идет о чести русского народа, вождь всех народов неукротим, неколебим и пощады не знает.
В повестке дня другого совместного обсуждения политбюро и временно доверенных значились два вопроса: «устав сельскохозяйственной артели» и просьба о реабилитации первого секретаря какого-то комсомольского обкома, исключенного из партии за попытку изнасиловать секретаршу ночной порой в здании обкома.
Первый вопрос обсуждается не более десяти минут. Председатель совета по делам колхозов Андрей Андреевич Андреев (такое вот унылое однообразие имени, отчества и фамилии!) докладывает об уставе — и все единодушно голосуют. Кстати, Андрей Андреевич занимался в политбюро не одними сельскохозяйственными делами — по его личному указанию, например, в тридцать седьмом году был арестован мой отец.
Но вернусь к тому обсуждению... Второй вопрос — касательно комсомольского изнасилования — вызывает бурный
42
обмен мнениями. Более всех беснуется высоконравственный Берия. Разнообразных форм наказания требуют и Молотов, Каганович, Ворошилов, Микоян (тоже, между прочим, превративший комнату отдыха при своем кабинете в комнату активнейшей полуночной деятельности, о чем мне тайно, спустя много лет, поведала одна из жертв — по профессии стенографистка, а по внешности — красавица). Сталин, отвернувшись к окну, попыхивает трубкой... Потом оборачивается к соратникам и высказывает медленное, раздумчивое удивление:
— Что происходит?.. Вопрос первостепенной важности — о нашем крестьянстве! — не привлек к себе, мне кажется, пристального внимания. А между прочим...
Далее Сталин — последовательный организатор развала сельского хозяйства, голода, вернувший крестьянам крепостное право и приговоривший их к беспросветности трудодней — произносит отечески-проникновенную речь в защиту тех, кто «ближе всех к матери-земле».
Неожиданно его удивление становится ироничным и даже игривым:
— Теперь о втором вопросе... Что, собственно, произошло? Молодой человек, наверное, красивый, попытался навязать свою любовь девушке, наверное, тоже красивой, — и был отвергнут. Он уже наказан!
В одночасье были созданы сразу две легенды, которые — он это знал — молниеносно распространятся по городу, по стране... Во-первых, товарищ Сталин обожает крестьянство, болеет за него, сражается за его процветание. Другие руководители не сражаются, не болеют, а он — всей душой... Во-вторых (хотя это, конечно, не столь значительно), товарищ Сталин — психолог и не рубит с плеча, когда речь идет об ошибках молодости (он ведь, плюс ко всему остальному, еще и отец родной).
...Что касается моего родного отца, то он, как и отец моей жены, был из честнейшего племени романтиков. Оба за свой наивный романтизм трагически поплатились... В течение десяти лет, с двадцатого по тридцатый, отец редактировал партийный журнал. Однажды его к себе вызвал Сталин:
— Ночью не спалось. Надо бы, думаю, полистать журнал московских большевиков. Вероятно, там все в порядке... Полистал. Нет, не в порядке!
— Я, товарищ Сталин, два месяца пролежал в больнице: делали операцию.
— Вас назначили ответственным редактором, чтобы вы держали ответ за все, что в журнале опубликовано. Где бы
43
вы в это время не находились! Вот я сейчас поработаю... А вы присядьте и пробегите глазами эту статью. Любопытно, найдете ли вы то место, которое меня смутило.
Отец, что греха таить, не без трепета принялся читать. Но «смутившие» строки были подчеркнуты красным карандашом.
— Да... здесь вот, конечно...
— Вовремя понять свою ошибку — значит, почти ее исправить, — снисходительно произнес вождь.
Сидя в камере смертников, отец вспоминал ту фразу — и убеждал себя, что Сталин не ведает о кошмарах «большого террора», что его обманывают, дезориентируют... Легенда о снисходительности вождя, созданная одной фразой, произвела на него магическое воздействие. Ныне трудно поверить...
На заседании Комитета по сталинским премиям, когда сообщили о том, что один из очень талантливых соискателей, как оказалось, «сидел» и не сообщал об этом в анкетах, Сталин изрек:
— А мы за что даем ему премию — за биографию или за роман?
«Вот он какой: анкетам не придает ни малейшего значения! Для него важны литература, талант... Стало быть, это помощнички изгаляются. Выслуживаются... Это они!» — думали, расходясь, члены комитета. И распространяли свои «думы» вокруг...
Так легенды — одна за одной — добавляли к обманному облику «друга и учителя» новые завораживающие черты.
— Я ему верил, — тихо и виновато сказал Фадеев.
«ФИНИТА ЛЯ КОМЕДИА»
Из блокнота
Я знал человека, который на пятнадцатый день войны обвязался гранатами и бросился под немецкий танк. Но танк остановился как вкопанный, точно врос в землю... Герой остался в живых, чем был весьма опечален. Он объяснил свою «неудачу» качеством немецких тормозов — и был арестован, а затем приговорен трибуналом к десяти годам заключения за «пораженческие настроения». Тормоза-то он похвалил вражеские! Этот фронтовой случай описан мною в романе «Сага о Певзнерах».
44
Фраза, одна честная фраза, была для больного палаческого воображения СМЕРШа важней (в негативном смысле!), чем немыслимый героизм и беззаветная самоотверженность. Я употребляю возвышенные и даже высокопарные определения, но в данном случае и они слабы, недостаточны.
Думаю, одной из причин нашей неподготовленности к войне послужило то, что «недреманное око» служб Берии было озабочено не столько агрессивными приготовлениями Гитлера, сколько тем, кто какой рассказал анекдот, кто и как воодушевился или не воодушевился при упоминании «вождя и мучителя».
Безразличие к человеческой жизни, полная ее девальвация — вот самая чудовищная примета сталинской эпохи.
Тот, кто в грош не ставит чужую жизнь, обычно патологически дорожит своей собственной. Ценность людей определялась не их достоинствами, не их нужностью стране, народу, человечеству, а занимаемой должностью. В годы войны пришлось, однако, пойти на некоторое отступление от этого циничного правила. Власть вынуждена была изменять самой себе. Порой в неожиданных ситуациях.
Вот, к примеру, стали охранять, оберегать и... Юрия Левитана. Значение силы и воздействия его голоса было уникально: люди обретали надежду, уже, казалось, безвозвратно утерянную, обретали возможности, которые, чудилось, до конца иссякли. Можно без пафосного преувеличения сказать: его возлюбил народ.
Трудно подозревать в любви к нему также и Иосифа Виссарионовича. Я мысленно восклицаю: «Боже, какой же у Юрия Левитана был голос, если величайший антисемит Сталин в годы войны позволил этому голосу стать голосом всей державы!»
Левитан часто носил с собой посеревший и словно съежившийся от времени листок, на котором было написано: «Обявите меня только как...» Далее был указан лишь один из многочисленных высочайших постов вождя. Какой именно, я точно не помню... Подписи не было, но фраза принадлежала перу — а точнее, красному карандашу — товарища Сталина. Так прямо и было написано: «Обявите» — без твердого знака. Как в «исторической» фразе о слабой, по мнению самого М.Горького, поэме «Девушка и смерть»: «Эта штука сильнее, чем «Фауст» Гете: любовь побеждает смерт» — слово «смерть» было лишено мягкого знака. И многие газеты ежегодно, в день рождения Алексея Максимовича, цитируя то откровение вождя, печатали слово «смерть» без его завершающей буквы:
45
раз Иосиф Виссарионович так написал, стало быть, так и надо!
— Сталин успел передать мне эту записку, — рассказывал Левитан, — 3 июля 1941 года, буквально за минуту до того, как я включил микрофон и объявил, что «работают все радиостанции Советского Союза». Он сообразил, я думаю, что нагромождение высших чинов и званий не соответствовало трагизму и отчаянности тех дней. Хотя «главным виновником» трагизма, коим являлся, он себя, конечно, не ощущал...
Да, всю войну Юрия Борисовича охраняли. Узнал он об этом позже. За его голову Гитлер сулил гигантскую сумму марок. И это не выдумка, не легенда...
Когда Лев Кассиль «привлек» меня к передачам с Красной площади, которые, между прочим, велись из бельевого отдела ГУМа, что как-то не соответствовало их парадности, я и познакомился с Левитаном.
— Я милого узнаю по походке, а Левитана по голосу, — помню, кокетливо пошутила в студии популярная актриса.
— По голосу души и таланта, — без всякой шутливости дополнил кто-то.
И я подумал: а ведь действительно, каждый день (каждый!) его душа и талант помогали нам верить, проникать не просто в «приказы» и «сообщения», а в смысл происходящего. Тот смысл определял судьбу человечества...
Юрий числился «всего лишь» диктором, но из истории его вычеркнуть невозможно. А так, в повседневности, не позволял своей легендарности высовываться — был прост без намека на простоватость, остроумен без намека на хохмачество, любил изящество и красоту (прежде всего, я полагаю, женскую).
Левитан записывал и, так сказать, запечатлевал для грядущего все смешные оговорки, которые безвозвратно улетали в эфир. «Слово — не воробей: вылетит — не поймаешь». Странная поговорка: попробуйте-ка поймать воробья! Так вот, в первой же передаче я обогатил левитановский «оговорочник». Это было давно: на парад еще выходила конница. Я и сказал: «Вы слышите цокот копыт командного состава...»
Чуть позже, когда мы покидали студию, Юрий Борисович обратил мое внимание на человека, в чьей седине угадывались пряди беды и скорби.
— А он вот за свою «оговорку» почти поплатился жизнью, — сказал Левитан.
46
Юрий Борисович понемногу терял слух — и потому иногда спрашивал: «Я не громко?..»
Тот человек был одним из первых организаторов праздничных трансляций с Красной площади... В 1934 году Москва встречала челюскинцев. Всенародные празднества были в моде. «Ох ты, радость молодая, невозможная!» Сие должно было провозглашаться не только голосом Любови Орловой с экрана, но и настроением миллионов дома, на работе, на собраниях и площадях. Поскольку «жить стало лучше, жить стало веселее», это новое качество жизни, в преддверии «большого террора», обязано было обнаруживать себя везде и повсюду. Тем более на встрече челюскинцев...
День выдался не просто по-летнему ясный, а как бы затопленный солнцем. Сталин так прочно обосновался в центре мавзолейной трибуны, будто и не намеревался ее покидать.
А меж тем «литературный материал» у прозаиков, поэтов и дикторов, разумеется, подготовленный заранее, уже истощался. Наконец, все заготовленное и многократно завизированное прозвучало... Импровизировать же было не принято.
По крайней мере, импровизации тоже подлежали цензурной проверке. «Главлитчик», а по-простому — цензор, бдительно впивался в наспех сочиненные, не вызывавшие ни малейших сомнений оды и панегирики — и благословлял их цветным карандашом (карандашная роспись и тут считалась почему-то солидней, предпочтительней, чем тонкий след пера).
Но и источники вдохновения постепенно иссякали, мелели, а в голоса пробивалась естественная, но недопустимая для такого дня усталость. Москвичи же продолжали ликовать, не желая считаться с трудностями воспевателей, изнывавших в гумовском бельевом отделе. А вождь в белом летнем кителе умеренно помахивал рукой и умеренно то ли улыбался, то ли ухмылялся в усы: у вождей чрезмерных проявлений быть не должно.
Но вот последние демонстранты собрались возле мавзолея, бурно признались в любви и верности вождю (тут уж ничто не могло считаться чрезмерным!); Сталин в сопровождении соратников неторопливо спустился по ступеням и скрылся внутри мавзолея, откуда подземный ход ведет непосредственно в Кремль.
Тогда руководитель радиотрансляции, еще не седой, опустился на стул и произнес:
— Ну, «финита ля комедиа»!
Забылся? Расслабился? А микрофон отключен не был.
Домой он вернулся через восемнадцать лет...
47
ОТЕЦ И ДЕТИ
С голоса
Фамилия директора школы,
где в тридцатые годы учились
дети членов политбюро, была Гроза.
Газетные строки
Тоннеля не было. Но свет в конце был: в самом конце, за которым нет уже ничего, — нереальный, неземной свет. И неузнаваемый, потому что нельзя узнать то, чего никогда не видел.
И в том загадочном озарении возникли дети мои. Все трое... Давно уже взрослые, но для меня — все равно дети. Они встречали меня. И не выглядели гонимыми мучениками, коими оказались в свои последние годы, — наоборот, они, чудилось, источали тот самый свет, который я видел в конце. Нетерпеливый свет ожидания...
Я попытался крикнуть, чтоб они, не дай Бог, не исчезли, не дождавшись меня. Но голос, и ноги, и все мое тело были свинцово скованы, как часто случается в снах. Хотя не оковы сна парализовали меня, а оковы небытия. В привычном земном понимании... Небытие, наконец-то, пришло, а время оторваться, взлететь еще не настало.
— Я всегда утверждал, что клиническая смерть — это еще не смерть, — раздался совсем рядом самонадеянный, прокуренный бас. Я даже уловил его табачный запах, пробившийся сквозь марлевую повязку. — Все-таки мы его вытащили.
«Не вытаскивайте меня... Не возвращайте! Не надо... Не разлучайте снова с детьми, которые ждут и встречают!..» То был вопль души, который невозможно услышать. Да если б они и услышали, все равно бы не подчинились.
А потом я полузаснул... И мне вдруг привиделось, что судьба детей моих схожа с судьбой детей Сталина. Его сыновей, его дочери...
— Не спать! Не спать!..
Ладонь, грубая и тяжелая, как приказ, ударила меня по одной щеке, затем — по другой. Или это было наказание за тот полусон? Который выглядел нерешительным, боявшимся самого себя — и сразу исчез. Осторожный мой сон...
— Фамилия директора школы — Гроза. И это, тем не менее, — женщина. Я в какой-то книге читал, что «хорошая
48
женщина лучше хорошего мужчины, но плохая — хуже плохого мужчины». Однако поверь: она — вроде «грозы в начале мая». Помнишь: «когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя...»? Она тоже может, «резвяся», отчитать — и сама же принесет извинения. Мне о ней подробно рассказывали. Гроза — это только фамилия, а не характер.
Так уговаривал я своего друга стать вместо меня преподавателем математики в той школе, куда меня таинственно зазывали.
— А что же ты сам не идешь?
— Видишь ли... Для меня, вдовца и отца троих детей, это сложно. Школа-то, что скрывать, единственная в своем роде. Ты знаешь, там учатся дети товарища Сталина. И сын его будет как раз в твоем классе. Если ты согласишься пойти. Дело непростое, конечно. Нервное... Но мне сказали, что Иосиф Виссарионович требует в данном случае видеть в нем не вождя, а родителя. К сыну же проявлять неукоснительную объективность. И если тот, допустим, заслужит двойку (всякое случается!), тройку ему ставить нельзя. Ни в коем случае... — Странно, но я произносил все это с неестественной четкостью и в полный голос, словно желая, чтобы услышал это кто-то еще, помимо моего лучшего друга. Или даже услышал и записал. — Как отец товарищ Сталин сам просматривает дневник и в нем регулярно расписывается.
— Вероятно, много желающих пообщаться с таким автографом. Зачем же перебегать им дорогу?
При слове «пообщаться» я огляделся.
— Просили порекомендовать того, за кого я могу поручиться. Как за себя!
Лучший друг поддался моим уговорам. И стал обучать математике сына вождя. Он ставил ему плохие и посредственные отметки, поскольку на другие сын «гения», похоже, не рассчитывал. Друга моего поощряли за «безупречную принципиальность», не подчеркивая, разумеется, к кому он ее проявлял. Даже учитель (с заглавной буквы!) поставил однажды в заслугу учителю (с буквы обыкновенной) его «строгость и требовательность».
Но после, через годы, далеким задним числом обнаружилось, что мой друг «унижал и порочил сына вождя»... по заданию иностранной разведки.
Когда меня вернули на землю, где все это произошло, я нежданно подумал: а не настигло ли меня наказание Господне за лучшего друга, которого я порекомендовал... на Голгофу?
49
Между своими детьми и всем остальным миром я, не натыкаясь на раздумия и даже на миг не затормозившись, выбирал детей своих. Между Вселенной и ими, тремя, — тоже их. И в этом, наверно, я не был оригинален... А они? Желать (а тем более требовать!) полной взаимности от взрослых детей — нелепо и несправедливо. Они вживаются в тот спектакль, в коем родители не должны претендовать на главные роли. Даже постановщиками, режиссерами матери и отцы могут быть, но главными действующими лицами — вряд ли. Нарушать традиции, установленные людьми, удается, но установленные природой — почти никогда.
Поэтому я без досады осознавал, что старший сын всем существом отдан своей невесте и небу, так как был военным пилотом. Дочь тоже находилась на небе... Но на «седьмом», поскольку с малолетства была околдована рисованием и сверстником из соседнего дома. Сверстник пребывал по той же причине на том же (по счету!) небе.
А младший сын отдан был Богу. Можно сказать, что и Небу... Но в особом, надзвездном смысле. «Надзвездные края»... Не только же лермонтовский демон в силах был «умчать» туда, но и святая Вера.
Против увлечений моего первенца и моей дочери государство не возражало. Но призвание сына младшего осуждалось официально, непререкаемо. Бог, Вера... Вроде нету понятий выше?
— Принизить высокое и возвысить низкое — не в том ли цель и триумф абсурда? — как-то сказал младший сын.
Я промолчал, лишь так, затаенно, выразив беспомощную тревогу. Беспомощную, потому что никто не смог бы оградить сына от его убежденности, не допускавшей сомнений.
Марксистское учение предлагало «все подвергать сомнению», а марксистское государство за то же самое нещадно карало. Нестыковка провозглашений и дел была приметой эпохи. Сын мой не смел сомневаться в истине, а страна не смела сомневаться во лжи. Так я думаю ныне. А тогда? Я бы и на порог своих размышлений не подпустил подобную ересь... Нет, не в меня пошел Гриша.
Младшего сына с детства прозвали Блаженным. У него ни от кого не было секретов и уж тем более — тайн. Просто он не совершал ничего такого, что следовало скрывать. «Человек, который клянется, что говорит только правду, уже лжет», — писал мудрейший Монтень. И он почти прав. Почти... Потому что, как выяснилось, и тут случаются исключения. Как раз за такую исключительность моего сына исключили из школы.
50
Следовало отъединять разум от языка, а мой Гриша синхронно произносил то, что думал. Сперва это удивляло, потом стало изумлять и настораживать. Еще позже Гришу заподозрили в «психическом отклонении». Но оказалось, что отклоняется он лишь в сторону правдолюбия. Это считалось опасным заболеванием.
— Библию открыто читает?!
Заболеванием, похоже, выглядело не то, что читает, а то, что открыто.
Путать нормальность с патологией тоже было свойством режима. И карать за достоинства... Гриша же, я был уверен, только из достоинств и состоял. Среди них главными были совесть и честь. А поскольку на пост чести и совести назначили партию коммунистов, Гриша, вроде вполне мог стать ее членом. Но предпочел монастырь.
Жена моя умерла при его родах. Из-за него, как убедил себя Гриша, навечно расстались с ней и я, и он сам, и брат его, и сестра. Чувство вины отягощает лишь тех, кто отягощен совестью. Но и они чаще всего стремятся взваливать собственные грехи на невинные плечи и души. А младший мой сын взваливал на себя и вины несуществующие, ничьи. Дома Гриша был по-монастырски безмолвен, непрерывно пекся о нас — и тем искупал мнимый свой грех. Но если при нем нападали на человека, он внезапно обнаруживал голос:
— Обижать человека стыдно! А его до того заобижали, что он и обиду-то ощущать перестал...
Гришин сосед по парте путал Муму с Каштанкой, а наизусть запоминал исключительно частушки из подворотни. «Всю злость и всю досаду» он излил на учительницу литературы, а заодно — на ее «любимчика», который от рождения был Антоном, а по прозвищу — Антоном Павловичем. В честь автора той самой «Каштанки». И потому еще, что сам сочинял.
Гришин сосед по парте никому не прощал необычности и успехов. Когда же ему объяснили, что Антон Павлович — это Чехов, а что Чехов — великий писатель, он немедля придумал для Антона другое прозвище: Выкормыш.
— Все мы чьи-нибудь выкормыши, — сказал Гриша. — Вначале мама выкармливала... Каждого кроме меня.
— Я не про это... Он не такой выкормыш!
— А какой?
— Не знаешь, что ли? Вражий он выкормыш! Отец-то его...
51
Гриша потребовал суда чести: для защиты Антона, его отца, учительницы литературы... И Чехова!
— А может, потребуешь гильотину? Или «на дыбу» виновника? Или на плаху? Или на лобное место? — поинтересовалась классная руководительница, которая преподавала историю. На памяти у нее были все виды судилищ, все способы наказаний разных стран и режимов. Кроме суда чести... И еще она умолчала об «особых совещаниях», «показательных процессах» и «тройках». Хотя к современности они прилегали гораздо плотнее.
В своем прозвище Блаженный Гриша насмешки не ощущал. Вступаясь за униженных и оскорбленных, сын все, что касалось лично его, принимал с монастырским смирением.
— Блаженный-то он блаженный... А, вишь ты, суда возжелал! — докладывала на педагогическом совете учительница истории. — Это боженька ему посоветовал? — Поизмываться над Верой считалось признаком хорошего тона. — «Опиум для народа» так наркотиком и остался. Помните, он, Блаженный, затеял создать комитет помощи детям врагов народа? Скандал был чуть не на весь город. Еле отмылись. И вот опять... Предложил бы комитет помощи детям друзей народа! Но этого боженька ему не подсказал... Я давно уж предупреждала: попику в советской школе не место!
Место для Гриши отыскалось в заброшенном монастыре. Если б предвидели это те, что зазывали меня в особую школу!
Старший сын Боря и дочь Катерина по характеру тоже были защитниками. Все трое уродились мамиными детьми... Мать их и меня неустанно от чего-то уберегала. В летний воскресный день, на даче, — от перегрева, накрывая голову газетным самодельным пирожком, а вечером — обороняла веером от въедливой мошкары. В будние дни она пыталась заслонять меня от завистников, что было сложнее и безнадежнее, чем от назойливых комаров. Завидовать же в ту пору было чему: жена, кою называли «видной женщиной», чтоб не назвать красивой; сын и дочь, которых именовали рослыми, милыми, избегая назвать одаренными маминым обаянием и маминой внешностью.
А как жена охраняла меня от недугов! Хоть, к несчастью, — понимаю это лишь ныне, в беспробудном своем сиротстве — здоровье мое было неодолимым. Господи, пошли, наконец, недуг, который бы его одолел!
52
Катю и ее сверстника из соседнего дома, которого звали Виссарионом, сближала, кроме страсти обыкновенной, страсть к рисованию. На бумаге и холсте они воссоздавали друг друга. Катя дарила Виссариону его поясные портреты, сосредоточиваясь на лице. А он изображал мою дочь в полный рост, акцентируясь не столько на очаровании ее лица, сколько ее фигуры. Во мне это вызывало затаенный отцовский протест...
Прямая и властная шея Виссариона, его мощно развернутые, словно готовые принять на себя чей-то прыжок, плечи выглядели по-мужски безупречными, соответствовали самым придирчивым нормам. Но лицо нормам не соответствовало. В нем наблюдались противоречия: строгая правильность черт, беспомощность близоруких глаз и бесшабашная изобретательность озорства.
Катина кисть извлекала из-под стекол, казавшихся многослойными, многослойный характер Виссариона. Как отец, я был уверен, что при всей своей близорукости он бы и без очков разглядел наследственную неотразимость моей дочери.
Виссарион раздразнивал педантов историями, которые по-актерски искусно рассказывал, и песнями собственного изготовления. Он не намеревался бросать вызов правилам общества, как мой младший сын, но и необычность считалась вызовом. «Художественная натура!» — говорили о нем поклонники, которым он внимал, и поклонницы, которых, по Катиному требованию, игнорировал.
А еще Виссарион забавлялся дружескими шаржами, дружественность которых иногда было не разглядеть. Но именно в этих случаях он дарил шаржи тем, кто являл собой скорее мишень, чем натуру.
Дети мои с младенческих лет не ведали страха. И это меня страшило... Виссарион тоже вроде был лишен боязни. Но он с рождения имел «охранную грамоту». Ею, как ни странно, стало его редкое имя. Папа Виссариона — заядлый литературовед — назвал сына в честь Белинского. А многие полагали, что в честь сапожника, но зато — отца «отца всех народов». Иосифов вокруг было много... Кроме того, имя это могло принадлежать не только русскому или грузину, но и представителю иной национальности, заискивать перед которой вовсе не следовало. Виссарионами же звали только двух знаменитостей: того самого великого критика и того сапожника из города Гори. Любые претензии к обладателю столь уникального имени могли казаться политически преднамеренными.
Виссариона это расковывало — на фоне всеобщей зажатос-
53
ти. И хоть раскованность его, разумеется, имела пределы, он часто выглядел независимым храбрецом. Это тоже сделало его не только душой общества, но и «душой» моей дочери.
Война началась двадцать второго июня. И старший сын Боря отправился защищать Отечество не двадцать третьего и не двадцать пятого, а немедленно — в первый же день.
Проводы продолжались всего часа полтора. Прощались мы не надолго: «Через полмесяца или месяц будем в Берлине!» Приятели сына — все с петлицами небесного цвета — мужественно поскрипывали портупеями, что всегда производило на меня, штатского, впечатление. «Я — военный человек», — часто напоминал Боря. И сдержанный скрип портупеи подтверждал это.
Боря был отчаянным патриотом. Не только страны, но и системы. Ему не присвоили в срок очередное воинское звание, да и вообще служебное продвижение его застопорилось. «У вас семейные неполадки!» — сказал ему начальник управления кадров. Неполадками были Гриша, его «уход» в религию, а заодно — и уход из школы.
— Ничего особенного: мое дело — не продвижение по земле, а парение в воздухе. Прости за громкую фразу, — сказал Боря. — А Грише — ни слова!..
Он ни разу не упрекнул брата, не попытался его переубедить, обратить в свою веру. Но и патриотизм его ни к кому не имел претензий. Нечто дьявольское придумал режим: что бы ни вытворял он с людьми, патриотизма не убавлялось.
«Гремя огнем, сверкая блеском стали...» — пел, сверкая блеском молодости и бесстрашия, Боря со своими друзьями.
Пилоты и штурманы всех нас, остающихся, твердо заверили: «Любимый город может спать спокойно...». Ровно через месяц на Москву полетели фугаски.
Потом Виссарион снял со стены гитару. Борины приятели его не любили: они тайно любили мою дочь. Мне даже чудилось, что вначале они покорялись Кате, а потом уж — чтобы ее лицезреть — притирались к моему старшему сыну.
Виссарион напевал, а каждый Борин приятель молча задавал Кате вопрос: «Если тут мы, рыцари в портупеях, то зачем тебе «художественная натура» в очках?»
Отправляясь на фронт, каждый испытывал порой неосознанную жажду оставить в тылу кого-то, с чьим образом невозможно расстаться и ради встречи с которым победу следует
54
торопить. Такими образами не были мамы и папы. И не стоило обижаться... Для Бориных же приятелей, пришедших тогда в наш дом, таким человеком была моя дочь.
По-родственному Катю обожали только мы с Борей. И Гриша.
Дочь бралась лишь за то, что умела. «Если б при твоем снайперском глазе художницы еще был и слух певицы, это выглядело бы излишеством, — сказал как-то Виссарион. — Другое дело — мое дилетантство...» Он словно бы себя не щадил. Или украшал скромностью.
Судьбу портретистки Кате предрекали отменную. «Она все про нас знает!» — глядя на портреты ее кисти, восхищался Виссарион. Будто сам и не стремился в художники.
В тот день Виссарион позволил себе не подключаться к общему патриотическому настрою, а спел любимый Гришин романс «Уж не жду от жизни ничего я...». Мало что изведав, младший сын воспринимал свою жизнь, как минувшую. И к ужасу, не ошибся. Хотя, может быть... как раз после, не на грешной земле, не здесь...
На проводы младший сын не смог бы успеть. И находчивый Виссарион романсом как бы обозначил его присутствие...
«Если бы Борис обождал, если б не напросился на тот новый аэродром возле границы!» — без конца повторяла его невеста, так невестой и оставшаяся. На проводы она, как и Гриша, не успела примчаться... из какой-то мирной командировки, которая в день прощания представлялась уже никому не нужной, смешной. Но невеста Борина не смеялась, а твердила тогда и потом: «Если бы он обождал!» Та фраза сделалась приметой ее сумасшествия: «Если бы он обождал!»
«Если бы не тот аэродром, возле границы, — думаю я сейчас, — он не попал бы в котел, в окружение... в плен!» Но война окружила его и загнала в лагерь. Мог ли сын мой представить себе, что не успеет подняться в небо? Что самолет его разбомбят на земле? Что истребители наши станут как бы истреблять своих же пилотов, ибо запоздало окажется, что они непрочны, будто фанерные, и азартно воспламеняются? Мог ли мой Боря вообразить, что главнокомандующий скомандует числить его предателем? Как и остальных пленников. Защитники-предатели, предатели-герои...
Победа, освобождение... Те слова представлялись неразлучными близнецами. И вот свершилось! Освобождение началось.
55
Из лагерей Гитлера невесть как выживших пленных переправили в лагеря Сталина. И моего старшего сына тоже... Тогда младший мой сын объявил голодовку. Безмолвный, покорный Гриша... Который более всего покорен был справедливости.
Кто-то, по команде всполошенно примчавшийся, объяснил Грише:
— Брату вы не поможете.
— Почему?
— Потому что его уже нет. Внезапно заболел и скончался... Инфекцию занесли из немецкого лагеря. Это была диверсия!
— Тогда я буду голодать, пока не выпустят остальных. В память о брате.
Это нарушало законы монастыря, куда, как известно, со своим уставом входить возбраняется. Настоятель тоже принялся наставлять согласно своему положению:
— Лишать себя жизни грешно.
— А чтоб спасти многие жизни?
— Грехом не спасешь.
Чтобы не подводить настоятеля — Гриша не подводил никого! — мой сын умер. Не от голода, не от физического бессилия, а от бессилия что-либо изменить. И с горя...
Грише солгали: брат его был расстрелян. За то, что в сорок первом он не успел взлететь. «Выяснилось», что он не поднялся в воздух сознательно: чтобы сразу же сдаться врагу. Государство спихивало злодейскую вину свою на своих неповинных граждан. Ибо оно, государство, не могло быть виновным ни в чем.
Когда провозгласили победу, моя Катя трудилась в колхозе... Вместе с другими студентками художественного института и студентом Виссарионом, не призванным в армию «по близорукости». Всех будущих живописцев отправили на «картошку» .
Торжество решили отметить пиром. Скинулись всей своей сельскохозяйственно-художественной бригадой. Собрали привезенные из дома банки с тушенкой — главным деликатесом военного времени.
Виссарион же готовил концерт, который был бы достоин победы над Гитлером. Он собирался продемонстрировать шаржи, кои вовсе уж не выглядели дружескими, поскольку Виссарион изобразил фюрера, Геринга и, разумеется, Геббельса. Про них же он собирался рассказывать анекдоты. А потом — под гитару петь самые что ни на есть фронтовые
56
песни. Он знал их в таком количестве, что, похоже, не расставался с фронтовой полосой.
У Кати не было музыкального слуха, но она отчетливо слышала, как восторгались Виссарионом все до единой студентки. А кем еще они могли восторгаться? Война непрестанно приносила разлуки (временные и вечные!), а Виссариону — преклонение целого факультета. Даже деревенская девушка Кланя, измотанная, изможденная, для того, чтобы заворожиться, силы в себе нашла.
Катя была спокойна, потому что речь шла не об одной конкретно влюбленной, а о целом обожающем коллективе: это всегда безопаснее. В его же чувствах Катя не сомневалась. Он не раз предлагал ей замужество... Но Кате казалось, что устраивать свадьбу, которая виделась счастьем, в пору всеобщих несчастий — стыдно. Она напряженно ждала победы не только от ненависти к фашизму, но и от любви — к Отечеству и Виссариону. Время от времени он показывал Кате свои настойчивые заявления в военкомат с просьбой призвать его на войну... и свидетельства медицинских комиссий, которые выполнить воинский долг ему упрямо мешали.
Катя вызвалась отправиться за картошкою и капустой на вечернее колхозное поле. Чтобы ужин не унизил событие! А соответствовал бы ему. Хоть в какой-то степени... Не удовлетворяться же в русском селе американской тушенкой!
— Возьми с собой Кланю: она и в темноте сумеет разглядеть, выкопать, — посоветовал Виссарион. — А не то ведь я со своей близорукостью...
Он, быть может, впервые сослался на скверное зрение. Обычно он пользовался любым случаем, чтобы оказаться наедине с Катей. Особенно же во тьме... «Наверно, его одолело чувство ответственности за концерт», — подумала дочь. Но ведь раньше иное чувство одолевало все остальные...
Кланя, в отличие от Катиных неприятельниц, считавшихся приятельницами, перед дочерью моей преклонялась: красота в атмосфере ужаса производит особое впечатление. Она отправилась с Катей во тьму с той безусловной готовностью, с какой раньше отправлялся Виссарион.
А на другой день «о краже с колхозного поля» донесли куда надо. Это сделала, выяснилось на следствии, одна из отвергнутых Виссарионом поклонниц. Режим предельно упростил, укоротил дорогу к сведению счетов... Любовь же, если
57
она мстительна, в средствах себя не стесняет. Дочь моя о той неудовлетворенной и разъяренной страсти не ведала.
— А о том, что нельзя воровать, ты ведала? — спросил следователь. — Да еще и доверчивую колхозную девушку вовлекла!
Доверчивость не была оправданием: Кланю тоже арестовали. Хотя «копала она под нажимом и руководством». Это было для моей дочери отягчающим обстоятельством, а для Клани — смягчающим. Интеллигенты всегда виноватее.
Кланю преследовал лишь закон. А Катю — еще и мужчины, закону тому служившие. На нее претендовали и следователь, и прокурор, и тюремщики. Но так как притязания остались лишь притязаниями, Кате, «согласно указу», полагались восемь лет лагерей: примерно по году за каждые две картофелины и один кочан.
Виссарион написал заявление, что готов отбыть тот срок вместо моей дочери. Но он знал, что заявление это будет отвергнуто, как и просьбы отправить его на фронт. «В нем не было бесшабашности, — думаю я сейчас, — а было умение выигрышно выглядеть даже в проигрышных ситуациях. Бог ему судья...»
У дочери моей выхода не было. Кроме раскрытого, незарешеченного окна следовательской комнаты на восьмом этаже.
Как в финале шекспировских трагедий, жизнь покинул, будто сгорел, почти весь наш дом. К несчастью, почти... «Нет повести печальнее на свете...» — написал классик. Но были повести печальнее. Были!
Есть сны, которые навязчиво повторяются. Чаще всего это тяжкие сны. Или вещие... Мне они зачем-то напоминают о том, что у Сталина тоже были два сына и дочь. И что внешне, на поверхностный взгляд, история их в чем-то схожа с судьбою моих детей. Впервые это явилось ко мне на операционном столе. И сновидения эти я воспринимаю, как продолженье болезни... Память настаивает на фактах, на совпадениях, которые мне неприятны. Хоть как-то, задолго до тех сновидений, я сквозь отчаяние произнес: «Испытал бы он на себе!»
Размышляя, поперек воли своей, о детях «вождя и учителя», я всякий раз приношу покаяния другому учителю —
58
ни в чем не повинному учителю математики, — которого я... А сам-то дожил чуть ли не до ста!
Старший сын Сталина тоже был пленен, как и мой старший сын. И тоже расстрелян в лагере... Но в немецком. Все-таки расстреляли враги! А того сына, младшего, в дневнике которого расписывался повелитель, сослали за кражу. Но не картофелин и капусты для «пира победы», а каких-то государственных сумм для пиршества собственных удовольствий. Он спился и сгинул... Сгинула и моя дочь. Она-то за что? За что-о?! «За что?» — это самый безответный вопрос. Но отделаться от него я не могу. Как и от «сравнений», навязанных мне сновидениями.
Дочь тирана заброшенно доживает свой век в католическом монастыре, в зарубежье, куда отец ее даже птицам пытался перекрыть путь. Разве она похожа на моего Гришу?
И все же... Судьбы детей его можно было бы считать карой. Можно было бы считать... Если б он любил их, несчастных своих сыновей, и дочь, закинутую в одиночество. Но он был единственным — единственным, думаю, во всей человеческой истории, — кто не любил никого. Единственным на века! На тысячелетия... А достался моим детям. И мне...
ЗАПОЗДАЛЫЕ ПОКАЯНИЯ
Из блокнота
Запоздалые раскаяния, быть может, подобны тем добрым намерениям, которыми «дорога в ад вымощена». И все же... Лучше поздно, чем никогда. Осознание вины — это в какой-то степени ее искупление.
Однажды (опять однажды!) раздался звонок из Киева. В трубке моего московского телефона возник застенчивый, сбивчивый голос:
— Простите, что без спроса врываюсь... Я — Костя Ершов. Вы меня не знаете... Я кинорежиссер, хотя ни одной картины еще не снял. Но читал и перечитывал ваши повести в «Юности»: это мой любимый журнал. Выбирал, что бы экранизировать...
— И на чем остановились?
— На «Позднем ребенке». Повесть, мне сказали, получила в Америке премию... Но для меня дело не в премии, а в том,
59
что это произведение мне очень нравится... Вы разрешите его экранизировать?
И вот примерно через полгода на телеэкранах появился киновариант моего «Позднего ребенка». Отца играл Василий Меркурьев (это была его последняя роль), маму — прекрасная актриса Антонина Максимова, одного из главных героев — молодой Куравлев, а другого — Адоскин... Закадровый текст мастерски читал любимый мною Вениамин Смехов. Редкое актерское содружество! А вот сам фильм мне не лег на душу... Костя Ершов предложил, как говорится, «свое прочтение», мне же дорого было то произведение, к которому я привык. Когда фильм «принимало начальство», самая ответственная в ту пору на телевидении дама принялась настоятельно шептать мне в ухо: «Неужто вы согласитесь с этим? Вас исказили... Невозможно узнать ваших героев! Что за самовольство такое?!» И я поддался... Фильму присвоили «вторую категорию», а не первую и тем паче — не высшую. Это было ударом по самолюбию, а одновременно и «по карману» начинающего режиссера. А я тот фильм (и Костю, значит, тоже!) не поддержал... Мог бы встать на защиту, но не встал. Или сделал это вяло, неубедительно. Нет, я не боялся начальства... А просто внутренне на сей раз с ним согласился.
Сейчас не могу без дрожи вспомнить побелевшее лицо Кости, и так-то болезненно-бледное.
— Вам... не понравилось? — еле слышно проговорил он. И я, обычно чересчур сговорчивый и уступчивый, неожиданно для самого себя ответил:
— Честно говоря, нет...
Но вдруг... после телепоказа мне позвонил Ираклий Андроников: «Поздравляю! Это новое слово в киноискусстве! Замечательный фильм...» «Вы в самом деле так думаете?» «А разве можно думать иначе?»
Вскоре позвонил мой друг-кинематографист: «Ты читал?!» «Что именно?»
— Восторженную статью Анатолия Эфроса про твой фильм! В «Искусстве кино» ... Ну, знаешь, таких слов от Анатолия Васильевича дождаться нелегко! Он же предельно взыскателен. А здесь... Вот послушай: «Мы обычно смотрим телевизор рассеянно и урывками, а тут как сел, так и просидел до конца... Нарисовал Дега своих голубых танцовщиц, и хотя там нет ничего драматического, а только в разных позах стоят несколько балерин, но столько грации, и вкуса, и тонкости в этой картине, что оторваться невозможно. Так и здесь, в фильме, — просто сидят за столом несколько милых людей и бесе-
60
дуют, а тебе очень интересно, и ты увлечен, потому что все от начала до конца лирично — юмор мягкий, все красиво и точно... И все до мелочей это семью выражает... В воспоминаниях детства есть всегда легкая загадочность. К этой легкой задумчивости многие стремятся, когда ставят фильмы, но немногим это удается, потому что не так просто создать некую дымку воспоминаний. Тут нужна удивительная мера и нежность... И тогда действительно передается чувство детства и семьи... Мне почему-то вспомнилось при этом, как Достоевский в «Братьях Карамазовых» говорил, что человек обязательно должен в себе сохранить свое детство, и чем больше в нем этих воспоминаний остается — тем лучше».
В той прошлой жизни за телефон не платили в зависимости от продолжительности разговоров, — и мой друг долго еще читал и комментировал:
— Ты подумай: это пишет Анатолий Эфрос! И какие у него ассоциации: Достоевский, Дега...
Все эти ассоциации, конечно же, прежде всего относились к замечательному, как оказалось, кинорежиссеру Косте Ершову.
— Ты, конечно, поддержал уникальный режиссерский талант? — спросил, но ничуть не сомневался в моем утвердительном ответе восторженный друг.
— Нет, — растерянно ответил я. И положил трубку. «Как же я не увидел? Не почувствовал? Не оценил?!» — терзали меня вопросы, на которые я не находил вразумительных ответов. И решил дней через пять, после предстоявшей мне короткой командировки, отправиться на телевидение и посмотреть картину заново. Но спешить в Гостелерадио мне не пришлось: фильм на следующей неделе прокрутили по первой программе еще раз. (Не в связи со статьей Анатолия Эфроса, а просто так уж совпало!) Однако в непосредственной связи со статьей мне стали звонить многие писатели, режиссеры, актеры: они тоже увидели картину и были с Эфросом абсолютно согласны. И тоже убежденно восхваляли режиссера, а заодно, ради приличия, и меня.
Когда я стал вновь и вновь встречаться на телеэкране с фильмом по своей повести, терзания мои обострились: как же я мог, как посмел не заметить, не понять? Как мог не защитить Костю от сбивавших меня с толку чиновников?! Пусть стилистика, интонация были не моими... Что из того? Его талант имел право...
Стал названивать в Киев, чтобы извиниться перед Костей Ершовым... и спросить, каким образом можно хоть что-то исправить (с категорией и так далее), а значит, исправить в
61
какой-то мере и материальное положение режиссера, который очень нуждался.
Мне отвечали, что Костя находится в другом городе и на съемках другого фильма. Вскоре та сильнейшая картина — «Грачи» — с Леонидом Филатовым в главной роли (мне кажется, его первое столь значительное появление на экране) была оценена по достоинству. А фильм «Поздний ребенок» тем временем прокручивали по телевидению десятки раз. И чем внимательней, пристальней всматривался я в Костино произведение, тем больше оно меня покоряло: так бывает лишь с искусством подлинным. В помощи Костя Ершов, похоже, уже не нуждался...
Надо было лишь извиниться и вымолить у него прощение. Я решил сделать это не по телефону. А в Киев позвонил лишь для того, чтобы предупредить Костю о своем приезде.
— Его нет, — ответил мне такой же, как у него, робкий, сбивчивый голос.
— А когда он будет?
— Никогда... Он умер.
Костя умер внезапно. Как и внезапно поразил всех его дар...
Прошло много лет. «Прости меня, Костя...» — говорю я. И, может быть, он услышит? Может, поймет мое запоздалое покаяние? Может, примет его и простит?..
Некоторые, к моему изумлению, вспоминают свои школьные годы с неприязнью. А я люблю свою школу, приятелей детства. Были у меня и любимые учителя. Вообще, я более всего почитаю две профессии: учителя и врача. Эти призвания в чем-то схожи: один и другой заботятся о человеческом здоровье — только первый о здоровье нравственном, а второй — о физическом... Помню, всегда я ждал встреч с уроками литературы. Мария Федоровна Смирнова не «проходила литературу» (ибо «проходить» можно лишь мимо чего-нибудь), а приобщала нас к великим творениям. То были не только уроки литературы, а и уроки гуманизма.
Мария Федоровна говорила, к примеру:
— Ванька Жуков написал письмо «на деревню дедушке». Но, допустим, оно все же дошло... Что бы дедушка ответил Ваньке?
И мы все, ученики 4-го класса «Г», отвечали Ваньке от имени дедушки и звали его обратно в деревню и обещали, что все будет хорошо. Да, это были воистину уроки доброты...
62
Мария Федоровна первой знакомилась с моими незрелыми литературными опусами — и давала строгие, бесценные советы.
А потом все мы расстаемся со своими учителями... В жизненной круговерти, увы, не так уж часто вспоминаем о них и уж совсем редко с ними видимся. Бывает, конечно, и по-иному. Но, что греха таить, случается это как исключение... Прости нас, Господь!
Мария Федоровна сама прислала мне письмо. Сообщила, что внимательно «следит» за мной, не пропускает ни одной моей повести, ни одного моего спектакля. Обозначила в конце номер своего телефона, свой адрес. Я немедленно отозвался... И договорились мы непременно встретиться. «Только не надо надолго откладывать», — словно извиняясь, проговорила она. Следовало отправиться к ней в тот же вечер... Но были съемки очередной моей телепередачи «Лица друзей». Сейчас я думаю: почему так часто повседневная суета, и в том числе «Лица друзей», как бы отстраняли от меня лица моих личных друзей, не позволяли порой к ним прорваться? Хотя друзьями своими я всегда искренне и безмерно дорожил... После передачи нагрянули репетиции спектаклей в других городах, на которых я обязан был присутствовать. А еще позже... Не хочется перечислять.
Наконец — как только выдался просвет! — я позвонил, чтобы встретиться со своей самой любимой учительницей. И мне ответили... что ее уже нет. Она же предупреждала: «Только не надо надолго откладывать.» Наверно, была больна. Но не настаивала... из-за неизменной своей деликатности. Куда же девалась моя деликатность? Почему мы порою откладываем именно то, что касается самых близких, самых любимых? А потом рвем на себе волосы... Всю жизнь я, честное слово, старался откликаться на просьбы, помогать, «протягивать руку». Но все же случалось: туда, куда необходимо было устремиться немедленно, в первую очередь, не устремлялся. Суета, суета...
«С добром надо спешить, а то оно может остаться без адресата», — говорит один из моих персонажей. Он прав.
Запоздалые покаяния. Примите их все, перед кем виноват! К кому опоздал... Примите и простите, если можете.
Сочинял я когда-то не только стихи, но и тексты песен (кстати, вернувшись к тому жанру в более поздние годы, написал слова пародийных куплетов для популярного в свое время спектакля по моей пьесе «Мой брат играет на кларнете», а к стихам всерьез не возвращался более никогда!). В
63
качестве поэта-песенника я и явился к композитору Тамаре Попатенко, теперь уже почти позабытой. Жила она на Хорошевском шоссе в одном из двухэтажных коттеджей, построенных пленными немцами и слегка напоминавших этакие европейские виллы, но оказавшихся очень непрочными и ныне уже ветхих или вовсе разрушенных. В те коттеджи, пытаясь, видимо, приноровиться к их полуевропейскому виду, вселяли главным образом деятелей культуры. Наиболее видные получали отдельные квартиры, а рядовые — комнаты, образуя коттеджные коммуналки. Тамара Попатенко занимала одну комнату... А из другой, помню, вышел молодой человек явно еврейской национальности, растерянно и неумело державший на руках запеленутого, словно в кокон, ребенка. «Композитор Оскар Фельцман... Начинающий, но очень даровитый!» — представила мне «новорожденного папу» Тамара.
Зигзаги судеб неисповедимы и непредсказуемы... Лет через четырнадцать моя жена Таня, работавшая в «культурном учреждении» с весьма длинным и громоздким именем — Союз советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами — и фанатично заботившаяся о молодых дарованиях, послала на конкурс юного пианиста-виртуоза Володю Фельцмана, того самого младенца, который скрывался в коконе... на руках у начинающего композитора и начинающего родителя.
Еще лет через пять Володя завоевал гран-при на престижнейшем музыкальном конкурсе имени Маргариты Лонг и Жака Тибо. Судьба мальчика из «кокона» была и тяжкой и триумфальной. Вначале он колесил с гастролями по стране: победитель международного конкурса музыкантов-исполнителей выступал во второсортных концертных залах, а чаще в провинциальных Домах культуры, в клубах, усыпанных шелухой от семечек... Не могу забыть его блистательное исполнение бетховенских сонат в одном из сочинских залов, где присутствовало человек двадцать, из которых примерно девять — в том числе и мы с женой — были приглашены самим Володей. Зарубежных гастролей он почти не удостаивался. В конце концов, Володя Фельцман посягнул замыслить отъезд из страны — и немедленно стал отказником. Это продолжалось томительно долго... Каждый день по восемь-десять часов выдающийся пианист играл, репетировал дома, но свидетелями его виртуозного дара так и оставались лишь домашние стены. Наконец, когда стал намечаться международный скандал, даже прежние власти смилостивились, отпустили... Давно уже Владимир Фельцман в США. Он — профессор консерваторий, дни его концертов пунктуально
64
расписаны на годы вперед, он приглашается для выступлений и в Белый дом...
Мы с женой всегда относились к Володе нежно и заботливо. Тут никакие покаяния не требуются...
Но вот в отношениях с его отцом, бывшим «начинающим» композитором, а затем — заслуженным деятелем искусств, народным артистом России — был у меня один, я бы сказал, «нравственный сбой». Увы, был...
В 1968 году на сцене Московского ТЮЗа состоялась премьера спектакля «Мой брат играет на кларнете», успех которого был (без преувеличения!) ошеломляющим. И, безусловно, одна из решающих заслуг, определивших стилистику представления, принадлежала Оскару Фельцману (тому самому, некогда державшему на руках будущего профессора американской консерватории и победителя Международного «конкурса конкурсов»): спектакль-то был музыкальный! Один из первых советских мюзиклов...
До сих пор я нередко слышу ту фельцмановскую музыку. И многие, напевая или исполняя ее со сцены, уже не вспоминают, а часто и не подозревают, что неизменно мелодичные — то озорные, то раздумчиво-грустные, то лихие, искрометные — песни родились в спектакле Московского ТЮЗа, завоевавшего первые места, по-моему, на всех или почти на всех театральных конкурсах конца шестидесятых...
А потом пригласил меня в гости знаменитый кинорежиссер, народный артист СССР Александр Зархи (автор фильмов «Депутат Балтики», «Анна Каренина» с Татьяной Самойловой в заглавной роли и других столь же памятных лент). Зархи — один из патриархов советского кинематографа — руководил Творческим объединением на «Мосфильме» и захотел, чтобы его объединение, создав картину на тот же сюжет, превзошло на экране громкий тюзовский успех! «Но фильм по форме не должен быть повторением спектакля буквально ни в чем!» Явился режиссер — эдакий бравый, самонадеянный авангардист, обильно рассуждавший о киноноваторстве. Меня это насторожило, я всегда консервативно был убежден, что в искусстве, как и в математике, есть величины постоянные, а есть переменные, и что лишь реализм — величина, безусловно, постоянная. Но все же меня убедили, что бравый новатор сумеет «переплюнуть» популярность спектакля. Поскольку картину сразу же наименовали «музыкальной», пригласили и композитора — очень талантливого, знаменитого, исполнявшегося не только у нас, но и за рубежом, — однако тоже новатора и, как мне показалось, увы, далеко не «мелодиста». А киномюзикл обязан был подарить зрителям новые любимые
65
песни и танцы, но прежде всего — мелодии. Как подарил их спектакль...
— Я не могу, не смею «устранить» Оскара Фельцмана, которому «Мой брат играет на кларнете» в значительной степени обязан своей судьбой!..
— Те его песни уже всем известны, — возражали мне.
— Он сочинит новые, — и они, поверьте, станут такими же популярными!
— Два раза в одну реку не входят...
Одним словом, я сдался. И ощутил это вскоре чуть ли не предательством друга. Оскар вначале обиделся, но потом простил меня и одаривал своими мелодиями другие мои спектакли (кстати, в одном из них песни исполнял как бы за сценой великолепный актер Валентин Никулин).
Фельцман-то простил, но судьба не простила: новая музыка очень нравилась «специалистам»-искусствоведам, но, к сожалению, не была принята зрителями. Быть может, музыка та была изысканно-прекрасной. Может быть... Но почерк композитора, которого искренне почитаю, не соответствовал жанру картины. А музыка в музыкальном фильме — одно из главных действующих лиц! Кроме того, режиссер-новатор и «новых» актеров подобрал согласно своим воззрениям. Он не понимал, что достичь в искусстве простоты (высокой простоты!) гораздо сложнее, чем сложности. Ни один актер, игравший в спектакле, приглашен не был. Режиссера преследовала навязчивая цель: картина ни в чем не должна напоминать спектакль. И цель была достигнута: спектакль-то стал настоящим праздником, а картина осталась никем не замеченной. И слава Богу, что никто ее не приметил!..
Я даже решил переименовать фильм в «Сестру музыканта», чтобы он не бросал тень на спектакль, который не сходил со сцены около пятнадцати лет и в ТЮЗе и в других театрах. Итак, я был наказан за свою неверность...
И окончательно понял: неблагодарность, которую я, к несчастью, проявил, непременно карается.
Оскар просил меня не затевать обсуждений этой печальной истории. И я не затевал... Но вот сейчас, в своих воспоминаниях, хочу принести запоздалое покаяние. Еще одно... В Москве отмечалось 70-летие Оскара Фельцмана, — и я говорю ему: прости, друг!
А сколько предстоит принести покаяний, чтобы совесть была и вовсе чиста? Трудно ответить... Для этого надо припомнить все свои прегрешения. Возможно ли это? Но я постараюсь... Думаю, уже пора.
66
ПОЭТОМ ДОЛЖЕН «ТЫ НЕ БЫТЬ»
Из блокнота
С детства я сочинял стихи, которые очень нравились моим тетям и дядям. Поэтому, когда собирались гости, кто-нибудь непременно просил:
— Толечка, почитай нам свои стихотворения...
И я читал. Ближайшие родственники аплодировали. На мою беду (что выяснилось позднее!), стихи стали охотно печатать в детских газетах и журналах, декламировать по радио.
В годы войны, работая ответственным секретарем ежедневной газеты на той оборонной стройке, я публиковал свои патриотические стихи, которые кое-кто даже вырезал на память, заучивал наизусть. Что, впрочем, не мешало стихам быть весьма посредственными сочинениями... Меня, однако, именовали поэтом.
А в 1947 году, в Москве, состоялся первый «Всесоюзный форум молодых писателей» (так его неофициально называли), и я удостоился быть делегатом...
— Тебе повезло: будешь в семинаре у Маршака и Кассиля, — сообщили мне.
Выслушав мои стихи, Маршак спросил:
— А вы чем-нибудь другим заниматься не хотите?
Стихи, которые так нравились моим дядям и тетям, Маршаку, стало быть, не понравились. И тогда, уже в комнате отдыха, талантливая, добрейшая, хоть, увы, и подзабытая Тамара Габбе позволила мне нарушить покой мастеров и прочитать им семистраничный рассказ. Особенность его состояла в том, что по содержанию он был трагическим, а по форме... комическим. Кассиль и поддержавший его Маршак стали убеждать меня вычеркнуть из своей «творческой биографии» стихи и писать прозу.
— Непременно сохраните столь редкий дуэт смеха и слез. Непременно! Это ваш стиль, ваша интонация. А без стиля и интонации не бывает литературы, — сказал Лев Кассиль.
Рассказ (тут уж на мое счастье!) услышал и случайно зашедший в комнату Паустовский.
— Пусть эта новелла станет первой главой повести, — посоветовал Константин Георгиевич. — И если вся повесть будет не хуже первой главы, я берусь ее редактировать.
Что ж, все сбылось: «творческим редактором» моей первой книги стал Паустовский.
А все стихи свои я не вычеркнул, как мне советовали, а
67
предал огню. Сжег... И это, вероятно, единственное, что сближает мою биографию с гоголевской...
Так была спасена от меня отечественная поэзия. Больше я стихов всерьез не писал. Лишь для спектакля по своей повести «Мой брат играет на кларнете», где в главной роли высокоталантливо проявила себя Лия Ахеджакова, я сочинил тексты пародийных песен. В театре и кино мне, кстати, везло на актеров: в других моих спектаклях играли Валентина Сперантова, Валентин Никулин, Ирина Муравьева, а в фильмах, снятых по моим повестям, главные роли исполняли Василий Меркурьев, Евгений Лебедев, Алиса Фрейндлих, Вениамин Смехов, Зоя Федорова, Борис Чирков, Сергей Филиппов, Леонид Куравлев, Адоскин, Алла Покровская... Приятно вспомнить!
Еще о Самуиле Яковлевиче... Это был мудрейший мудрец, великий детский поэт и великий переводчик. Впрочем, в золотой век русской литературы понятием «переводчик» не злоупотребляли, а писали: Пушкин (из Байрона), Лермонтов (из Гейне). Так же, уверен я, можно написать: Маршак (из Шекспира), Маршак (из Бернса). Ради справедливости! Сюжет ведь в стихах порой мало что определяет. К примеру, видел я подстрочник бессмертного стихотворения о любви, который выглядел примерно так: «Я любил вас очень сильно, теперь люблю уже не так, как прежде, и пусть другой вас любит, как любил я!..» А у гения-то: «Как дай вам Бог любимой быть другим...»
В предпоследний год жизни Самуила Яковлевича мы с ним отдыхали и работали в ялтинском Доме творчества. Однажды творческое безмолвие, нарушавшееся обычно лишь стуком пишущих машинок, взорвали горны и барабаны. Прибыли из пионерского лагеря «Артек» приглашать Маршака и меня. Что делать? Поехали...
В жаркий и душный полдень Самуила Яковлевича усадили в соломенное кресло на «костровой площадке». И он, отменнейший собеседник, принялся рассказывать и читать стихи. Но никто из юных участников встречи... не слушал. Некоторые даже повернулись спиной к классику (да, да, классику!) и что-то наигрывали на гитарах своим несовершеннолетним подругам.
Когда очередь дошла до меня, я ограничился одной фразой, пожелав артековцам ясного неба и теплого моря.
К нам, вспотев на жаре, подбежал начальник «Артека» (помню, даже томительный зной не заставил его расстаться с осенней велюровой шляпой):
— Прекрасная встреча! Незабываемый праздник!..
— Но почему же дети не слушали? — прервал его я.
68
— Не обращайте внимания! Это ребята из «международной смены» — они по-русски ни слова не понимают. Но зарядку коллективу дали отличную!
Это был апофеоз формализма: пригласили великого и больного Маршака, чтобы выступать перед ничего не понимавшей по-русски аудиторией.
...Самуил Яковлевич курил ровно столько, сколько не спал: одну папиросу прикуривал от другой. Чтобы «напугать» его, я процитировал терапевта с мировым именем: «Почти все, что человеку хочется, для чего-нибудь нужно его организму. Только не никотин... Курение — это акт медленного самоубийства».
Маршак горестно развел руками, словно посочувствовал себе самому. А потом уж мне попалось его шуточное четверостишие:
Жил на свете Маршак Самуил...
Все курил, и курил, и курил,
Все курил и курил он табак.
Так и умер товарищ Маршак...
Давно это было, поэтому слово «товарищ» можно простить. Так он и умер: легкие не выдержали.
МОЯ БАБУШКА АНИСИЯ ИВАНОВНА
С голоса
Слушание дела было назначено на двенадцать часов. А я прибежала к одиннадцати утра, чтобы заранее поговорить с судьей, рассказать ей о том, о чем в подробностях знала лишь я.
Народный суд размещался на первом этаже и казался надземным фундаментом огромного жилого дома, выложенного из выпуклого серого камня. «Во всех его квартирах, — думала я, — живут и общаются люди, которых, вероятно, не за что судить... Но рассудить нужно многих. И вовремя, чтобы потом не приходилось выяснять истину на первом этаже, где возле двери, на стекле с белесыми островками, было написано: «Народный суд».
Каждый воспринимает хирургическую операцию, которую ему приходится вынести, как едва ли не первую в истории медицины, а о смерти своей мыслит как о единственной в истории человечества. Суд, который был назначен на двенадцать часов, тоже казался мне первым судом на земле. Однако
69
за два часа до него началось слушание другого дела. В чем-то похожего... Но только на первый взгляд, потому что я в тот день поняла: судебные разбирательства, как и характеры людей, не могут быть двойниками.
Комната, которая именовалась залом заседаний, была переполнена. Сквозь щель в дверях, обклеенных объявлениями и предписаниями, я увидела судью, сидевшую в претенциозно-высоком кресле. Ей было лет тридцать. Склонившись над своим торжественным столом, как школьница над партой, она смотрела на длинного, худого, словно выдавленного из тюбика мужчину, стоявшего ко мне спиной, с детским недоумением и даже испугом... Хотя для меня она сама была человеком с пугающей должностью.
Народных заседателей сквозь узкую щель не было видно.
Неожиданно дверь распахнулась — и в коридор вывалилась молодая, дебелая женщина с таким воспаленным лицом, будто она была главной героиней всего происходившего в зале. Женщина, ударив меня дверью, не заметила этого. Мелко дрожащими пальцами она вытащила сигарету, поломала несколько спичек, но наконец закурила, плотно закупорив собой вновь образовавшуюся щель. Она дымила в коридор, а ухом и глазом, как магнитами, притягивала к себе все, что происходило за дверью.
— Кого там судят? — спросила я.
Женщина мне не ответила.
— Мама, поймите, я хочу, чтобы все было по закону, по справедливости, — донесся из зала сквозь щель слишком громкий, не веривший самому себе голос мужчины, выдавленного из тюбика.
Возникла пауза: наверное, что-то сказала судья. Или мама, которую он называл на «вы».
— Что там? — вновь обратился я к женщине с воспаленным лицом.
Она опять меня не услышала.
На улице угасающее лето никак не хотело выглядеть осенью, будто человек пенсионного возраста, не желающий уходить на «заслуженный отдых» и из последних сил молодящийся.
В любимых мною романах прошлого века матерей часто называли на «вы»: «Вы, маменька...» В этом не было ничего противоестественного: у каждого времени своя мода на платья, прически и манеры общения. В деревнях, я знала, матерей называют так и поныне: там труднее расстаются с обычаями. Но
70
в городе это «вы» всегда казалось мне несовместимостью с веком, отчужденностью, выдававшей себя за почтительность и деликатность.
«По закону, по справедливости...» — похожие слова я слышала совсем недавно из других уст. Их чаще всего, я заметила, употребляют тогда, когда хотят встать поперек справедливости: если все нормально, зачем об этом кричать? Мы же не восторгаемся тем, что в наших жилах течет кровь, а в груди бьется сердце. Вот если оно начнет давать перебои...
На улице как-то неуверенно, не всерьез, но все же заморосил дождь. Я вернулась в коридор и опять подошла к женщине, превратившейся, казалось, в некий звукозаписывающий аппарат.
— Перерыв скоро будет, не знаете? — спросила я, поскольку в коридоре, кроме нее, никого не было.
Она оторвалась от щели и шепотом крикнула мне: «Не мешайте!» — словно присутствовала на концерте великого пианиста и боялась упустить хоть одну ноту, хоть один такт.
«Наверняка должен скоро быть, — решила я. — И можно будет поговорить, посоветоваться...»
Всю ночь я репетировала свой разговор с судьей. Придумывала фразы, которые, я надеялась, услышав от меня, она запомнит и повторит во время судебного разбирательства.
Но беседа оттягивалась, и я, подобно студентке перед экзаменационной дверью, стала вновь как бы заучивать факты, аргументы и даты. Они незаметно вытянулись в ленту воспоминаний — не только моих собственных, но и чужих, которые при мне повторялись так часто, что тоже стали моими.
Я знала, что прежде существовали «родовые поместья», «родовые устои», «родовая знать»...
А у меня была родовая травма. Врач-акушер на миг растерялась, замешкалась. И в моей еще ни о чем не успевшей поразмышлять голове произошло кровоизлияние, но, как сказал, утешая маму, один из лечивших меня врачей, «ограниченного характера». Характер был «ограниченный», а ненормальность охватила весь мой организм и стала всеобщей. Собственных впечатлений о том первом дне жизни у меня, к сожалению, не сохранилось. Но история моей болезни вошла в историю: не потому, что я заболела, а потому, что в конце концов вылечилась. Это был уникальный случай. И мой младенческий кретинизм даже попал в учебники.
Я благоговела перед врачами. С заискивающей надеждой заглядывала им в глаза... Но не раз думала и о том, что вот
71
так, от одного неловкого движения акушера зависит вся человеческая жизнь: Моцарт не станет Моцартом, а Ван Гог или Суриков не смогут держать кисть в руке, не подчиняющейся рассудку. Да и простые смертные вроде меня будут приговорены к вечным страданиям. Из-за одного неловкого движения человека, который не имеет права на такое движение, ибо еще более, чем судья, определяет будущую человеческую жизнь, а в случае секундной ошибки выносит незаслуженный приговор и всем, кто к этой жизни причастен.
В отличие от нормальных детей я не ползала и вообще не проявляла склонности «к перемене мест».
На это обратили внимание в тот самый момент, когда моя бабушка собралась выходить замуж.
«Первая и последняя!» — называл ее шестидесятилетний жених.
— Он влюбился в меня, когда нам едва исполнилось по семнадцать, — впоследствии рассказывала мне бабушка. — Но между нами ничего не было.
— Совсем ничего? — цепко спросила я.
— Кажется, был... один поцелуй.
— Именно в семнадцать? Бабушка кивнула.
— Синхронно! — воскликнула я. — У меня тоже в семнадцать...
— И я ничего не знала?!
— Сообщи я немедленно, этот запоздалый поцелуй показался бы землетрясением. А так, видишь... все живы-здоровы. Хотя мама, как говорится, оказалась непосредственной свидетельницей.
— Каким образом?
— Увидела из окна.
Бабушка не нашла в поцелуе ничего угрожающего моей жизни. Она понимала меня с полуслова. А часто и полслова не нужно было произносить. Только взглянет — и сразу готов диагноз: «Ты больна?», «Ты обижена?». Во всех случаях она предлагала одно и то же, но безотказно действовавшее средство: «Ничего страшного!»
Действительно, после того, что случилось со мной в изначальный миг моей жизни, ничего уже не могло выглядеть страшным.
Бабушка любила вспоминать, как ее первый возлюбленный объявился через сорок три года.
72
— В позднем браке есть свои преимущества: не хватит сил и времени на развод!
Мама отговорила ее от «неверного шага».
— Это противоестественно! — восклицала она. — Природой для всего установлены свои сроки.
Насчет природы мама была в курсе дела: она занималась охраной окружающей нас среды.
— Но и от окружающей среды приходится охранять! — уверяла она бабушку. — Что ж получается? Всю жизнь имел жену, а теперь ищет няньку!
Это маму не устраивало: нянька нужна была ей самой. Хотя тут я, наверное, не вполне справедлива: прежде всего нянька нужна была мне.
И бабушка не пошла под венец.
— Правильно сделала! — сказала я, впервые услышав от нее эту историю. — В семнадцать поцеловал и закрепил до шестидесяти? Где он был раньше?
— Там же, где я: в своей семье. Нас разлучили обстоятельства. И они же опять свели: мой муж умер, а он остался вдовцом. Встретившись, мы оба помолодели.
— Почему же тогда... давно...
— А ты? — перебила меня бабушка.
И больше я не задавала дурацких вопросов.
Бабушка была папиной мамой.
А мамина мама руководила моим воспитанием с другого конца города по телефону: она объясняла, что мне рекомендуется есть, сколько часов гулять, а сколько посвящать сну. Она изучила все случаи родовых травм — и делала по телефону выводы, сравнения, указывала, как именно меня надо спасать.
В пору моего раннего детства врачи предупреждали родителей, что соображать я кое-что буду, но расти мне придется отсталым ребенком. Я помнила эти прогнозы: значит, и в то время немного соображала. Но только чуть-чуть... И двигалась плохо, и говорила с трудом.
Бабушка, отказавшись от супружеского счастья, взялась за меня.
— Мама, поверьте, мне не нужно ничего лишнего! Я по закону хочу, — продолжал заклинать в зале судебного заседания длинный, худой сын. — Поэтому я и пришел в суд. В наш, советский! Который по справедливости...
Что ответила ему мать, я не услышала. И отошла от двери, возле которой, закупорив собой щель, по-прежнему дымила воспаленная дебелая женщина.
73
«По закону, по справедливости!» Да, это были знакомые мне слова.
Говорят, что у каждого человека в жизни должна быть цель. Но даже самых заветных целей бывает много. Или в редком случае несколько. У бабушки же со дня моего рождения цель, действительно, была только одна: поставить меня на ноги. Сначала в прямом, а потом в переносном смысле.
По профессии бабушка была медсестрой. Муж ее, то есть мой дедушка, погиб на войне, когда еще его самого, девятнадцатилетнего, в доме считали внуком.
— Вот ты не веришь, что можешь научиться читать... — воспитывала меня бабушка. — А я даже не спать научилась. И ничего страшного! Все ночи проводила у постели больных.
— Все ночи?!
— Почти. Помогала им как могла. Иногда удерживала, не отпускала.
— Куда?
— На тот свет... И заодно подрабатывала.
Зачем ей нужно было подрабатывать, бабушка не объясняла мне. Но отец однажды сказал:
— Чтобы я был одет не хуже других в своем школьном классе. И питался не хуже. Чтобы в театр ходил, в кино... как остальные.
Бабушка хотела, чтобы и я была «не хуже других». Это стало ее основным желанием.
Она рассталась со своей больницей.
— Это подвиг — оставить любимое дело! — сказала мама.
— Я, конечно, привыкла... — ответила бабушка. — Но ничего страшного.
— Тем более что и дома все будет, так сказать, в сфере вашей профессии.
Мама пользовалась четкими, отточенными формулировками.
Меня показывали докторам наук и профессорам. Я с утра до вечера глотала порошки и таблетки. Меня растирали, массировали. Когда ребенок в доме хронически болен, все подчинено этому горю. Подавлено им. Мама и папа, когда оставались вдвоем, кажется, ни о чем, кроме моей болезни, не говорили.
Они отчаивались, страдали, а бабушка общалась со мной, как со здоровой.
— Ничего страшного! — уверяла она. — Даже имя твое говорит об этом.
Меня зовут Верой.
74
Из всех профессоров, которые были брошены на мое спасение, главным оказалась бывшая медсестра. Мне трудно было ходить, а она просила:
— Сбегай-ка за газетой!
Я плелась вниз и вверх по лестнице, но верила, что когда-нибудь побегу.
У бабушки были не сердобольные, а спасительные для больного человека глаза: они не подавляли сочувствием, не повергали в сомнение слезливыми, туманными обещаниями, а просто убеждали, что не происходит «ничего страшного».
Умный, всегда загорелый лоб и абсолютно белые, без малейших оттенков волосы укрепляли бабушкины диагнозы и предсказания.
Я помню, что слова долго не вступали со мною в контакт: язык был тяжелым, не подчинялся. А бабушка, не замечая этого, без конца со мной разговаривала. Она вовлекала меня в беседы так естественно, а порой властно, что язык начинал понемногу сдаваться.
Некоторые взрослые поступали иначе. Они делились в моем присутствии своими тайнами, как при глухой. «При ней можно!» — слышала я. Сами того не желая, они настырно убеждали меня в моей неполноценности.
Частенько к нам наведывался мамин соратник по борьбе с загрязнением окружающей среды Антон Александрович.
Загрязнение среды на его внешности не отразилось: он всегда был в сахарно-белоснежных рубашках, в свитерах — то пестрых, то одноцветных, то с короткими рукавами, то с длинными, которые сидели на нем складно, будто в магазинной витрине.
С годами я поняла, что людям свойственно обнаруживать в своей внешности то, что им выгодно обнаруживать, и прятать то, что выгодно прятать.
«Все хотят выглядеть красиво, — позже не раз думала я. — Одна из главных человеческих слабостей!»
Антону Александровичу выгодно было выпячивать спортивность своей фигуры, и он, не нуждаясь в портных, плотно облегал себя свитерами.
Заходил он только «по делу». Меня это настораживало. Хотя мне в ту пору исполнилось всего лишь семь лет, я догадывалась, что для дел больше подходил научно-исследовательский институт, где они вместе с мамой работали, чем наша квартира в отсутствие папы. Появлялся же Антон Александро-
75
вич чаще всего по субботам и воскресеньям, когда папа у себя в музее приобщал людей к искусству минувших веков.
А может быть, я увязывала эти события бессознательно. И лишь через много лет мне стало казаться, что я и в неразумном младенчестве все понимала.
— Мы с вами люди самой модной профессии! — сообщил маме Антон Александрович.
Это «мы с вами» заставило меня отменить прогулку и остаться дома.
Антон Александрович всегда приносил мне подарки. И очень шумно вручал их. Но его шоколад я не ела: «Слишком какой-то сладкий!» А с его куклами не играла. Он подлизывался ко мне. И это тоже было тревожно.
Особенно он заботился о том, чтобы я дышала незагрязненным воздухом нашего двора. Но выпроводить меня на улицу ему ни разу не удалось.
Выслушав его сообщение о том, что «на дворе сегодня очаровательная погода», я усаживалась куда-нибудь в угол и угрюмо молчала.
Он приписывал это моей крайней отсталости.
— Не достать ли какие-нибудь импортные лекарства? Японские, например? — предлагал он. — В этой области, по части мозга, японцы добились ошеломляющих результатов!
В конце концов, полностью уверовав в мою несмышленость, он решил объясниться маме в любви.
— Софья Васильевна... Сонечка! Загляните пристальней мне в глаза. Неужели вам ничего не ясно?
И тут я заорала... Я схватила маму за руку и потащила в другую комнату, чтобы она не успела заглянуть в глаза Антону Александровичу.
— Верочка все поняла! Вы видите, Антон Александрович? Это уже не просто «некоторое улучшение», а бесспорный прогресс. Она на пороге выздоровления. Какое чудо! Какое огромное счастье!..
Этот «порог» спутал все планы Антона Александровича, и он, мрачно восхищаясь, покинул наш дом.
В тот же вечер мама, захлебываясь, рассказывала обо всем папе:
— Ты представляешь, Антон Александрович решил выразить мне свои чувства. Не впрямую, конечно. Полунамеками... Как джентльмен! Я не успела еще ничего толком сообразить, а Верочка уже все поняла. И воспротивилась. Это же замечательно! Она не просто научилась выговаривать слова и лучше ходить — она вникает в психологию человеческих отношений!
76
Мама, конечно, была права, поскольку это длинное — психология — начинается со слова «псих». Так я мысленно шутила впоследствии.
А тогда мне было радостно от сознания, что для мамы любовь ко мне все-таки дороже успеха. Это я поняла!
Папа радовался тому, что случилось, несколько меньше мамы. Но все же механически, вполголоса повторял:
— Это новая стадия... Новая стадия!
— Какие стадии, не пойму? — удивилась бабушка. — Она все понимает не хуже нас с вами.
Это был ее, бабушкин, метод лечения. О новой стадии моего выздоровления тем не менее рассказывали знакомым, врачам, — и Антон Александрович перестал забегать к нам «по делу». История его любви была подробно описана в истории моей болезни. И тем самым увековечена.
Мамина мама сказала, что при жизни своего супруга, то есть второго моего дедушки, она ни разу и никому не позволяла «себя любить». Но моей сообразительности она тоже, разумеется, была рада.
Все это произошло не само собой... Я в своих воспоминаниях сильно забежала вперед. Перед «порогом» выздоровления были другие пороги и кручи, которые я преодолевала мучительно. И всегда с помощью бабушки.
Сообщая о том, что я буду отсталым ребенком, врачи, конечно, чуть-чуть понижали голос. Но не настолько, чтобы я их не слышала. Я все понимала и ужасалась своей судьбе. Меня повергали в смятение и руководящие телефонные звонки маминой мамы. По тому, как долго и тщательно она объясняла, где надо искать пути моего спасения, я смекала, что дела мои плохи.
А бабушка как ни в чем не бывало говорила:
— Принеси-ка коробку с нитками. Будешь шить и учить стихи.
Мне становилось легче.
— Вы опять не понимаете меня... Мною движут только благородные чувства, — донеслось из зала суда.
«Все хотят выглядеть красиво. При любых обстоятельствах!» — вновь подумала я.
И отправилась в глубь коридора.
Маму называли крепким специалистом. Это определение очень к ней подходило. Всегда собранная, одетая скромно, но безупречно, с иголочки, мама была человеком волевым и «с убеждениями», как подчеркивали ее сослуживцы. Например,
77
без косы, которая золотистой подковой обрамляла голову, я маму просто ни разу в жизни не видела. Впрочем, напоминая по форме своей подкову, эта золотистая коса, по сути, скорее была короной, ибо, прикоснувшись к ней, мама обретала еще большую, чем обычно, уверенность в себе и принимала осанку владычицы. Когда она протягивала руку к косе, я знала, что сейчас будет сказано что-то очень важное и поучительное.
Бездумно мама не бросала слов ни на ветер, ни в безветренную погоду. Она выстраивала мысли с алгебраической точностью, вынося за скобки все лишнее. И почти никогда не меняла свои твердые точки зрения на какие-либо точки с запятыми или многоточия.
Мама всюду была как бы при исполнении служебных обязанностей. Она без устали боролась за окружающую среду. Любая труба, мне казалось, в ее присутствии дымила застенчиво, не в полную силу. А курить вообще никто не решался.
Правда, порой меня удивляло, что мама, борясь с отравлением природы, самой природой не восхищалась, не замечала ее красот. Борьба для нее была естественнее, чем любовь. Если, конечно, речь не шла обо мне. А может, такое обобщение было и вовсе неверным, несправедливым.
Папа работал в музее экскурсоводом. На старых фотографиях он был высоким и статным. Но с годами как-то пригнулся... Согласно домашним легендам, его пригнула моя родовая травма. Слоняясь по судебному коридору, я думала о том, что скорее все же сильный мамин характер заставил его изменить осанку.
А впрочем, я, наверное, опять была не права, несправедлива к своим родителям.
Там, перед дверью суда, я не в состоянии была примириться с тем, что мама и папа смогли...
Музейная обстановка приучила папу говорить вполголоса, а при маме даже и в четверть. Повторявший каждый день на работе одно и то же, папа и дома любил повторяться:
— Ты, Вера, не должна игнорировать свое заболевание. Ты не можешь равняться на тех, кто бегает во дворе: они абсолютно здоровы.
«Ты не должна, ты не можешь...» Его методы воспитания входили в противоречие с бабушкиными.
Я слушала всех, но слушалась бабушку.
За музейные ценности папа сражался так же, как мама за окружающую среду.
— В запасниках прозябает столько шедевров! — возмущал -
78
ся он. — Это все равно, что оставлять гениальные литературные творения в рукописях, хоронить их в столах авторов. Или лекарства, способные исцелять людей, прятать от жаждущих и страждущих! Кстати, искусство — это тоже сильнодействующий исцелитель. Сильнодействующий... Он необходим для нравственного здоровья!
Папа произносил это с необычным для него душевным подъемом. И потому чаще всего в отсутствие мамы, при которой остерегался повышать голос.
Он вообще любил исповедоваться, когда мы были вдвоем. Наверное, считал, что я в его исповедях ничего ровным счетом не смыслю, и поэтому мог быть вполне откровенным, как если бы рядом с ним находилась кошка.
Сначала я и правда ни во что не могла как следует вникнуть. Но постепенно, с годами, под воздействием таблеток, массажей и бабушкиного психологического лечения, начала понимать, что папа в юности мечтал стать художником. У него даже находили какой-то «свой стиль». Но мама этого стиля не разглядела. У нее и тут была своя твердая точка зрения: художником нужно быть либо выдающимся, либо никаким. И папа стал никаким.
Потом он расстался со «своим стилем» и в других сферах жизни.
— Я сделался копировщиком картин, — сообщил он мне как-то. — Сделался копировщиком... Ну а после переквалифицировался в экскурсовода. Если бы мама тогда, давно... лучше понимала меня, я бы мог стать личностью... В искусстве по крайней мере! Хотел создавать свои полотна — теперь рассказываю про чужие. Что делают в подобных случаях, а?
— Разводятся, — неожиданно ответила я. Хотя он задал вопрос не мне, а как бы бросил его в пространство... Мое присутствие он, подобно другим взрослым, в расчет фактически не принимал.
Папа, как и мама после моей реакции на любовный взрыв Антона Александровича, пришел в восхищение.
— Ты сама догадалась или тебе подсказали? — допытывался он.
— Подсказали, — ответила я.
— Кто?
— Ты.
— Нет, не приписывай мне этой заслуги: ты сама стала мыслить четко и ясно! Четко и ясно... — ликовал папа. И восторженно заламывал руки. — Мама права: ты стала постигать
79
сложные нравственные категории. У тебя появилась способность иронизировать!
Своими восторгами они как бы подчеркивали, что судьба-то мне предначертала быть полной кретинкой. Я решила отвлечь папу от моих умственных достижений и спросила:
— А почему вы все-таки не развелись?
— Потому что я... люблю маму.
— И правильно делаешь! — с облегчением изрекла я.
Это привело папу в еще больший экстаз:
— Любящая дочь должна была именно так завершить обсуждение этой деликатной проблемы. Именно так должна была завершить... Все логично. Никаких умственных и нравственных отклонений!
Он еле дождался маминого возвращения с работы. И прямо в коридоре поделился счастливой новостью.
— Она сказала буквально... цитирую слово в слово: «А почему вы все-таки не развелись?» То есть она понимает, что, если брак в чем-то не оправдал себя, не удался, люди разводятся. Ты представляешь, какие аспекты человеческих отношений подвластны ее уму!
Как экскурсовод папа тяготел к возвышенным формулировкам. И некоторые свои фразы повторял, будто кто-то рядом с ним вел конспект.
— Так и сказала?! — восхитилась мама. — «А почему вы не развелись?»
— Буква в букву!
— Великолепно! Ты, я надеюсь, исправишь эту ошибку?
— Нет... Потому что она сразу встревожилась, как бы я не последовал ее чисто теоретическому выводу. И подтвердила, что я должен остаться здесь, ибо люблю тебя. Ибо люблю... Это был голос разума, помноженный на голос сердца! — Папа, безусловно, тяготел к возвышенным формулировкам. — Еще одна новая стадия! — зафиксировал он.
Бабушка пожала плечами.
— Какая такая стадия?
— Нет, не говорите, — возразила мама. — Мы укрепляем веру Веры в самое себя. И кому, как не вам, главному победителю, нашему доброму гению, сейчас ликовать?! Необходимо закрепить данное ее состояние... Бесспорно! — Мама вновь повернулась к папе: — А в результате чего она обратилась к этим проблемам?
— Я рассказал ей о некоторых сложностях, которые имели место в далеком прошлом. В очень далеком. — Папа опять стал изъясняться вполголоса, как в музее возле картин. — Но
80
она сама, без всякой моей подсказки перекинула мост от конкретных событий к логическим выводам. К логическим выводам! — заключил папа, надеясь, что такая концовка уведет маму от сути того, что именно мы с ним обсуждали. — Еще один новый этап!
— Это бесспорно, — согласилась с ним мама. — Если так пойдет, она вскоре сможет учиться в самой обыкновенной школе... В нормальной. Вот тебе и отсталое развитие!
Моя неожиданная реакция на папину исповедь тоже попала в историю болезни. И была таким образом обессмерчена.
О том, что я посмела представить себе возможность их развода, мама словно забыла. И это при ее самолюбивом характере! Я еще раз поняла, что мое выздоровление было для них важнее всего.
Важнее любых жизненных ситуаций и самолюбий.
...Но никто так упорно, как бабушка, не стремился убыстрить процесс моего замедленного развития.
Пределом мечтаний для мамы и папы было вначале мое умение нормально ходить. А бабушка решила научить меня прыгать через веревочку.
— Говорят, выше себя не прыгнешь. Вы хотите опровергнуть эту истину? — с некоторым опасением спросила мама.
— Ничего страшного, — ответила бабушка.
Врачи обучали меня ясно произносить короткие фразы. Бабушка заставляла заучивать головоломные скороговорки, а о том, что «Карл у Клары украл кораллы», я должна была сообщать ей, словно сотруднику угрозыска, ежедневно.
— Вы хотите овладеть программой-максимум! — продолжала словесно рукоплескать мама. — Мы этого никогда не забудем.
Бабушка заставляла меня, как альпинистку, не интересоваться холмами, а стремиться к вершинам, которые издали кажутся недоступными.
Она занималась этим целыми днями — и я могла бы возненавидеть ее. Но бабушка сумела убедить меня, как, наверное, убеждала не раз тяжелобольных, что там, за труднодоступными хребтами, долина спасения.
Она уверяла меня в этом без истеричных заклинаний — особым голосом медсестры, которая подходит к постели, взбивает подушку — и вселяет надежду.
Когда бабушка впервые объяснила мне, что самое дорогое
81
слово на свете «мама», я стала называть ее «мамой Асей»: у бабушки было редкое имя Анисия.
— Крестьянское имя, — объяснила она.
Руки у нее тоже были крестьянские — иссеченные линиями, черточками, морщинами и морщинками.
Бабушка не раз пыталась убедить меня, что мама у каждого может быть только одна. Поэтому лучше уж называть ее так, как принято: бабушкой.
Я пересказала все это маме: мне было интересно, что она думает по данному поводу. Мама думала то же, что я:
— Она подарила тебе, как пишут в газетах, «второе рождение». И поэтому можешь называть ее матерью. Она заслужила. Это бесспорно! — Мама любила слово «бесспорно». И в самом деле спорить с ней никто не решался. — Я сама буду называть ее «мамой Асей». Ты хочешь?
Исполнение любых желаний — привилегия больного ребенка. Но я возразила:
— Ты называй, как раньше... Анисией Ивановной.
— Хорошо. Раз ты хочешь! Только не волнуйся. Главное — не расходовать нервы!
— Вы вспомните меня мальчиком! — умолял в зале мужчина, выдавленный из тюбика. — Разве я когда-нибудь огорчал вас?
Я вдруг услышала его мать. Она счастлива была сообщить всем, что в детстве ее сын был хорошим, — и напрягла голос.
Дебелая женщина от неожиданности ввалилась обратно в зал.
Судья, похожая на школьницу, склонившись над столом, как над партой, что-то разглядывала. Издали мне показалось, что это была фотография. Рядом, на столе, лежала ее раскрытая сумочка, из которой высовывался кончик платка. И я почему-то подумала, что она тайком разглядывала своего собственного сына. Наверное, маленького. И может быть, размышляя о том, как это мальчики, которые в детстве не огорчают, потом...
Я сама часто об этом думала. И когда видела лицо негодяя, всегда старалась представить себе, каким это лицо было в самом начале жизни.
О том, что я не должна расходовать свои нервы, что человека, перенесшего родовую травму, травмировать больше нельзя, у нас в доме знали все. Это провозглашалось почти
82
ежедневно. И я научилась искусно пользоваться своим «родовым состоянием».
Речь, разумеется, идет о том времени, когда фундамент моего здоровья, закладываемый, как говорил папа, в материнском чреве и разрушенный в первый момент моего появления на свет, был фактически уже восстановлен. Но я делала вид, что он все еще находится, так сказать, в процессе восстановления. Болезнь предоставляла мне немалые льготы. И я с ними расставаться не торопилась.
Мое настроение все обязаны были учитывать. Как только родители не хотели выполнять какой-либо просьбы, состояние моего здоровья трагически ухудшалось: я начинала спотыкаться на ровном месте и невнятно произносить слова. Мама и папа вперегонки уверяли, что у них и в мыслях не было наносить удар по моему душевному состоянию. И только бабушка все понимала. Она жалела родителей: «Ничего страшного!» Но не выдавала меня.
Когда мне исполнилось тринадцать лет, в меня влюбился самый перспективный из начинающих хулиганов нашего двора — Федька След. Прозвище он получил потому, что каждую свою угрозу сопровождал предупреждением:
— Я тебя по любому следу найду!
Как можно отыскать конкретного человека по любому следу — это было Федькиной тайной.
Я тогда еще не совсем оправилась от своей травмы. И если кто-нибудь позволял себе хотя бы усмехаться по поводу моей неловкой походки или не вполне складной речи, Федька тут же обещал отыскать этого человека «по любому следу».
Родители одного из тех, кого он уже отыскал, истошно сообщили об этом моим родителям.
— Почему он мстит за тебя? — напрямую спросила мама.
— Влюблен. Вот и все.
— Вот и все?!
Узнав о моем первом женском завоевании, мама очередной раз бурно возликовала. Прежде она изнурительно беспокоилась о том, могут ли у неполноценных ног ее дочери быть поклонники. Утешая себя, мама говорила, что в моих недугах, бесспорно, есть некоторая пикантность, интригующая непохожесть.
— Разумеется, — привычно соглашался с ней папа. — Отклонение от нормы — это самобытность, оригинальность.
Хотя пилюлями, массажами и консультациями профессоров они все же старались лишить меня той интригующей самобыт-
83
ности, в которой, как в бороде Черномора, таилась моя главная сила.
На примере Федькиной страсти я поняла, что истинные чувства действительно понятны без слов: он ни разу не обмолвился о своей слабости. Но свою силу устремил мне на помощь: почти все мальчишки во дворе оказались избитыми.
— Мы можем быть спокойны: ничто человеческое не обойдет Верочку стороной! — восхищалась мама. — Бесспорно... Теперь уже окончательно и бесспорно!
— Это взаимное или одностороннее чувство? — вполголоса поинтересовался папа.
— Одностороннее, — ответила я.
— Всегда стремись к этому! Одностороннее движение даже на улице безопаснее, — поощрила меня мама. — Пусть лучше они... — Она взглянула на папу. — Пусть лучше они вкладывают эмоции и выкладывают свои нервные клетки!
Когда я вышла в другую комнату, бабушка сказала:
— Почему надо так восхищаться? Это же оскорбительно.
— Человек, в котором подозревают какую-нибудь неполноценность, — тоном экскурсовода начал разъяснять папа, — всегда хочет опровергнуть подобное мнение. И это сильнейший стимул!
— А в ком подозревают неполноценность? — уже обычным голосом, не боясь, что я услышу, и продолжая свой метод лечения, спросила бабушка.
Мамина мама, узнав о Федькиной страсти, сказала по телефону, что в мои годы она еще никому не позволяла «себя любить».
— К сожалению, он драчун, — сказал папа таким тоном, будто речь шла о женихе, которому придется отказать от дома.
— Разве Айвенго или, допустим, герои... «Всадника без головы» не были драчунами? — вопросом ответила бабушка. — Они, насколько мне помнится, оставались без головы, потому что дрались за честь. И Федька не лезет в бой просто так... Ничего страшного!
— Плохой человек не может полюбить в столь раннем возрасте. И с такой силой! Анисия Ивановна, как всегда, абсолютно права, — вступила в разговор мама.
Папа сник, поскольку мамины аргументы были для него неопровержимыми. Меня это порой раздражало. Но в данном случае я согласилась с мамой... Однако, когда через несколько дней обнаружилась очередная Федькина жертва и ее родители не пожелали молчать, папа, как бы беря реванш, заявил:
— Надо с ним всерьез побеседовать. Побеседовать надо...
84
— О чем? — поинтересовалась бабушка.
— О том, что его любовь должна быть бескровной.
— Разве он кому-нибудь говорил про любовь?
— Не говорил... Но о ней говорит весь двор! И Вера выглядит вроде бы соучастницей. Ведь из-за нее он угрожает... И даже в отдельных случаях бьет. Даже бьет!
— Это скверно, — согласилась бабушка. Приободренный папа выдвинул новое предложение:
— Надо побеседовать с его родителями. Все, знаете, были молодыми. Все, знаете, были... И помнят!
Тут я вошла в комнату, где происходил разговор, заплетающейся походкой.
Увидев это, папа взметнул руки вверх:
— Я не буду беседовать. Не буду. Обещаю тебе! Только не трать свои нервы.
Я начала «отходить». И проследовала к окну уже более твердым шагом. Тогда, обращаясь ко мне, папа продолжил:
— Пойми... его интимное чувство не должно производить шум на весь дом.
— Почему?! — вмешалась в разговор мама. Пусть все знают, что в нашу Верочку можно влюбиться.
— Разве в этом кто-нибудь сомневается? — тихо произнесла бабушка. — Она имеет защитника? Ничего страшного!
— По крайней мере для нее, — согласилась мама. — Анисия Ивановна, как всегда, права. — И крикнула в папину сторону: — Просто не верится, что ты ее родственник!
Я подошла к двери, возле которой стояла вновь не замечавшая меня женщина.
— Зачем же делить-то, Коленька? — донесся близкий к рыданию голос матери. — Я ведь скоро...
— Всех нас в два раза переживет! — отреагировала дебелая женщина.
И я поняла, что мужчина, выдавленный из тюбика, — ее раб.
— Что там делят? — спросила я.
Она была до того возбуждена, что выдохнула дым мне в лицо:
— Что делят в суде? Имущество!..
У бабушки была старшая сестра. Ее звали тетей Маней.
— Старшая, но не старая, — объяснила мне бабушка. — Выглядит куда лучше меня: всю жизнь прожила в деревне.
85
Воздух такой, что пить можно. И спокойная она. Ни разу криком себя не унизила.
— Как раз это опасней всего, — включился в разговор папа. — Опасней всего... Человеку необходимо разрядиться: крикнуть, выругаться, что-нибудь бросить на пол. Иначе внутреннее самосожжение происходит... Самосожжение!
Грамоте тетя Маня научилась поздно, уже в зрелом возрасте, и потому очень любила писать письма. Бабушка читала их вслух, а мама и папа делали вид, что им интересно.
Мама иногда даже переспрашивала:
— Сколько... сколько она собрала грибов? Бабушка находила соответствующее место в письме.
— Сколько она наварила банок варенья? Бабушка вновь водила пальцем по строчкам.
Мама могла бы и не интересоваться этими цифрами, потому что все засоленные тетей Маней грибы и все сваренное ею варенье отправлялись по нашему домашнему адресу.
— Куда нам столько? — ахала мама. И аккуратно размещала банки в холодильнике и на балконе.
Всякий раз, когда потом грибы и варенье появлялись на столе, мама напоминала:
— Это от тети Мани!
Если же к папе приходили друзья и грибы становились «грибками», за здоровье тети Мани провозглашались тосты. Бабушке это было приятно:
— Не зря Манечка спину гнула. Удовольствие людям! Когда бабушка была маленькой, они с тетей Маней осиротели.
— Она, старшая, выходила меня... Не дала росточку засохнуть без тепла и без влаги.
— Как ты мне?
— Ты бы и без меня расцвела: тут и мать, и отец, и профессора!
— Нет... Без тебя бы засохла, — ответила я.
По предсказаниям бабушки, ее старшая сестра должна была «пить воздух» лет до ста, если не дольше.
Но тетя Маня стала вдруг присылать письма, в которых точным был только наш адрес. Бабушку она называла именем их давно умершей матери, сообщала, что грибы и ягоды растут у нее в избе, прямо на полу... из щелей.
Потом ее сосед из деревни написал нам, что у тети Мани сосуды в голове стекленеют, но что сквозь то стекло ничего ясно не разглядишь. Так ему врачи объяснили.
— Стало быть, у Мани склероз, — сказала бабушка. И до-
86
бавила, первый раз изменив себе: — Очень уж это страшно. И воздух, стало быть, не помог.
— В молодости чем больше родных, тем лучше, удобнее. Все естественно, прямо пропорционально, — сказала мама. — А в старости, когда наваливаются болезни, возникает нелогичная, обратно пропорциональная ситуация: чем больше родных, тем меньше покоя.
— Но ведь и мы тоже можем стать пациентами своих близких, — ответила бабушка. — На кого болезнь раньше навалится, никому из нас неизвестно!
Мама при всей точности своего мышления как-то этого не учла.
— Никогда не кричала она. Вот и результат, — пробормотал папа. — Вот и результат...
— Что поделаешь... Надо ехать в деревню, — сказала бабушка. И, вроде бы извиняясь, обратилась ко мне: — Ничего страшного: вас будет трое. А она там одна.
И сразу пошла собираться.
Я почувствовала, что не может быть нас троих... без нее, без четвертой.
Я почувствовала это — и уже не нарочно споткнулась на ровном месте. От волнения я стала, сбиваясь, проглатывая слова, объяснять, что без бабушки все погибнет, разрушится. Мама и папа панически испугались.
— Придумайте что-нибудь! — невнятно просила я их.
— Мы умоляем тебя: успокойся... — вталкивая мне в рот пилюлю и заставляя запить ее водой, причитала мама. — Выход, бесспорно, есть. Пусть тетя Маня приедет сюда. К нам... Хоть сегодня!
— Разумеется, мы будем довольны, — привычно поддержал ее папа. — Мы будем довольны.
С этой вестью я заспешила в коридор, где бабушка собирала вещи.
Мама и папа ринулись вслед за мной.
— Тетя Маня будет жить здесь, в нашем доме, — торжественно объявила мама. — То, что дорого вам, дорого и нам, Анисия Ивановна. Это бесспорно. Иначе не может быть.
— Я тоже поеду в деревню... Мы вместе привезем тетю Маню.
— Пожалуйста! — с ходу разрешила мне мама. — Только не волнуйся. Тебе нельзя расходовать нервы.
Никогда еще не была я так благодарна своим родителям. А они, перепуганные моей истерикой, через день собрали консилиум.
87
Когда меня показывали очередному профессору, мама обязательно шепотом предупреждала, что это «самое большое светило». На сей раз «самые большие светила» собрались все вместе. Просто слепило в глазах!
Со мной беседовали, меня разглядывали, ощупывали, будто собирались купить за очень высокую цену.
Это происходило у нас в квартире, поскольку за годы моей болезни все светила стали, как говорится, друзьями дома. Мама считала это своей психологической победой, потому что к каждому профессорскому характеру ей удалось подобрать ключ.
Потом мы с папой и мамой — бабушка при этих исследованиях никогда не присутствовала — вышли в смежную комнату.
Мы ждали приговора... А получили награду. Консилиум объявил, что я практически здорова. И что отправиться на время в деревню было бы хорошо!
— Это нанесло бы последний удар по ее болезни, — сказал, поощрительно поглаживая меня по макушке, один из друзей нашего дома.
На следующий день мы с бабушкой отправились наносить последний удар.
Девять с половиной часов мы ехали в поезде, а затем, от станции до деревни, еще три часа на попутном грузовике.
Мы обе сидели в шоферской кабине.
— Ничего страшного: в тесноте, да не в обиде, — сказала бабушка.
Когда мы с грохотом въехали на главную улицу села, шофер налег спиной на сиденье и нервно затормозил: он не ожидал, что на улице будет столько людей.
Люди возвращались с кладбища... Только что похоронили тетю Маню.
Холмик с крестом был перед оградой, возле дороги. Рядом с двумя другими крестами. На самом кладбище уже не было места.
Тетя Маня лежала под зеленой, накренившейся крышей дуба, который весь был в зияющих ранах, нанесенных годами.
Бабушка не плакала. Она смотрела поверх могилы, на дуб, так долго, что я тронула ее за руку.
— Что ж телеграмму-то не послали? Не дали проститься, — сказала она.
Оказалось, что сосед тети Мани, знавший наш адрес, уехал куда-то на месяц к родным. Так получилось.
88
— Меня пусть тоже сюда... — сказала бабушка. — Я с Маней хочу. Не пугайся моих слов. Но запомни их, ладно?
Бабушка произнесла это так мягко и просто, что я не испугалась. Хотя о смерти до той поры никогда не думала.
— Пока молода, считаешь себя бессмертной. Ты так подольше считай, подольше... А я сейчас вот так решила: когда что почувствую, сразу сюда уеду, в деревню. Поближе к этому дубу. Ты меня не удерживай.
Несколько дней мы не могли послать маме с папой письмо: не знали, как написать о смерти.
Пока мы откладывали, почтальонша принесла нам письмо от мамы.
— Соскучилась, — сказала бабушка. И стала искать очки. Но я остановила ее, надорвала конверт и принялась читать вслух:
— «Дорогая Анисия Ивановна, добрый наш гений! Спешу написать вам лично, а Верочке пошлю письмо завтра...»
Я остановилась. Но бабушка махнула рукой:
— Читай... Ничего страшного.
— «Спешу потому, что после вашего отъезда не спала всю ночь: думала, думала. Наутро поехала советоваться с профессорами, и в результате возникла ситуация, о которой мне нелегко написать. Но я, бесспорно, должна это сделать. Во имя самого главного для меня и для вас: во имя Верочкиного здоровья! Я подумала и врачи, увы, со мной согласились, — что постоянное общение со столь больным и, простите за эти слова, не вполне нормальным человеком, каким является сейчас тетя Маня, может пагубно отразиться на Вериной нервной системе. Можем ли мы, имеем ли право подвергать риску плоды нашего и прежде всего вашего многолетнего стоического труда? Можем ли перечеркнуть ваши и наши жертвы? Согласитесь: бесспорно, нет. Поверьте, что рука моя сейчас сама собой останавливается, отказывается писать дальше... И все же я обязана преодолеть эту трудность и сказать, что приезд к нам тети Мани нежелателен, а точнее, невозможен. Не могу и никогда не сумею свыкнуться с мыслью, что вы, Анисия Ивановна, вынуждены будете остаться там, в деревне, рядом с больной сестрой, но...»
Я поняла, что бабушка больше уже не нужна была маме. Ведь консилиум решил, что практически я здорова.
«Практически»... Почему-то именно это слово, возникнув в памяти, настойчиво повторялось, не уходило.
Мама не знала о смерти тети Мани и немного поторопи-
89
лась. Она имела возможность выглядеть красиво. И лишилась этой возможности. А ведь желание выглядеть красиво во всех случаях жизни — одна из главных человеческих слабостей. Так мне казалось...
На том, решающем, консилиуме врачи говорили, что в деревне по моей болезни будет нанесен последний удар. Мама нанесла удар... Но не по болезни: ее ведь практически уже не было. А по моей вере в то, что люди за добро платят добром. По крайней мере близкие мне люди, которых я хотела не только любить (я их очень любила!), но и уважать тоже.
Удар этот не был последним... Я бы даже сказала, что он был первым.
Когда человек ощущает свою вину, это кое-что искупает. Но вести себя естественно он не в силах.
Мама встретила нас с бабушкой слишком помпезно: цветы были во всех углах комнаты и у мамы в руках. Даже папа протянул каждой из нас по цветку.
Вспомнив про смерть тети Мани, которую она ни разу в жизни не видела, мама принялась чересчур пылко восхвалять ее человеческие достоинства.
— Это было такое сердце! Такое сердце! — повторяла она, поглядывая на пустые банки из-под грибов и варенья.
Каждым своим жестом и словом мама заглаживала тот просчет, которого могло и не быть, если бы она не поспешила, если бы дождалась нашего письма и узнала о кресте на холмике под неохватным, израненным дубом.
Мама упорно настаивала, чтобы мы ее «правильно поняли». Но я знала: об этом просят тогда, когда поступают неправильно.
Наконец очередь дошла до моего внешнего вида:
— Тебя узнать невозможно! Этот месяц в деревне просто преобразил тебя.
— Месяц в деревне, — вполголоса подключился папа. — Так можно было назвать оду в честь твоего окончательного излечения, если бы Иван Сергеевич Тургенев уже не назвал так свою знаменитую пьесу. Если бы не назвал...
— А знаешь, какой тебя ждет сюрприз? — вновь перехватила инициативу мама. — Врачи разрешили тебе перейти в обычную, нормальную школу. Правда, на один класс ниже. Но в нормальную!
Мама уже не просто «заглаживала», а старалась, чтобы мы, ошеломленные новостями, вообще забыли о ее письме.
90
— Все знают, что родителям и детям лучше жить врозь. Тогда сохраняются все чувства и отношения! — тоже «заглаживал» и заставлял «забыть» охрипший мужчина в судебном зале. — А лишнего мне не надо!
Судья снова вынула из сумки, лежавшей на столике, фотографию, взглянула на нее, опустила обратно и щелкнула замочком, чего я не услышала.
Мама все делала обстоятельно и серьезно. Поэтому заглаживание вины не ограничилось днем нашего возвращения из деревни. Мама сказала, что на первый урок в «нормальную» школу меня должна провожать бабушка:
— Она в переносном смысле привела тебя к порогу этой школы. Пусть также будет и в смысле буквальном!
Взяв у бабушки фотографию тети Мани, мама увеличила ее и повесила над бабушкиной постелью:
— Она вырастила вас, как вы Верочку. Это бесспорно! Казалось, мама подслушала фразу, когда-то сказанную мной.
Несколько раз она спрашивала бабушку, не хочет ли та поехать в дом отдыха. Бабушка не могла поехать в тот дом, как я не могла бы сесть за руль мотоцикла: отдыхать она не умела.
Но постепенно чувство вины за письмо и радость от того, что я выздоровела и ходила в «нормальную» школу, начали притупляться. Время лишило эти события их остроты.
Мамина мама постоянно внушала по телефону, что я должна обладать всеми качествами, необходимыми «гармонично развитому человеку».
Бабушка стремилась ликвидировать все последствия разрушений, которым я подверглась в первый день своей жизни, а мамина мама стремилась к гармонии.
— К примеру, любознательность... Великолепное качество! — раздавалось из телефонной трубки. — «Любо знать» — вот откуда берет истоки это понятие.
Вскоре, однако, я убедилась: важно, что именно «любо знать» человеку.
В одну из освободившихся комнат нашего дома въехала шумливая женщина, которая, видимо, решила провести почти весь свой «заслуженный отдых» на скамейке возле подъезда. В первый же день она представилась бабушке и мне, а потом стала с большой любознательностью прислушиваться к нашим
91
разговорам. Вечером же, когда я встретила маму, возвращавшуюся с работы, и мы, поцеловавшись, направились к своему подъезду, новая соседка преградила нам дорогу известиями, полученными в результате ее любознательности.
— Анисия Ивановна — героиня! — сообщила она маме так, будто знала бабушку с детских лет. — Сижу целый день и восхищаюсь: родить в таком возрасте! И как ты, Верочка, ее называешь — это тоже удивительно... — обратилась она и ко мне, как к старой знакомой. — Не просто мамой зовешь, а «мамой Асей». Благодаришь, значит, за ее смелость: родить в таком возрасте! Я вот бездетна. Сижу целый день и завидую...
Затем, проявляя еще большую любознательность, а может бесцеремонность, она спросила маму:
— А вы-то кем Вере приходитесь?
Мама ничего не ответила.
Она и после того случая продолжала называть бабушку «добрым гением», но делала это уже по инерции, без вдохновения.
Как раз в ту самую пору папе почему-то пришла в голову запоздалая идея устроить ужин для всех светил, которые в течение многих лет были друзьями нашего дома, но уже потихоньку переставали ими быть.
Ты прав, — ответила мама. — Бесспорно, прав: они еще могут, тьфу-тьфу-тьфу, пригодиться.
— И поблагодарить надо, — опомнился папа. — И поблагодарить тоже...
— А как же! Бесспорно... Это само собой разумеется, — согласилась с ним мама. И поправила золотистую подкову на голове, как бы уже готовясь к приему.
Профессора-мужчины пришли с женами, а профессора-женщины, если у них были мужья, — с мужьями. Приглашены были и ближайшие родственники. Собралось много людей, и все говорили о том, как они своим врачебным искусством или своим сочувствием исцеляли меня. Я поняла, что в такой ситуации не выздороветь было просто неприлично...
Чтоб отвлечь от себя внимание и восстановить справедливость, я поднялась с бокалом, по стеклу которого прыгали лимонадные пузырьки, и сказала, что, если бы не бабушка, никакая медицина мне бы не помогла.
Я перевела стрелку — и вечер с экспрессной стремительностью изменил направление.
Светила, собравшиеся за столом, не просто лечили меня —
92
они меня «наблюдали». Во всех справках, которые я получала, так и было написано: «наблюдается» так-то, с такого-то года. Но заодно они, разумеется, «наблюдали» и бабушку, которая неизменно была рядом со мной.
Все сразу об этом вспомнили и под влиянием выпитого заговорили с нарочитой целеустремленностью.
Повзрослев, я заметила, что, если у застолья есть эпицентр, есть какой-нибудь главный объект, вечер проходит успешно. Его участники не распыляются: рассеянный огонь, который редко приводит к победе, уступает огню прицельному. О главный объект, как о некий точильный камень, все шлифуют свое остроумие, глубокомыслие.
Заговорив о бабушке сперва слишком бурно, наши гости стали постепенно трезветь. Бабушкино лицо, ее высокий, всегда загорелый лоб, белые, без малейших оттенков волосы да и сама неожиданность присутствия такого человека в говорливом, чересчур раскованном обществе — все это заставило перейти от застольной велеречивости к более застенчивой искренности.
И хотя каждый поднимавшийся с места произносил слово «тост», рюмки и бокалы не обязательно осушались — просто размышляли о бабушке, о ее «человеческом подвиге». Так прямо и говорили: о подвиге.
Чтобы не слышать всего этого, она ушла на кухню мыть посуду, готовить чай.
Мамина мама, тоже считавшая себя гостьей, на кухню вслед за бабушкой не удалилась. Она предпочитала руководить, и невозможность проявить эту свою способность ее томила. В начале вечера она пыталась объяснить, что какой вилкой и что после чего надо есть. Но к ее голосу не прислушивались: застолье имело свои центры — сперва меня, а потом бабушку.
В конце концов, мамина мама не сдержалась.
— Мне кажется, я присутствую на открытии памятника, — заявила она.
Не все уяснили себе, что это моя вторая бабушка, и принялись возражать ей, как посторонней.
— За такое подвижничество и надо воздвигать памятники! ~- произнесла жена светилы-консультанта, не столько, мне показалось, думая о памятниках, сколько о том, чтобы уязвить мамину маму, которая ее раздражала.
— Памятники надо ставить при жизни, — включился в разговор папа. — Пусть не из гранита, не из бронзы, пусть «нерукотворные»... Но при жизни. Чтобы человек мог...
Мама дотронулась рукой до своей золотистой подковы, и папа умолк.
93
Приняв осанку владычицы, не допускавшей возражений, мама поднялась и сказала:
— А у меня «средь шумного бала, случайно...» создалось впечатление, что Верочка — круглая сирота.
Едкая мамина ирония бессильно пыталась выдать себя за юмор. Когда вечер еще был похож на открытие памятника, папа, помня, что он цитирует маму — а цитировать ее он очень любил! — сказал о моем «втором рождении» с помощью бабушки.
— Человек рождается лишь однажды. Медицина, бесспорно, со мной согласится, — задним числом одернула его мама, отрекаясь от своей давней мысли.
Она вновь перевела стрелку — и вечер устремился в третьем направлении: за праздничным столом люди податливы и сговорчивы. Все стали пить за моих родителей. Именно пить, потому что тосты были краткими, мимоходными, а рюмки и бокалы осушались до дна.
Наступил момент, когда гости забыли уже о том, что вечер носит, так сказать, тематический характер, что он посвящен определенному событию. Воспользовавшись этим, я незаметно вышла из-за стола и отправилась на кухню помогать бабушке.
С того вечера все изменилось в нашей семье.
Быть может, прояснился истинный мамин взгляд на отношения, которые давно возникли между мною и бабушкой. Эта истина раньше искажалась практической потребностью в бабушкиных заботах обо мне.
«Нужен тот, кто нужен? Нужен, пока нужен?..» Неужели мама руководствовалась этой философией? Нет, не философией — зачем такие красивые понятия! — а просто-напросто выгодой?.. Мне трудно было осознать это. Но я видела: то, что раньше ставилось бабушке в заслугу, теперь вызывало укор.
Мама создавала в доме угодную себе атмосферу. И делала это очень результативно.
О бабушкином подвиге старались не вспоминать: «Хватит уже!»
«Но ведь так можно забыть о любом подвиге, сперва воспользовавшись его результатом?» — думала я.
Я вспомнила бывшего фронтовика с протезом вместо ноги, которому в парикмахерской не хотели уступать очередь. Хотя возле кассы было написано, что «инвалиды имеют право...». Уж если и его подвиг кем-то забыт!..
94
«Люди не должны жить минувшим горем, — думала я. — Но тех, кто спас их от горя, они обязаны помнить!»
Как иные историки стараются не вспоминать неугодные им события и тогда становится непонятным, что из чего «проистекло», так и мама пыталась перечеркнуть мою «родовую историю»: я всегда была здоровой, нормальной, училась в обычной школе.
Вместе с тем мама невзначай припомнила, что именно бабушка повезла ее в тот родильный дом, где врач замешкалась и где произошло то самое знаменитое кровоизлияние «ограниченного характера».
— Бесспорно, никто здесь не виноват, — объяснила мама. — Но надо же... такая трагическая случайность. Сколько в городе родильных домов?!
Я продолжала называть бабушку мамой Асей. Не для того, чтобы дразнить маму, а просто потому, что привыкла и по-другому уже не могла.
Решив с этим покончить, мама вернулась к проблеме моего «второго рождения».
Для начала она попыталась доверительно, «как с родной дочерью», поговорить со мной. Но интимной беседы у мамы не получилось: слишком ясно обозначались в ее тоне и голосе повелительные, жесткие ноты.
— Я имею дело с природой. Можно сказать, защищаю ее! — сказала мама. — И у себя дома тоже хочу выступить на защиту ее законов. Пойми, их нельзя попирать. Человек рождается лишь однажды и матерью должен называть лишь одну — родившую его! — женщину. Иначе в родственных отношениях возникает хаос. Нарушаются законы семейной природы.
— Эти законы нельзя менять в зависимости от выгоды, — ответила я. — Ты же сама первая... сказала про «второе рождение». Когда тебе было нужно. Неужто забыла!
Но именно вспоминать маме меньше всего хотелось.
— Раньше ты говорила об этом «втором рождении», — продолжала я, — в романтическом смысле, а теперь нарочно говоришь только в физиологическом.
— Какой словарный запас! Ты совершенно здорова! — в ответ восхитилась мама.
Вскоре бабушка, как раньше, сама попросила, чтобы мамой я называла только маму, а ее называла бы бабушкой:
— Так будет лучше.
Но я и ее не послушалась.
Месяцы, поспешно соединившись, становились годами... В
95
обыкновенной школе я одерживала необыкновенные, если учесть мое «родовое прошлое», успехи.
— Деятели мировой культуры, детство которых прошло в неблагоприятных условиях, — тоном экскурсовода объяснял папа, — потом становились выдающимися эрудитами: духовный голод вызывал повышенный аппетит. Повышенный аппетит... Что-то похожее происходит с тобой.
Впечатления детства, когда я была отсталой, и впечатления отрочества, когда я стала передовой, как-то переплелись. Я уже не могла провести между ними четкой границы... Как и в своих воспоминаниях, которые, будто выскакивая из засады, атаковали меня в коридоре суда. То, что я помнила сама, беспорядочно перемешалось с тем, что я слышала от родителей и от бабушки.
Я знала, что самая отчаянная борьба, — это борьба за существование. В ней порою не выбирают средств... Мама отстаивала свое существование в качестве моей единственной матери. И в борьбе за эту монополию все средства ее устраивали...
На беду, с годами у меня стало проявляться все больше тайн. Взрослым часто свойственно из лучших намерений, в «воспитательных целях», выдавать секреты своих воспитуемых. Бабушка не выдала меня ни единого раза. И свои секреты я несла к ней. Бабушка обладала редким умением слушать других. Редким потому, что для этого надо хоть на время отрекаться от себя самого. Часто, слушая чью-либо горькую исповедь, люди сразу же примеряют ее на свою жизнь, то есть думают в тот момент о своей судьбе и мысленно радуются тому, что несчастья, коснувшиеся или истерзавшие собеседника, их обошли стороной. Для бабушки же события моей еще недолгой биографии были гораздо важнее, чем все, что происходило в ее собственной жизни. Потому советы ее, ненавязчивые, не замутнялись какими-либо личными интересами или соображениями.
Одной из моих главных тайн был Федька След... Инерция репутаций очень устойчива, почти непреодолима: хоть Федька давно уже не извергал ни грома, ни молний, его продолжали считать грозой нашего дома. Когда однажды мама заметила из окна, что Федька прикоснулся губами к моей щеке, этот факт вошел в историю нашей семьи как «поцелуй хулигана».
— Почему хулигана? Я сама подставила щеку!
— Бесспорно... Я этому не удивляюсь! — забыв о своей осанке, заметалась по комнате мама. — Ведь еще в младенческие годы ты узнала о том, что твоя бабушка целовалась в неполных семнадцать лет. То есть не достигнув совершеннолетия!
96
Загрязнение окружающей среды в тысячу раз безопасней, чем загрязнение среды внутренней. Чем загрязнение юной души! Подобными вот откровениями старших...
— Не смей обижать бабушку! — твердо произнесла я. — Хорошо, что ее нет дома. Не вздумай при ней...
— И ты еще будешь ставить условия?! — громким голосом неправого человека продолжала мама. — После того, что я видела? Я уверена, что это она... именно она внушила тебе в раннем детстве, что мы с папой должны развестись.
— Ты же так радовалась этой моей мысли!
— Я радовалась признакам выздоровления. Твоя судьба была для меня дороже личного счастья!
— Так за эти признаки... за то, что они появились... за то, что перестали быть признаками, поклонись в ноги бабушке!
— Ты с ума сошла. А профессора? А лекарства? Она разлучит нас! Бесспорно... Это случится!
Самое страшное, когда человек перестает быть самим собой. Мама в тот день перестала. А может, наоборот... она стала собой, поскольку моя минувшая болезнь уже не мешала ей это сделать?
Не дожидаясь, пока бабушка нас с ней разлучит, мама решила забежать вперед, принять меры. Или я несправедлива и выдаю стечение обстоятельств за проявление злой, преднамеренной воли?
Точнее сказать, речь идет об одном обстоятельстве. Об одном... Но переполнившем сосуд противоречий, который становился в нашей семье все более наполненным и тяжелым.
Когда я была в девятом классе, учительница литературы придумала необычную тему домашнего сочинения: «Главный человек в моей жизни».
Я написала про бабушку.
А потом пошла с Федькой в кино... Было воскресенье, и у кассы, прижимаясь к стене, выстроилась очередь. Федькино лицо, по моему мнению и по мнению бабушки, было красивым, но всегда таким напряженным, будто Федька изготовился прыгать с вышки вниз, в воду. Увидев хвост возле кассы, он прищурился, что предвещало готовность к действиям чрезвычайным. «Я тебя по любому следу найду», — упреждал он, когда был мальчишкой. Стремление добиваться своих целей немедленно и любой ценой осталось опасным признаком Федькиного характера.
Стоять в очереди Федька не мог: это его унижало, ибо
97
сразу присваивало ему порядковый номер, и, безусловно, не первый.
Федька ринулся к кассе. Но я остановила его:
— Пойдем лучше в парк. Такая погода!..
— Ты действительно хочешь? — обрадовался он: тут уж не надо было стоять в очереди.
— Никогда больше не целуй меня во дворе, — вместо ответа предупредила я. — Маме это не нравится.
— А я разве...
— Под самыми окнами!
— Точно?
— А ты забыл?
— Тогда уж я имею полное право... — изготовился к прыжку Федька. — Раз было, значит, все! Тут уж цепная реакция...
Я повернула к дому, поскольку свои намерения Федька осуществлял любой ценой и на длинный срок не откладывал.
— Ты куда? Я пошутил... Это точно. Я пошутил.
Если люди, не привыкшие унижаться, должны это делать, их становится жаль. И все-таки я любила, когда Федька След, гроза дома, суетился возле меня: пусть все видят, какая я теперь полноценная!
Федька умолял пойти в парк, обещал даже, что не поцелует меня больше ни разу в жизни, чего я от него вовсе не требовала.
— Домой! — гордо сказала я. И повторила: — Только домой...
Но повторила уже растерянно, потому что в эту минуту с ужасом вспомнила о том, что оставила сочинение «Главный человек в моей жизни» на столе, хотя вполне могла бы сунуть его в ящик или в портфель. Что, если мама его прочтет?
Мама уже прочла.
— А кто я в твоей жизни? — не дожидаясь, пока я сниму пальто, голосом, который, будто с обрыва, вот-вот готов был сорваться в крик, спросила она. — Кто я? Не главный человек... Это бесспорно. Но все же какой?!
Я так и стояла в пальто. А она продолжала:
— Больше я не могу, Вера! Возникла несовместимость. Я предлагаю разъехаться... Это бесспорно.
— Нам с тобой?
— Нам?! Ты бы не возражала?
98
— А с кем же тогда? — искренне не поняла я.
— С той, которую ты... — Ее голос был на самом краю обрыва. — Которую ты, пренебрегая моими материнскими чувствами...
Всегда безупречно выдержанная, мама, потеряв власть над собой, зарыдала. Слезы часто плачущего человека не потрясают вас. А мамины слезы я видела впервые. И стала ее утешать.
Ни одно литературное сочинение, наверно, не произвело на маму такого сильного впечатления, как мое. Она до вечера не могла успокоиться.
Когда я была в ванной комнате, готовясь ко сну, пришла бабушка. Мама и ей не дала снять пальто. Голосом, который вернулся на край обрыва, не стремясь что-либо скрыть от меня, она стала говорить сбивчиво, как некогда говорила я:
— Вера написала... А я случайно прочла. «Главный человек в моей жизни»... Школьное сочинение. Все у них в классе посвятят его матерям. Это бесспорно! А она написала о вас... Если бы ваш сын в детстве... А? Нам надо разъехаться! Это бесспорно. Я не могу больше. Моя мама ведь не живет с нами... И не пытается отвоевать у меня мою дочь!
Я могла бы выйти в коридор и объяснить, что прежде, чем отвоевывать меня, маминой маме надо было бы отвоевать мое здоровье, мою жизнь, как это сделала бабушка. И что совершить это по телефону вряд ли бы удалось. Но мама опять зарыдала. И я притаилась, затихла.
— Мы с вами должны разъехаться. Это бесспорно, — сквозь слезы, но уже резко, исключая возражения, сказала мама. — Все сделаем по закону, по справедливости...
— Как же я без Верочки? — не поняла бабушка.
— А как же мы все... под одной крышей? Я напишу заявление. В суд! Там поймут, что надо спасти семью. Что практически разлучаются мать и дочь... Я напишу! Когда Верочка закончит учебный год... чтобы у нее не было нервного срыва.
Я и тут осталась в ванной комнате, не приняв всерьез угрозы насчет суда.
...В борьбе за существование порою не выбирают средств. Когда я перешла в десятый класс, мама, не боясь уже моего нервного срыва, выполнила свое обещание. Она написала о том, что мы с бабушкой должны разлучиться. Разъехаться...
99
И о разделе имущества «согласно действующим судебным законам».
— Поймите, я ничего лишнего не хочу! — продолжал доказывать мужчина, выдавленный из тюбика.
И тут я впервые услышала голос судьи.
— Судиться с матерью — самое лишнее на земле дело. А вы говорите: не надо лишнего... — произнесла она бесстрастным, не подлежащим обжалованию тоном.
«Нужен тот, кто нужен. Нужен, когда нужен... Нужен, пока нужен!» — мысленно повторяла я слова, которые, как врезавшиеся в память стихи, были все время у меня на уме.
Уйдя утром из дома, я оставила на кухонном столе письмо, а точнее, записку, адресованную маме и папе: «Я буду той частью имущества, которая по суду отойдет к бабушке».
— Тряпка... ничего не смог доказать. Тряпка! — твердила, обращаясь вглубь коридора, дебелая женщина.
Сзади кто-то дотронулся до меня. Я обернулась и увидела папу.
— Пойдем домой. Мы ничего не будем делать! Пойдем домой. Пойдем... — судорожно повторял он, оглядываясь, чтобы никто не услышал.
Бабушки дома не было.
— Где она? — тихо спросила я.
— Ничего не случилось, — ответил папа. — Она уехала в деревню. Вот видишь, на твоей бумажке внизу написано: «Уехала в деревню. Не волнуйтесь: ничего страшного».
— К тете Мане?
— Почему к тете Мане? Ее давно уже нет... Просто в деревню уехала. В свою родную деревню!
— К тете Мане? — повторила я. — К тому дубу?.. Окаменевшая на диване мама вскочила:
— К какому дубу? Тебе нельзя волноваться! Какой дуб?
— Она просто уехала... Ничего страшного! — заклинал папа. — Ничего страшного!
Он посмел успокаивать меня бабушкиными словами.
— Ничего страшного? Она к тете Мане уехала? К тете Мане? К тете Мане, да?! — кричала я, чувствуя, что земля, как это бывало прежде, уходит у меня из-под ног.
1978 г.
100
ПОЦЕЛУЙ НИКИТЫ СЕРГЕЕВИЧА
Из блокнота
Ни одного иностранного языка я за всю жизнь не осилил. Хотя окончил... индийский факультет Московского института востоковедения. Профессор урду и хинди обожал литературные и светские новости. На экзаменах, вытянув из меня, тогда уже литератора, все известные мне сведения о мастерах слова, об их общественной, личной, а то и интимной жизни, он в благодарность произносил: «Очень любопытно! Спасибо... Пятерка!» Так я завершил свое высшее образование.
А через много лет в Москву прибыл Джавахарлал Неру с дочерью Индирой Ганди (в ту пору министром информации и радиовещания). В честь высоких гостей устроили правительственный прием... Неожиданно вместе с именитыми и маститыми на тот прием пригласили меня, писателя еще молодого.
В разгар международного пиршества подбегают сверхштатские «мальчики»:
— Товарищ Алексин! Вас ждет Никита Сергеевич... Подводят меня к столу президиума.
Преподаватели Института востоковедения в сталинскую эпоху годами объясняли мне, что Махатма Ганди и Джавахарлал Неру — агенты мирового империализма и, естественно, только и делают, что предают свой бедный индийский народ. Но вот благородный красавец Неру с традиционной красной гвоздикой в петлице (в память о любимой жене) и достойная отца, бесстрашная, как доказало время, Индира в мягком вечернем сари, ниспадавшем до самого пола, — оба были прямо передо мной. Хрущевская «оттепель» тогда благотворно распространялась, проникая почти во все сферы. Почти...
Вижу, что Никита Сергеевич изрядно подвыпил: говорит неуправляемо-громко, руками размахивает неуправляемо-широко. Услышав, что меня привели, он сообщает высоким гостям:
— А у нас писатель Анатолий Алексин знает индийский язык!
На лбу у меня, чувствую, проступает испарина: я же не могу, не смею опровергнуть лидера государства! Коли он сказал, что я владею индийским языком, — значит, так и есть: обязан владеть...
И тут Бог пришел мне на помощь: я вспомнил одну весьма расхожую фразу на урду («Тумко пасанд хе!»). Это — как бы
101
английское «Ай лав ю!». Только не в мужском и не в женском, а в общечеловеческом смысле («Вы мне нравитесь!»). Четко и внятно произношу... Неру — в полном восторге: обнимает меня. Индира, как и во всем, следует примеру отца. Хрущев идет дальше — не только обнимает, но и целует:
— Ну, молодец!.. Ну, не подвел!
Аджубей игриво подмигивает: это он, разумеется, сообщил тестю о моем индийском языке.
Никита Сергеевич... Он немало накуролесил. Цитируя Твардовского, скажу: «Но все же, все же, все же...» Нельзя забывать добра! Ведь в девятом круге Дантова ада мучаются, как известно, «предатели благодетелей». А Хрущев и благодетелем был. Он не только стучал ботинком по столу в Организации Объединенных Наций, а и... первым разоблачил Сталина вопреки воле президиума ЦК КПСС; начал уничтожать сталинские лагеря смерти; поднял «железный занавес» (до него и в Болгарию-то почти никто не ездил!); вновь — после Александра Второго — отменил крепостное право в деревне; щедро увеличил пенсии; начал широчайшее жилищное строительство (хрущобы хрущобами, а десять хозяек на одну кухню выходить перестали!); в его пору взмыл в космос первый спутник, а Гагарин стал первым в истории космонавтом; Аджубей же храбро преобразовал журналистское дело. Все вроде помнят об этом, но... забывают. А как можно забыть?
Смертным грехом Хрущева числится Новочеркасск (хотя, как он уверял, приказ войскам был отдан в его отсутствие и секретарь ЦК Кириченко поплатился за это!). Смертным грехом стала и расправа с Пастернаком... Очень уж доверчив и внушаем был Никита Сергеевич. Идеолог партии Ильичев втемяшил ему в голову, что «Доктор Живаго» — крамола, подкоп, диверсия.
Когда Ильичев умер в чине заместителя министра иностранных дел, появился некролог, подписанный первыми лицами того времени во главе с Горбачевым. В некрологе возвеличивались ильичевские заслуги в сфере... культуры. 26 декабря 1990 года я выступил с протестом на страницах «Литературной газеты»:
«Верю, что Ильичев был добросовестным сотрудником МИД (тем более что и в жизни был дипломатом отменным!). Но ведь он же инициативно активничал, будучи редактором центральных газет в пору «ленинградского дела», псевдоразоблачений «космополитов», «убийц в белых халатах» и т.д. Активность на крови!.. Это он сбивал с толку Хрущева в траги-
102
ческих историях с Пастернаком и скандалом на выставке в Манеже. У Ильичева возникли острые «идейные» разногласия с моим незабвенным другом Львом Кассилем, о коих поведаю позже. Леонид Федорович повел наступление из своего редакторского кабинета: организовал лживые, погромные фельетоны, доносительские «письма читателей». На моих глазах комиссия заявила, что в фельетонах нет ни одной правдивой строки. После чего Леонид Федорович преспокойно сообщил, что «факты в основном подтвердились». Кассиль умер рано... Не ускорила ли его гибель та постыдная травля? И вдруг оказывается, что Л. Ф. Ильичев оставил «светлый след... в нашей культуре».
Понимаю: о мертвых — либо хорошо, либо никак. Но к Ильичеву этот закон не мог относиться.
Был ли протест на страницах «Литературной газеты» смелостью с моей стороны? Не мне судить. Но ведь некролог-то был подписан политбюро «в полном составе» и во главе с генсеком. Так что...
На одной из своих встреч с «творческой интеллигенцией», которые он очень любил устраивать, Никита Сергеевич принялся бесцеремонно поучать и отчитывать Маргариту Алигер. Минули годы... И вот, когда Хрущеву исполнилось семьдесят семь, Маргарита Алигер позвонила ему и поздравила.
— Ну, раз поздравила, значит, не очень обиделась, — с грустью и неиссякающей виноватостью сказал давно уже смещенный со всех постов лидер. И разрыдался.
Об этом мне рассказал Аджубей.
Помню и хрущевский, мягко говоря, сумбурный доклад на съезде писателей России: сравнение писателей с автоматчиками, незаслуженные упреки в адрес Эренбурга, восхваления реакционера Грибачева и все прочее.
Когда доклад завершился, Александр Корнейчук, решив, что пробил час, взлетел на трибуну и, захлебываясь восторгом, вскричал:
— Да здравствует великий вождь и борец за мир Никита Сергеевич Хрущев!
Хрущев ему не аплодировал. Он в тот момент — было видно из зала! — приносил свои извинения Эренбургу.
А назавтра здравица Корнейчука в газетах не появилась.
Много можно предъявить горьких упреков и даже обвинений Никите Сергеевичу.
«Но все же, все же, все же...»
103
КУЛЬТ... «ПРОТИВ КУЛЬТА»
Из блокнота
После Хрущева обращусь к Горбачеву и его времени. Оба Сергеевича — Никита и Михаил — безусловно, вписались в историю.
Как-то в российской телепередаче «Совершенно секретно» Михаила Горбачева в шутку сравнили с... Христофором Колумбом. Дело в том, что Колумб, как известно, открыл Америку, но намеревался-то открыть Вест-Индию. И вот здесь Христофор и Михаил схожи. Горбачев тоже совершил отнюдь не то, что собирался содеять. И в том, свершенном, отчетливо видится не только негативное или сомнительное, но и весьма полезное, позитивное. А это забвению не подлежит...
Горбачев прекратил ужасающую и бессмысленную бойню в Афганистане, превратил гласность из непривычного слова в полуреальность, стал первым генсеком-демократом, разрушил Берлинскую стену...
Принялся засучив рукава разрушать и советскую систему. Главное, однако, в подобном деле не «рукава» и не лихость телодвижений, а знания, компетентность и опыт. Но как раз этого генсеку и президенту не доставало. К тому же он вознамерился поколебать советский режим, сохраняя упрямую верность своему «социалистическому выбору», коммунистическим законам и нравам. Он пытался соединить несоединимое. И я не раз был тому свидетелем, наблюдая его человеческие, а иногда, увы, античеловеческие проявления. Но ведь порою даже один поступок раскрывает характер полней и точней, чем речи, доклады и заявления...
К работе XXVII съезда КПСС были привлечены многие «представители творческой интеллигенции» — писатели, режиссеры, актеры, художники, композиторы. Ведь на том XXVII съезде Горбачев подробно изложил план, тактику и стратегию своей «перестройки». Я впервые как следует разглядел «лицо» партии большевиков. И ужаснулся... По Есенину, «большое видится на расстоянье». Но тут было не великое, не большое, а нечто суетно-мелкое, что видится как раз на расстоянии близком.
Партия коммунистов, что общеизвестно, нарекла себя «умом, честью и совестью нашей эпохи». В Кремлевском же Дворце съездов собрались, так сказать, «честь чести» и «совесть совести». Шли заседания... А в перерывах сотни и сотни потно-целеустремленных делегатов атаковали прилавки и киоски, вальяжно расположившиеся на все дни «форума коммунис-
104
тов» в гостинице «Москва». И оттуда же отправляли — нет, не нуждающимся, не инвалидам, а по собственным благополучным адресам — импортные продукты, шмотки, парфюмерию, косметику... И в каких алчно-несметных количествах! Везли в изнемогавших от перегруза колясках прямо к «почтовым пунктам», которые, расположившись там же, в гостинице, превращали сверхпокупки в сверхпосылки. «Неужели все это можно сожрать, напялить на себя, намазать, набрызгать?!» — потрясался я.
Самым же большим потрясением в один из дней стал факт вроде бы второстепенный, но четко обозначивший для меня характер генерального секретаря ЦК КПСС.
На трибуну, помню, поднялся тогдашний лидер Союза кинематографистов Лев Кулиджанов — режиссер, безусловно, талантливый («Дом, в котором я живу», «Преступление и наказание», «Отчий дом», «Когда деревья были большими»), а человек, — бесспорно, порядочный. К тому же фронтовик... Я хорошо был знаком с этим интеллигентом (не по званию, а по стилю жизни!): в молодости он снимал фильм, к сценарию которого я был причастен. Вспомнить Льва Александровича могу только словами признательности и уважения.
И вот с трибуны кинорежиссер несколько раз упомянул генсека. Не холуйски (Кулиджанову свойственны как раз манеры барственные), не подхалимски, а вполне, я бы сказал, закономерно упомянул: в связи с обсуждением горбачевского доклада, который в кулуарах уже потихоньку, в первой попытке, начали величать историческим. Режиссер ничего подобного себе не позволил.
Но Михаилу Сергеевичу вдруг захотелось показать залу, вместившему тысяч пять человек, да и всей стране, а заодно уж — и всей планете, что перестройка обязана начаться и уже началась повсюду, во всем... В том числе и на трибуне съезда! Генсек поднялся и в задохнувшемся от раболепского внимания зале произнес:
— Давайте не будем склонять Михаила Сергеевича...
«Склонять к чему?» — хотелось спросить, памятуя об интересах великого и могучего русского языка, с которым Горбачев никогда не был в приятельских отношениях, а часто вступал в неразрешимый конфликт. Но, сказав «не будем склонять», генсек имел в виду: не будем часто упоминать. Это-де старые замашки, которые новая, перестроечная, скромность вождя не приемлет и отвергает.
Зал ядерно взорвался овацией. Она возводила на пьедестал застенчивость Михаила Сергеевича.
105
А режиссер — немолодой и уже перенесший сердечные заболевания — стоял на трибуне, принимая пощечины от пяти тысяч партийных «перестроечников». Подхалимская буря рукоплесканий продолжалась, мне кажется, минут пять. Для той мизансцены это была целая вечность! Восковая бледность наползала на лицо знаменитого режиссера...
Мне чудилось: вот-вот, еще немного — и у бывшего фронтовика разорвется сердце: проявлять мужество в мирные дни бывает труднее, чем на войне.
Незадолго до того или после (точно не помню!) Шеварднадзе на той же трибуне с приторной вкрадчивостью облизывал архитектора перестройки, интимно и задушевно повествуя о том, как Горбачев по-тургеневски, по-лесковски взыскательно оттачивал каждую строку доклада, которого, разумеется, он... не писал. Полушепотом, словно по доверительному секрету, Эдуард Амвросиевич сообщал, как, не жалея сил и здоровья, генсек создавал то многостраничное сочинение, которое создавали его советники и помощники. В официальных газетных отчетах из «тоста с трибуны», произнесенного Шеварднадзе, кое-что удалили, текст старательно облагородили, чтобы он выглядел менее липким.
Но Михаил Сергеевич соратника и сподвижника, с которым потом на время разминулся, не корректировал... А вот на пожилом интеллигенте решил продемонстрировать, что как вождь уже непримиримо перестроился и культа своей личности не допустит. В зале сразу же возник культ отсутствия культа...
Лживость примитивно, в грубую обнимку переплелась с жестокостью. Зал не мог не видеть, что кинорежиссер близок к сердечному приступу... И никого это не остановило, поскольку «все ради человека» и «все во имя человека». То было основным лозунгом и определяющим призванием делегатов.
Вечером жестокую — не «человеческую», а бесчеловечнейшую — комедию продемонстрировали по всем телепрограммам. И я понял: чтобы возвеличить очередного кормчего, вновь разрешено пожертвовать чьей-то честью и чьим-то здоровьем. И опять во имя «высокой цели»... Как это было знакомо! Хотя сам факт можно было, конечно, счесть и второстепенным. Но даже десятистепенные детали могут привести порой к первостепенным — по своему значению — выводам.
Невзирая на это, однако, Горбачев обречен на «звание» реформатора и первого генсека-демократа, поборника столь непривычных для того времени свобод. Ибо историю нельзя подправить, улучшить или ухудшить. Сие всем известно, но истина не может быть банальной и от частого употребления исти-
106
ной быть не перестает. Умалять горбачевских заслуг не хочу. Ни в коем случае! Но не собираюсь забывать и о том, что варфоломеевские ночи Тбилиси, Баку, Вильнюса тоже произошли не только с ведома сатаны, но наверняка и с ведома политбюро ЦК коммунистической партии.
«НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ...»
Тоже из жизни
Говорят, отобрать у смерти ее победу нельзя. Но он отбирал. Спасать мертвых — недостижимая цель... Но он ее достигал. Его профессия — загадочная, почти неуловимая для осознания — именовалась тяжеловесным словом «реаниматолог».
Дверь его квартиры снаружи была украшена обманным кожеобразным материалом с неаппетитным названием «дерматин», а изнутри — старой киноафишей «Никто не хотел умирать».
— И не хочет! — утверждала его жена, как бы продлевая во времени сюжет знаменитого фильма.
— Чаще всего действительно не хотят. Но сказать, никто?.. — осмелился однажды полувозразить муж.
— Мы с тобой обязаны думать и говорить, что никто!
И он согласился. Поскольку соглашался со всеми ее мыслями и утверждениями.
И дерматин, необычно простроченный то будто улегшимися на покой, то будто воспрявшими и со сна вскочившими ромбиками, и вросшая в один из тех ромбиков изящная, златообразная табличка — «Профессор А. И. Гранкин», и афиша, отреставрированная, словно художественное полотно, — все это было плодами фантазии Эвелины. Она и таким образом возвышала предназначение мужа, которое считала семейным. То есть, и своим тоже... Обивка выдавала себя за кожу, афиша — за картину, а медная табличка — за золото. Людям приходится предпочитать ценностям их имитации: они гораздо дешевле стоят. Но у Эвелины имитации выглядели ценностями.
Она, полуполька-полуукраинка, признававшая в себе лишь польскую кровь, выглядела очаровательной панной, ежесекундно готовой к танцу. А он, умевший возвращать людей с того света, был с виду всего-навсего Аркашей. Но это для тех, кто не вникал в лабиринтные глубины его профессии. Те же, кто вник, затруднялись ответить, привлекателен фасад или нет. Для них это не имело значения: он был кудесником. А если
107
при всем том оставался Аркашей и сутулился, будто стараясь казаться понезаметнее, это лишь оттеняло его значительность.
Эвелина была тщеславна: она повествовала о несусветных схватках мужа со смертью, как об их совместных сражениях. Вроде даже он выступал в роли солдата, а она — полководца: «Я сказала: спасти мы обязаны!», «Я устремила нас на битву, которая казалась уже проигранной...»
И в общем-то она не лгала.
— Прелесть нашей семьи — в диссонансах, которые не сталкиваются, а дополняют друг друга, — втолковывала она супругу. — Пусть тебя не принижает, что я везде, как «средь шумного бала». Бал — это антипод смерти, и, подобно тебе, бросает ей вызов. Еще одна примета того, что у нас с тобою... дуэт. Единомышленников! Я даже взяла твою фамилию, хотя «Раздольская» благозвучней, чем «Гранкина»... Но каждый обязан быть в своем «образе». Твоя магия — в естественной изможденности. Если бы ты являлся в белом халате и маске, перелезшей на лоб, было бы еще органичнее. Постоянно встречаясь один на один со смертью, ты не можешь выглядеть лощеным и жизнерадостным. Хоть радость жизни и возвращаешь!
Эвелина часто изъяснялась афоризмами и каламбурами.
Она была одаренной, но «в общем и целом» — без конкретного, определенного дара. Когда-то она окончила с отличием факультет журналистики. Но потом ее «отличие» стало проявляться в другом: куда бы она ни приносила свои статьи и эссе, мужчины-редакторы предлагали «довести материал до кондиции», доработать его в домашних условиях. Однако в таких условиях она не нуждалась. Эвелина сама призвана была диктовать условия.
На самом-то деле она не собиралась тратить свой темперамент «польки» на танцевальные польки по жизни и чьи-то услады. «Попрыгуньей» она не была. И превращать Аркашину судьбу в судьбу доктора Дымова не собиралась. На желанной авансцене она видела себя в роли союзницы-повелительницы, а вовсе не иждивенки. И потому воссоединила свою неконкретную энергию с колдовскими возможностями супруга. Правда, хоть возможности те и были волшебными, он, казалось, оставался солдатом: в звании жена его не повышала. Не ей же было сиять отраженным светом! Напротив, она своим светом проясняла и определяла его судьбу. В их дуэте она, похоже, исполняла ведущую партию. И это не было тщеславным воображением, а стало реальностью: только любовь была «ракето-носительницей» всех Аркашиных медицинских триумфов. Лю-
108
бовь выводила его на такие орбиты, которых без ее помощи он бы никогда не достиг.
Эвелина не возражала против уменьшительного варианта имени мужа: ее это не «уменьшало». Наоборот: он, еврей-умелец Аркаша, выполнял словно бы лишь практическую часть дела... Но возвращать обратно навеки ушедших? Это требовало и одухотворения, озарения медицинских усилий. Озаряла она...
Из тридцати шести лет своей жизни он любил ее, по свидетельству Эвелины, тридцать шесть лет. Если она и преувеличивала, то преувеличение тоже было художественным: близким к действительности. С рождения они жили в одном доме и на одном этаже.
Сначала, чтобы привлечь ее внимание и завоевать восхищение, он научился лучше всех во дворе гонять на трехколесном велосипеде, потом — на двухколесном и заодно — играть в шахматы. Еще поздней (с той же целью!), преодолев заграждения с током высокого антисемитского напряжения, он стал врачом, кандидатом и даже доктором медицинских наук, а там — и профессором. Любовь, похоже, оказывалась мощнее законов тоталитарного государства.
Если Эвелина не становилась свидетельницей его успеха, успех превращался в досаду, в страдание: почему же она не увидела?! Природную застенчивость и физическую неприметность Аркаша возмещал заметностью своих врачебных умений, которые иногда можно было приравнять к дерзким подвигам. Ради кого он те дерзости совершал? Ради пациентов, коих на свете уже не было, но которых он мог вернуть? Или еще более ради того, чтобы она узнала и восхитилась? Сам он, наверное, не сумел бы ответить, сознаться. Нет, он не был равнодушным к своим пациентам и не был тщеславным. Но прежде всего... он был влюбленным.
— Его однолюбие завоевало меня! — сообщала Эвелина, чувствуя потребность объяснить происхождение их «неравного брака».
Ту неравность он стремился компенсировать невообразимостью своей миссии, которую иногда по застенчивости называл просто своей работой (против чего она категорически восставала!).
Квартиру они приобрели в жилищном кооперативе «Мастера сцены». В доме том обитали, главным образом, не мастера сцены, а мастера «на все руки» и на любые действия...
109
которые все больше ощущали себя не хозяевами квартир, а хозяевами жизни: настало их время.
Все, однако, искательно сгибались перед супругой профессора, поскольку «никто не хотел умирать». Правда, женщины разводняли искательность женской завистью, а мужчины сгущали мужским интересом. Кооператив выбрала Эвелина. Она бы даже предпочла, чтобы имя его было — «Мастера авансцены», ибо на авансцене ощущала себя с юных лет. Аркаша вознес ее туда и, казалось, затвердил за нею то место. Несправедливо было бы думать, что Эвелина оказалась «не на своем месте». Она была на своем. Без нее бы Аркаша...
Так как почти в каждой семье нездоровье кого-нибудь и когда-нибудь подводит к самому краю, в спасительном чуде нуждаются все. Разумеется, после спасений о спасителях чаще всего забывают. Но реанимация может понадобиться опять... В том была специфика Аркашиной специальности и особенность отношения к нему — и к супруге его! — тех, кто ни в доме их, ни за его стенами «не хотел умирать».
Когда безносая старуха с косою все же пересиливала умения реаниматолога, Эвелина объясняла это предопределенностями судьбы, от которой, как известно, никуда не уйдешь.
— Мы проиграли этот бой. Но даже Бонапарт не выигрывал все битвы без исключения. Ватерлоо, однако, у нас не будет!
Из полководцев она вспоминала лишь Наполеона и Суворова: они, как и Аркаша, были невысоки ростом.
Так как Аркаша слыл кудесником и среди кардиологов, некоторые «хозяева жизни» мужского пола стали вдруг ощущать сердечные сбои. И устремлялись домой к профессору в те часы, когда дома он наверняка отсутствовал. Они сталкивались лицом к лицу с причиной своих сердечных недомоганий... Эвелина ставила диагноз с порога — и дальше порога никого не пускала. Она внятно давала понять, что болезнь их в ее квартире лечению не подлежит.
— Еще один сердечник нынче нагрянул, — всякий раз с многозначительной иронией ставила она в известность супруга. И он вновь убеждался, что однолюбием своим завоевал ее окончательно.
— Не забывай, что у нас — дуэт... А если один участник дуэта изменяет другому, он изменяет себе, — не без обаятельного кокетства объяснила ему Эвелина.
Аркаша свято верил, что коли зло порождает зло, то и добро порождает добро, а верность — ничего кроме верности.
110
Повода для подозрений быть не могло: он бы не вынес подобного повода. И Эвелина его не давала.
Она рождена была потрясать... Женскими чарами? В том числе... Но не главным образом и на почтительном расстоянии. Почтительном в том смысле, что это должно было вызывать почтение. Ставка на чары превратила бы Эвелину в одну из многих. А «одной из» она быть не могла. Не желала... Кроме того, изменив, она бы унизила их общую миссию.
В доме «мастеров» Эвелина дружила лишь с «мастерицей». То была знаменитая певица, которая давно не только не пела, но и еле передвигалась по квартире, казавшейся чересчур обширной для ее больных ног.
Актеры, испытавшие сладкую каторгу кумиров, с кумирскими повадками обычно не расстаются. В любую пору бытия своего они наркотически прикованы к былой осанке, к давним манерам и к одежде, которая порой чересчур очевидно не соответствует возрасту. Вера же Порфирьевна сдалась годам... Кумиры почти никогда не «теряют форму», она же ее утеряла и не пыталась вернуть. Лишь в памяти сокрылись воспоминания, которые она, не скупясь и не тревожась, что их от этого станет меньше, с удовольствием выволакивала наружу.
Ее ближайшие сподвижники общались с певицей лишь из-под стекол, оберегавших портреты и фотографии. Наблюдая за Верой Порфирьевной — а наблюдала она за всем окружающим снайперски! — Эвелина убеждалась, что и от аплодисментов можно приутомиться. Или делать вид, что такое утомление навалилось.
На долгой дороге певицы ей под ноги кидали не одни букеты, но и сведения счетов, продиктованных завистью. Вера Порфирьевна разумно полагала, что вообще все самое мерзкое сотворяется завистью и что в актерской среде это заметнее, потому что на подмостках вообще все виднее.
— Кое-кого не устраивало, что в опере «Лакме» я брала ноту, до которой другие сопрано не дотягивались. Любить чужой успех умеют не многие. Если речь идет о коллегах. Ну, а все нормальные, сидевшие в зале, хлопали. Верите ли, аплодисменты и сейчас у меня в ушах. Даже в снах моих больше звука, чем действий. Хлопают, хлопают... мне, а, случается, и «по мне». В любых случаях это стало лишь шумом, мешающим спать. Ударов не ощущаю, а только звуки...
Казалось, она была утомлена поклонниками и поклонницами своего голоса не меньше, чем его ненавистниками. Либо все это сумбурно перемешалось... Она любила что-то припоминать, воссоздавать, но не жила минувшим, как это почти непременно
111
бывает с актерами ее возраста. Жила она нынешним... коим были неурядицы и нездоровье ее сына.
— Я устала от поклонов... тем, кто мне поклонялся. Как певице, конечно. А по-женски я была одинока. Аплодисменты, чудилось мне, пытались заглушить одиночество. Я была некрасива... — объявляла Вера Порфирьевна, которой актерский триумф позволял не бояться своих изъянов и даже их афишировать. — Что ж, появлялись некрасивые Розины и Флории Тоски в моем исполнении. Им пылко клялись в любви. Я столько наслышалась этого, что к остальным признаниям как-то и не стремилась. Хотя и они ко мне не стремились...
— Но ведь не в результате же оперных арий родился ваш сын Алеша? — с обаятельной иронией отреагировала Эвелина, пытаясь попридержать столь необычные для женщин саморазоблачения.
Портреты, сцены из опер, воссозданные в фотографиях, подарки, так и оставшиеся подарками, а не ставшие предметами для какого-либо употребления, — все это делало обширную квартиру похожей на театральный музей. Но Вера Порфирьевна хранительницей и гидом этого музея не стала: она жила настоящим.
Эвелина думала, что актриса, как бы не придававшая значения былым триумфам, — ее противоположность и что они притягиваются друг к другу разноименностью своих душевных зарядов: уж она-то от аплодисментов не испытывала бы изнурения и некрасивость (случись такая беда!) сумела бы превратить в неукротимую притягательность.
Сыну певицы было за сорок. Он выглядел статным, но аскетично-болезненным и растерянно-беззащитным. Вера Порфирьевна была из тех матерей, которые держат сыновей «при себе».
Алеша ни разу еще не женился, да и вряд ли бы это было возможно.
— Великовозрастный маменькин сынок! — говорила Эвелина Аркаше. — У нас с тобой нет детей... И я об этом не сожалею: наша миссия не терпит каких-либо отвлечений! Но к нему, представь, я испытываю некие материнские чувства. Что, однако, он станет делать потом... без нее? Аркаша, Алеша... Есть что-то сходное. Но как же вы не похожи в жизни! Ты, хоть и сутулишься, — воин, борец, победитель самой смерти, а он — безвольный маменькин сынок, хоть и велик ростом. Что он будет делать без мамы?
Пока же Алеша пел... Вера Порфирьевна считала, что у него редкий драматический тенор.
112
— Да и сам по себе этот тенор — чрезвычайная редкость! Лирических теноров — хоть пруд пруди... — разъясняла Вера Порфирьевна, ощущая, видимо, в тенорах «лирических» соперников «драматических». Ей было приятно, что сын тоже обладает какой-то незаурядностью. — Вот видите, Эвелиночка, на этой фотографии сцена из «Пиковой дамы». Герман — драматический тенор... А здесь — кульминация «Тоски». Каварадосси — тоже драматический... И несчастный полководец — победитель Радамес из «Аиды»! Алеша бы вполне мог петь того, и другого, и третьего. Но поет в хоре. Ему не прощают... меня. Хотя, может, и лучше, что он — с его больным сердцем — в хоре: если, не дай Бог, станет плохо, скроется за чьей-то спиной. Да и выдержать концентрированное внимание всего зала ему нелегко. А если со мной что случится? Я очень надеюсь на вас и Аркашу. Очень... Алеша ведь не только тенор драматический, а и сам — драматическая история. Наследственный порок сердца. Но это и единственный Алешин порок. Уж поверьте! Отца нет и не было. Зато появились вы с Аркашей.
Эвелина готова была ощущать себя матерью. Аркаша, как обычно, присоединился к ней — и стал ощущать себя папой.
Иногда хорист, согласно указаниям Веры Порфирьевны, в домашней обстановке все же солировал. Фотографии знаменитых обязывали его «соответствовать». И, по мнению матери, он полностью соответствовал. Исполнял Алеша те арии, которые ему не удавалось исполнить в театре.
— Похож на отца, хотя тот и далек от музыки. Я-то красивой никогда не была... — в который раз объявляла Вера Порфирьевна.
В отличие от своих коллег пенсионного возраста, она не стремилась быть в «форме», вероятно, по причине былой женской невостребованности.
«Каким же был ее театральный успех, если он позволял ей и позволяет не придавать значение внешности!» — вновь изумлялась Эвелина.
Певица отбрасывала свою немощь и забывала о собственных хворях, если нужно было что-то сделать для сына: подать ему завтрак или приготовить обед, постирать рубашки или погладить фрак.
— Не могу взваливать на него домашние тяготы: отец оставил ему на память больное сердце. Алешу надо опекать, ограждать... от любых перенапряжений и тяжестей. Физических и душевных! Ему нельзя.
113
«Вот почему она из всего дома и выбрала для дружбы нашу кардиологическую семью!» — сообразила Эвелина.
Перестройка заставила и Веру Порфирьевну перестроиться: отказаться от приходящих прислуг, которые сопровождали ее всю жизнь.
— Пришлось... по материальным соображениям, — вслух огорчалась певица, привыкшая ничего не утаивать. — Не думала, что такие соображения возникнут в моей жизни! Перестраивать все под старость.
Эвелине и Аркаше перестраиваться не пришлось: «никто не хотел умирать» как и прежде, до перестройки. «Дуэт» не зависел от политических катаклизмов. Плодами такой независимости Эвелина делилась с домом певицы. Главным образом это касалось лекарств, которые не имели права дорожать, но, как и все кругом, человеческие права нарушали.
Иногда, вернувшись с верхнего этажа, Эвелина женственно, как бы не всерьез, гневалась:
— Полководец Радамес до того привык быть под юбкой у мамы, что ничего не умеет. Совершенно ничего! Его и в магазин-то нельзя послать: или потеряет кошелек, или его вытащат, или он принесет не то, что просили... Пора бы уж вылезти из-под маминой юбки. А пока нам придется его опекать! Не могу видеть, как мать, спотыкаясь, выбиваясь из сил, обслуживает... этого Каварадосси!
— У него слабое сердце. Но все равно надо бы его немного встряхнуть... раз ты так считаешь, — согласился Аркаша: — Я не Песталоцци и не Ушинский! Но попытаюсь... Ради Веры Порфирьевны. «Не пора ли мужчиною стать?»
Вера Порфирьевна жила в кооперативе «Мастера сцены», а после установления дружественных отношений с семьей Гранкиных стала отдыхать иногда в пансионате «Ветераны сцены». Ветераны, которых туда допускали, и были по совместительству увядшими мастерами.
Так как Алеша ни ветераном, ни мастером не считался, мать оставляла его на попечении супругов с нижнего этажа.
На этот раз певица предупредила:
— Поверьте, я позволяю себе уехать только потому, что надеюсь на вас обоих. Мне необходимо, как говорится, «собрать последние силы». У Алеши тоже сильно барахлит сердце. Но мое сердце от соседства с вами чуть-чуть успокоилось: у него «личный врач» в профессорском звании! Раньше, в молодости, и у меня был такой... От него родился Алеша.
Уже дома, этажом ниже, Эвелина слегка посетовала:
114
— Если у маменькиного сынка как раз сейчас ощутимо забарахлило сердце... сколько же у нас с ним будет забот!
— Вера Порфирьевна — в какой-то степени гордость отечественного искусства, — сказал Аркаша. — Поэтому наш «скорбный труд не пропадет»: послужим отечественной гордости.
— Да уж... если б не «гордость», я бы, честно сказать, не взялась!
— Хоть голос и у него есть, — во имя справедливости добавил Аркаша. — Очень приятный голос... Так что послужим!
Служить в основном пришлось Эвелине.
Вернувшись домой после очередной схватки с безносой своей оппоненткой и очередного ее поражения, Аркаша прилег на диван. Как часто бывало в подобных случаях, он ждал звонков из больницы и готов был в любой момент вернуться туда: мало ли что?!
Звонок раздался... Но в дверь. А вслед за ним, сразу же, в замке поспешно и потому неловко заелозил ключ.
— Совсем забыла, что ключ у меня... И стала звонить... Потому что он погибает! — с порога выкрикнула Эвелина.
— Кто?
— Сын Веры Порфирьевны... Маменькин сынок... Но маменьки нет. Мы с тобой за него в ответе! — Аркаша уловил в ее голосе не только ужас, но и виноватость, которой прежде никогда не улавливал. И которая была ей не свойственна. — Теперь только ты можешь... Один ты! Скорее... Умоляю, скорее!..
— Так плохо?
— Он погибает. Я чувствую! Она ведь предупреждала... Аркаша схватил вместительный профессорский чемодан с инструментами, который постоянно, как и он сам, был начеку.
Пульс, который Аркаша ловил, не откликнулся.
— Позвони, пожалуйста, и вызови бригаду, — попросил он жену.
Наступил момент, когда его просьбы должны были выполняться неукоснительно и моментально. Эвелина схватила трубку. Муж ее уже не был Аркашей, а был колдуном и спасателем.
Алеша лежал в постели. Спасатель отбросил одеяло. Алеша был голым... Спасатель хотел привычно и удобно для себя пристроить чемодан на стуле, возле постели.
115
Внезапно и его пульс... затаился. На стуле со знакомой ему аккуратностью были сложены колготки жены. Он не мог спутать их ни с какими другими: сам выбирал тот узор в дальнем зарубежном городе. И купил сразу три пары. Эвелина, заявив, что такой красы ее ноги еще не знали, добавила тогда: «И хорошо, что все с одинаковым узором: у ног тоже должен быть свой стиль! Жаль только, что все три одного цвета».
Воспоминания, в отличие от колготок, могут менять окраску... в зависимости от обстоятельств, в которых они возникают. Но произошло еще более невероятное, чем потрясение от колготок жены возле чужой постели: спасатель вмиг отринул воспоминания и вообще перестал реагировать на то, что увидел... Каждым движением мыслей и рук он принадлежал чужой жизни. И был обязан спасать ее, чья бы она ни была.
— Пусть завершат, — сказал он жене, кивнув на примчавшуюся по его зову «бригаду». — И сама побудь здесь.
Эвелина уже не отрывалась от стула, на который панически бухнулась, разом утеряв и владыческие черты и женственность: она, хоть и запоздало, но тоже приметила на стуле свои колготки. Чудо, которое совершил ее муж, переплелось с сюжетом, на первый взгляд мелким, трагикомическим. А может, трагическим. Страшным.
Спасатель, ставший спасителем, вернулся на свой этаж.
«Какое перенапряжение испытал маменькин сынок?.. И разве то, что он привык быть под юбкой у матери, означало, что, в отсутствие ее, должен был оказаться под юбкой моей жены? «Не пора ли мужчиною стать!» — сказала Эвелина. И, может, опекая, научила его быть мужчиной? Под кожу, под золото... Под верность в «дуэте»... Неужели и это была имитация?» Он мог бы задать себе мысленно все эти вопросы. Но и мысленно их не задал.
«Когда спасаешь чью-то жизнь, не думай, кому она принадлежит: это не имеет значения. Но если отдаешь свою жизнь, подумай, кому...» Он мог бы запоздало это себе посоветовать. Но не посоветовал, разумеется.
Он, который только что, этажом выше, сумел сконцентрировать в себе колдовскую силу воли и разума, теперь, этажом ниже, лишился вдруг даже силы обыкновенной. «Никто не хотел умирать...» А он хотел. И начинал умирать. И не искал спасения...
116
ИВ МОНТАН, СЕРГЕЙ ОБРАЗЦОВ, ДЖОН СТЕЙНБЕК
И ИХ «БОЕВЫЕ ПОДРУГИ»
Из блокнота
О роли жен в судьбе великих и выдающихся деятелей искусства написано много. Порой эта роль была бесценной, вписывалась златыми буквами в историю литературы, музыки, живописи. Не говорю уж о Софье Андреевне Толстой... Или об Анне Григорьевне Достоевской... Или о Кларе Вик, супруге и сподвижнице Шумана, продолжавшей своим фортепианным мастерством его жизнь. Не говорю уж... Не говоря, говорю!
Но спущусь с заоблачных примеров к более земным — к тем, кои наблюдал своими глазами.
Порой общение выдающегося с «боевой подругой» (простите за столь приземленный и ультранашенский термин!) весомо проявляется в случаях вроде бы не очень весомых: и малая деталь обнажает иногда масштабную суть.
Вот и обратимся к не столь глобальным — хотя и весьма значительным! — фигурам. К фактам на первый взгляд обиходным. Но, как говорится, красноречивым. Итак, разные люди, разные жены, разные случаи... Но что-то есть и такое, что позволило мне объединить их в одной, общей главе. Что-то такое есть...
Сергея Владимировича Образцова я знал и любил с детства. Хоть и издалека: он был на сцене, а я — в одном из последних рядов зрительного зала. Отца моего репрессировали — и средств на концерты и театры у мамы, работавшей стенографисткой, естественно, не хватало. Но в канун «всенародных» торжеств — под 1 Мая, 7 Ноября, 8 Марта — солидное мамино учреждение непременно устраивало предпраздничные вечера: первое отделение — торжественное (патриотические заклинания в форме докладов и речей), а вторая часть — «художественная», то есть концерт. Одним из главных любимцев публики (и моим тоже!) был Сергей Образцов. Он сам, без помощи рабочего сцены, выносил ширму, старательно устанавливал ее и за нею скрывался. Зато появлялись куклы... Благодаря рукам и голосу Образцова, они становились персонажами известных романсов: встречались, влюблялись, изменяли, расставались, страдали... Чаще всего человеческие страсти воплощались животными (собаками, кошками). Публика и я вместе с ней ликовали. Особенно мне нравился романс «Вернись, я все прощу!», героями которого
117
были два пса разумеется, разнополых. На концертных выступлениях Образцова голос его предварялся и сопровождался аккомпанементом. Тихая, застенчивая женщина присаживалась за рояль... И каждым своим движением подчеркивала, что она — лишь «музыкальное сопровождение». Позже — гораздо позже! — я узнал, что в быту Сергей Владимирович представлял ее всегда одинаково: «Моя постоянная жена и мой постоянный аккомпанемент!»
Иногда мама доставала и дешевые билеты на утренние спектакли кукольного театра. Я являлся как бы в гости к Сергею Владимировичу. То были для меня дни и часы блаженства неизъяснимого. Думал ли я о том, мог ли вообразить, что когда-нибудь стану другом Сергея Образцова и даже удостоюсь соседствовать с ним в одном дачном поселке Внуково под Москвой!
Образцов был из племени благородных фанатиков своего искусства. Пишу «своего», потому что важнее и выше кукол для него ничего не было. Служение одной цели укрепляет, я заметил, не только духовный, но и физический организм: он не раздваивается, не разрывается, не раздергивается, а предельно концентрируется, как и стремления его обладателя. Здоровье Образцова представлялось мне богатырским... По крайней мере, когда мы с Михаилом Ульяновым изнывали на Кубе от влажности и жары, Сергей Владимирович, не защищаясь ни панамой, ни сомбреро, ни очками с успокоительно-зелеными стеклами, сам успокаивал «делегацию деятелей культуры»:
— Превосходный климат! Недаром Хемингуэй, как правило, творил именно здесь... И я тоже замечательно себя ощущаю!
Под этим освежающим словесным душем и мы начинали комфортнее себя ощущать.
Но все-таки чаще мы с ним встречались не на «острове свободы», а в нашем дачном поселке. Там, во Внуково, Образцов мне первому читал свои мемуары «По ступеням памяти». Пройдясь с ним вместе по этим ступеням, я отнес мемуары главному редактору журнала «Новый мир» — и вскоре они были опубликованы.
Когда Сергей Владимирович читал, чуть поодаль присела та самая женщина, что когда-то беззвучно присаживалась за рояль. Тогда фамилия аккомпаниаторши, которую объявляли модные в ту пору конферансье, заглушалась предварительной овацией в честь ее знаменитого мужа. Думается, под аплоди-
118
сменты прошла вся его жизнь... И он это заслужил: создать лучший на свете (бесспорно, лучший!) кукольный театр, да и вообще поднять, возвысить кукловодство до уровня общепризнанного искусства, и искусства высокого, — это ли не заслуга! Ну, а «боевая подруга» в моем присутствии была преданной, но не была «боевой». Кое-кто удивлялся по этому поводу и разъяснял:
— Самых «результативных» видов оружия, случается, глазом не разглядишь. Они проявляют себя только при взрыве! Как динамит, как мина замедленного действия...
При мне Ольга Александровна не взрывалась. И я не поверил ушам своим, когда узнал, что в театре ее кое-кто именовал «гиеной огненной». Правда, полушепотом и в полушутку. Оказывается, она была «огненной» в своей постоянной — хотя и абсолютно молчаливой — готовности отстаивать интересы супруга... что коллектив, мне сказали, «чувствовал кожей» (кожей, как в любом театре, чересчур тонкой и восприимчивой!). Но так как образцовские интересы и без нее были прочно защищены популярностью и положением непререкаемого авторитета, огненность свою Ольге Александровне, кажется, всерьез, в открытую не пришлось проявить почти ни разу.
Помню, слушая мемуары, я неожиданно открыл для себя, что Сергей Владимирович, оказывается, почитал супермастеров самых различных жанров и видов искусства. Но исключительно — «супер»! Это была та супервзыскательность, на которую он имел право. Хотя куклы для него оставались на авансцене... Они были превыше всего!
По-настоящему же я понял и оценил человеческое и гражданское достоинство Образцова не в результате его спектаклей, наших загородных бесед и знакомства с мемуарами, а когда весь мир услышал его прощальное слово, обращенное к Соломону Михоэлсу. Оно было произнесено скорбью души.
Образцов являл собой образец... Истого интеллигента, презиравшего плебеев духа, а среди них черносотенцев — с особой непримиримостью.
— Сталина я всегда ненавидел, — сказал Образцов в те дни, когда миллионы надрывно прощались с «отцом и мучителем». — Даже иные уважаемые мною люди — очень уважаемые! — клянутся, что верили ему. Не верю, что верили... Или уж страх вовсе лишил разума!
На кремлевских концертах вождь обычно то ли просил, то ли приказывал Образцову исполнять Хабанеру из оперы «Кармен».
— И аплодировал... Даже иногда просил повторить «на
119
бис», — рассказывал Сергей Владимирович. — Кукла, «исполнявшая» роль Кармен, уж очень была впечатляющей...
Правда, после концертов Образцова, как и всех остальных исполнителей первой величины, усаживали обедать за один стол с... кремлевской обслугой.
— Я неизменно отказывался, ссылаясь на особую диету, — с брезгливостью вспоминал Сергей Владимирович.
Уже после смерти Сталина, но еще до его развенчания, еще до официальной реабилитации еврейских мучеников — и убиенных, и томившихся в аду лагерей — Образцов, помню, сказал:
— Мое рыдание по Михоэлсу пять лет назад заглушить не удалось. Это уж после властители дошли до такого безумия, что и его объявили... международным агентом. Подобного злодейства и подобного бреда не знала история.
Человек он был достойный и гордый. Знавший себе цену!
...Думаю, многие помнят, что Ива Монтана первым приметил в Париже и восславил в Москве Сергей Образцов. А потом привез его в Москву вместе с Симоной Синьере. Тогда он ценил Монтана прежде всего как певца, а Симону как драматическую актрису.
И вот в Центральном Доме литераторов устроили монтановский «творческий вечер». Если обратиться к Крылову и его знаменитой басне, можно сказать: то была перелившаяся через все края «демьянова уха». Совсем недавно приподнятый Хрущевым «железный занавес» и пьянящее ощущение «оттепели» одурманили членов совета Дома литераторов. А в совет входили не только администраторы, но и прославленные мастера слова, законодатели художественного вкуса, который в тот вечер им изменил.
Ива Монтана и его супругу Симону Синьере встретили восторженным шквалом. Источником той влюбленности были в основном словесные и печатные панегирики Сергея Владимировича. Образцов открыл встречу... Но к дальнейшему — и его тоже ошеломившему действу — отношения не имел.
Руководители Дома литераторов замыслили, чтобы вечер имел, так сказать, увертюру и чтобы та увертюра стала для Монтана и его супруги сюрпризом, роскошным подарком. Подарок как раз и оказался крыловской «ухой». Устроители перестарались: они решили предварить эстрадное, бардовское пение Ива выступлениями суперзвезд Большого театра. Первыми выступили Надежда Андреевна Обухова, потрясавшая залы своим густым, до последнего дня ее жизни не состарившимся
120
меццо, и Иван Петров, сотрясавший басом не только слушателей, но, казалось, и хрустальную люстру под потолком. Благодарный шквал превзошел тот, которым были встречены гости. Супруга Ива Монтана восприняла это неприязненно... Своим заостренно-наблюдательным умом она сразу же осознала, что все в тот вечер было антиподно жанру и даже внешнему облику ее мужа. Он явился в белом свитере, без галстука, с распахнутым воротом... Обухова же сверкала неповторимостью не только своего меццо, но и драгоценностей, прильнувших к запястьям, ушам и шее. Иван Петров был, соответственно, облачен во фрак и изысканную рубашку с бабочкой. Монтан ничему этому не придал значения: хлопал взахлеб (в отличие от супруги, ладони которой ни на миг не соприкоснулись друг с другом!). По окончании «увертюры» Ив сразу же, с детской непосредственностью ринулся отблагодаривать своим микрофонным пением оперную приму и оперного премьера. Симона осадила его, ухватившись за рифленый край белого свитера. Ив вырвался... Она вновь ухватилась.
Эта сцена, походившая на комедийный кинокадр, продолжалась довольно долго: он хватался за микрофон, а она — за его свитер. Он устремлялся в одну сторону, а она властно тянула в другую. Полного матриархата в семье не было: Ив Симоне не подчинялся на глазах у затаившегося зала. В советском государстве такие экспромтные, незапланированные противостояния были не приняты. Кроме всего прочего, Симона Синьере демонстративно противостояла не только своему супругу, но и устроителям, которые как бы представляли страну-хозяйку. А это уже, по тем временам, придавало конфликту характер международно-политический.
В конце концов Ив отодвинул микрофон подальше от своей «боевой подруги» и кивнул не столь «боевой» подруге Сергея Образцова. Ольга Александровна робко присела за рояль, тронула клавиши — и Монтан с нарочитой уверенностью запел. А Симона с нарочитой решительностью выскочила из кресла и — в зимний московский мороз! — помчалась на улицу.
Холодная (в буквальном смысле!) «война» боевой подруги с Центральным Домом литераторов заставила похолодеть устроителей (назревал «международный скандал»!). Они, администраторы и литераторы, — тоже позабыв о своих меховых шапках и шубах, — устремились за высокопоставленной и своенравной гостьей. А та забилась в глубь автомашины марки ЗИЛ, престижной в те годы. Они пытались решить конфликт мирным путем — «Извините, если что не так!», «Мы уверены, что все жанры прекрасны...» Но нет, «боевая подруга» отка-
121
зывалась от компромисса. Актерское реноме мужа было для нее гораздо дороже, чем для него самого.
Трепетно и торжественно вынесли норковую шубку Симоны. Она раздраженно накинула ее, все еще негодуя. И ЗИЛ не покинула. В зале же Ив выразительно-миролюбивыми жестами дал понять, что не стоит преувеличивать — и исполнил от начала до конца то, что и намеревался исполнить. Ольга Александровна — послушная, с виду не боевая «боевая подруга» — квалифицированно, хотя и смущенно сопровождала его голос.
В результате устроители, я полагаю, в тот вечер сообразили, что гостеприимство призвано быть не только безграничным, но и тактичным. И еще, думаю, поняли, что, приглашая «звезд» вместе со спутницами жизни, следует заранее выяснить степень боевитости сих «боевых подруг».
Ив Монтан умер лет семидесяти. Про одного из скончавшихся Оскар Уайльд жестко, а может, и жестоко сказал: «То, что он умер, еще вовсе не значит, что он жил». Ив Монтан жил! Значительно, как большой художник, и доверчиво, как ребенок. Последние его слова были такими: «Я прожил счастливую жизнь и расстаюсь с ней без сожаления...» Это не значит, что без сожаления он расставался и с Симоной: она гораздо раньше ушла из его жизни, а потом из своей.
Однажды (жанр воспоминаний то и дело натыкается на слова «однажды», «как-то», «как сейчас помню»!) мне позвонили из иностранной комиссии Союза писателей СССР и попросили быть как бы «принимающим» американского писателя Джона Стейнбека и его жены. Я согласился, потому что «Гроздья гнева», да и другие романы Стейнбека не только читал, но и почитал.
...Лицо его было бурым, как у сильно пьющего человека, а волосы белыми, без каких-либо нюансов и оттенков, как у человека много повидавшего и исстрадавшегося. Он и был сильно пьющим, он и был много испытавшим... Что он говорил? Нелегко припомнить. В основном за него говорила жена.
В Москве Стейнбек пробыл всего несколько дней.
— Он приехал, чтобы повидать Петербург, — сообщила жена, хотя тогда еще город именовался Ленинградом. И в широчайшей американской улыбке обнажила свои по-голливудски безупречные зубы. Улыбка сопровождала все ее фразы — и восторженные (их было мало), и благодарные (их было по-
122
больше), и скептично-насмешливые, которыми изобиловала ее речь.
А у Джона была толстая, отполированная временем палка... Он укладывал на ее набалдашник свою мощную бело-бурую голову и взирал на мир исподлобья, но в упор, не моргая, — мудрыми, все понимающими собачьими глазами. В них редко возникало удивление: казалось, он все уже видел... или представлял себе. Зато жена изумлялась — как правило, негативно! — за них обоих.
Во Дворце школьников ее прежде всего изумило, что всего-навсего двухэтажное здание называлось «дворцом».
— Стейнбеку сложно это понять: он реалист, — заявила она, словно переводчица его мыслей. Хотя в глазах писателя никаких недоумений не наблюдалось.
Позднее ее поразило, что директорша Дворца полчаса рассказывала нам о том, что делается, что происходит в двухэтажном здании:
— Стейнбек не любит, когда рассказывают про то, что ему самому предстоит увидеть.
Войдя в «клуб путешественников», она была ошарашена тем, что можно путешествовать... в комнате.
— Стейнбек предпочитает приключения даже не на земле, где ему тесно, а в океане.
Я пояснил, что в комнате путешествия лишь планируются и организуются. Она пропустила это мимо ушей.
Услышав про литературный кружок, жена пожала своими оголенными и потому весьма «красноречивыми» плечами, которые то и дело выражали ее настроение и были, думаю, минимум на четверть века моложе плечей писателя, сокрытых от нас ковбойской рубашкой:
— Стейнбек не поймет, как это можно сочинять стихи в «кружке»... или в квадрате, или в прямоугольнике.
Она казалась еще и переводчицей-предсказательницей: ей было ведомо не только то, что он думает, но и то, о чем может помыслить. По ее словам, Стейнбек намерен был еще более удивиться, узнав, что «в кружках» можно петь и танцевать:
— Он считает, что для этого нужен простор!
Мне стало обидно за детский хор, побывавший с успехом, кажется, почти на всех континентах, и за танцевальный ансамбль, триумфально проплясавший по десяткам цивилизованных стран. Я объяснил, что «кружок» — это в данном случае некое условное обозначение, к геометрии отношения не имеющее. И что вечером они оба увидят, услышат... И убедятся!
123
Они увидели, услышали — и жена сказала:
— Стейнбек в полном восторге.
Даже ее скепсис вынужден был отступить.
А голова его и мудрый собачий взгляд продолжали тяжело покоиться на отполированной годами палке. Взгляд оживился, пожалуй, только в «живом уголке». Хотя писателя, согласно сообщению его жены, шокировало слово «уголок», относящееся к погруженному в зелень пространству, где вольно насвистывали, летали и бегали, прыгали и ползали разноперые, разноцветные, разноголосые «представители животного мира», как выразился экскурсовод.
— Джон Стейнбек любит животных? — традиционно поинтересовался экскурсовод.
— Больше всех он любит своего сына. А сын больше всего любит животных! — уже от самой себя оповестила жена.
И тут, помню, писатель оторвался от палки и с внезапной заинтересованностью спросил меня:
— У вас есть какая-нибудь «обобщающая» строка о любви? Такая должна быть у каждого писателя.
Почему-то этот вопрос возник в живом уголке. Слово «обобщающая» Стейнбек тоном своим заключил в кавычки.
— «Всякая любовь хороша уже тем, что она непременно проходит...» — процитировал я своего персонажа, тоном подчеркнув ироничность фразы.
Стейнбек, еще резче оторвавшись от палки и зажав ее между коленями, захлопал:
— Точное наблюдение! Но это не касается любви к детям. И я вспомнил, что о посещении Дворца школьников, то есть о встрече с детьми, он попросил сам.
Жене цитата из моей повести понравилась несколько меньше или даже вовсе пришлась не по вкусу — и я понял: она хочет, чтобы писатель Стейнбек любил ее вечно. Но она тут же, не без еле заметного упрека, вновь поведала нам, как Джон Стейнбек более всего привязан к своему сыну. Именно к «своему», а не к «нашему». Я даже заподозрил, что это сын от другого брака. Но не исключено, что я заблуждался...
А вскоре Стейнбек был объявлен идеологическим недругом. Началась война во Вьетнаме... Столкнулись не только Юг и Север загадочной азиатской страны, но и две сверхдержавы. Джон Стейнбек, воспряв, капитально оторвавшись от набалдашника своей палки, уже не устами жены, а собственным голосом и собственным пером поддержал ту супердержаву, гражданином которой он был. И как бы одобрил участие ее войск в битве на столь далеких от США территориях. Сын его —
124
тот самый «самый любимый» — был призван в армию и отправлен на фронт. Стейнбек тоже полетел туда, вслед за сыном, чтобы ободрить его и американских солдат. Ободрил... Но это не спасло сына. Стейнбек пережил его не намного. А точнее, не пережил...
ПОД КЛИЧКОЙ «ЧАН КАЙШИ»
Из блокнота
Говорят, один из вернейших признаков склероза — детально помнить то, что было в далеком детстве, и не помнить того, что было вчера.
Не думаю, однако, что мое воспоминание о первой встрече с кинозвездой тридцатых годов Зоей Федоровой — примета склеротических изменений. Хоть мне тогда было лет десять, не более, а память тем не менее сберегла то короткое видение ультразнаменитости во всех подробностях и деталях... Скорей всего, это результат не склероза, а поразительной в ту пору популярности киноактрисы. Их, достигших на экранах звездных высот, у нас было всего-то три: Любовь Орлова, Ладынина и Федорова. Первая являла собой, как западные примы, талант синтетический: играла, пела, танцевала, плясала, умела с безупречным американским акцентом говорить по-русски в картине «Цирк»... И вообще владела всем, чем должна владеть на экране чаровница, покорительница, мечта миллионов. Вторая овладела искусством достоверно изображать недостоверное, искусно преподносить нищенскую долю русских крестьянок того времени как зажиточную, ослепительно счастливую и тоже погруженную в песенно-плясовую стихию. А третья — Зоя Федорова — была актрисой более реалистического направления: ее городские труженицы и «подруги» не ликовали и редко кидались в пляс, а жили своими повседневными надеждами и конфликтами. Исключением была лишь триумфальная история «Музыкальной истории»...
В тот памятный для моего детства вечер Зоя была космически далека от заводского и фабричного труда, от опасных фронтовых буден. Но чем дальше «звезды» от обычного земного бытия, тем более они потрясают поклонников и поклонниц.
Люди тогда одевались невзрачно, были не очень сыты и крайне непритязательны, но роскошное, ослепляющее явление звезды никого не раздражало, ни у кого не вызывало зависти. Она вышла из кинотеатра «Художественный», что на Арбатской площади, в полураспахнутой норковой шубке. Просвет
125
между голубоватыми «полами» шубы обнаруживал сверкавшие и переливавшиеся под светом фонарей и прожекторами кинохроники драгоценности, не достижимые ни для кого из зрителей в неоглядно-восторженной толпе, что вывалила на площадь после премьеры «Музыкальной истории».
Зрители были в состоянии экстаза: они жаждали услышать голос Федоровой, которая произносила одно лишь слово «Благодарю!», пытались разглядеть ее, дотронуться до ее шубки. А самые дерзкие посягали и на автограф.
...Не только от любви до ненависти и, соответственно, от ненависти до любви, но и от высочайшего взлета до катастрофического падения — один шаг. В середине сороковых я услышал, что Зоя Федорова была арестована, приговорена к длительному, а по сути — пожизненному заключению. Что вдруг случилось? Актрисы — любимицы Гитлера кривлялись и дрыгали ногами в фильмах, полученных в качестве кинорепараций, а любимица народа-победителя томилась в кутузке. Иррациональное государство все допускало, но это казалось уж чересчур несообразным, диким даже для страны Советов сталинских времен.
А в 1958-59 годах на студии «Молдова-фильм» по моему сценарию снимали картину «Я к вам пишу...».
В главной роли молодой бездельницы, обретающей под благотворным влиянием любви верную дорогу, выступила одаренная актриса Микаэлла Дроздовская, карьера и судьба которой были короткими и драматичными. А роль ее мамаши-обывательницы исполнила с комедийным блеском Зоя Федорова.
Никак не мог я себе представить, вообразить, что рядом со мной та самая «звезда», о встрече с которой грезили, к которой когда-то мечтали притронуться, звук голоса которой стремились уловить. Талант, независимость, сильный характер остались... Осталось и осознание собственной значимости, поскольку пушкинское «ты сам свой высший суд» относится не только к поэтам, но и художникам вообще.
Когда фильм мой был снят, начались его премьеры или, как теперь говорят, презентации. Столичная премьера состоялась на площади Пушкина в кинотеатре «Центральный»... А затем как «парад интернационализма» начались показы российской картины молдавского производства в разных союзных и автономных республиках.
Особенно запомнилась мне премьера в Казани, потому что именно там, ночью, в гостиничном номере, состоялся незабываемый для меня разговор с Зоей Федоровой... Много написа-
126
но о перипетиях ее судьбы. Но я поведаю о них со слов самой Зои.
До той ночи мне многое было известно о сталинских застенках. Ведь именно там вырывали ногти на руках и ногах моему отцу, пытали его всеми иезуитскими способами, по многу суток кормили селедкой, а пить не давали, неделями не разрешали спать... И уж если он, человек несгибаемый, признался в своей «шпионской деятельности» — значит, не признаться было невозможно. Или почти невозможно... Так что удивить меня повествованиями о тех застенках весьма сложно. Но Зоя-то Федорова была любимицей народа (без всяких кавычек!). Была женщиной, была матерью... Это как бы окрашивало ее драму и ее истязателей в тона особого изуверства, особого цинизма, особой беспощадности.
Иные, не пережившие, к их счастью, сталинскую эпоху или пережившие, но случайно не попавшие в эпицентр кошмара, полагают, что репрессиям подвергались лишь наркомы, штатские и воинские начальники, партийные функционеры или, уж по крайней мере, интеллигенты. Так вот... Через стенку, по соседству с камерой отца, томились... десятиклассники, дети. У них в школе был топографический кружок, они рисовали карты, а в километрах двадцати от школы находился аэродром — и детей обвинили в шпионаже. Десятиклассники получили по десять лет тюремного заключения (с учетом юного возраста, а то бы...). Не щадили не только интеллигентов (их, я думаю, в первую очередь!), но и рабочих, колхозников — и вообще никого не щадили. Вот и отец Зои Федоровой, потомственный пролетарий, рабочий Путиловского завода, тоже был арестован... за контрреволюцию.
И вдруг, на одном из правительственных приемов, к кинозвезде с бокалом подошел Берия:
— Давайте выпьем за то, что справедливость у нас всегда побеждает: вашего отца мы оправдали — и он завтра будет уже дома. А клеветникам воздадим по заслугам!
— Как мне вас благодарить?!
— Благодарить не надо... А если придете на семейный ужин в честь моего дня рождения — это будет подарком!
Таким примерно был разговор.
В день рождения того, кто лучше бы не рождался, Зоя посетила все салоны, которые способны сделать красивую женщину еще красивее, элегантнее и моложе: парикмахерский, косметический, даже физиотерапевтический... Купила сервиз (торжество-то семейное!), цветы — и явилась в особняк, что на углу улицы Качалова и Вспольного переулка.
127
«Легендарный» ныне полковник Саркисов, встретив ее, сказал, что ослеплен видением «звезды» на таком близком расстоянии. И привел Зою в одну из бесчисленных комнат, в которых дворцовость сочеталась со служебной казенностью. Стол был накрыт по-царски: она ведь и звана была ко владыке. Удивило только, что на семейном празднике никого из семьи не было. Может, рано пришла?
Словно желая показать, что она не поторопилась, явился «новорожденный».
— Ваш отец уже дома?
— Дома! Звонил из Ленинграда... Как вас благодарить?!
— Давайте выпьем за товарища Сталина, для которого главное — это человек. Особенно русский человек и рабочий человек!
Потом пили за день рождения, до которого, как оказалось, было еще далеко. И за советское искусство в целом... И персонально — тут Берия потребовал пить из хрустального рога! — за «звезду на небосклоне киноискусства, которая видна и известна каждому».
После этого Берия расстегнул китель, обнажив свою непроглядно-волосатую грудь, и полез целоваться.
— Я бы, может, и не решилась отвергнуть его, — призналась Зоя, — но в хрустальный рог, я думаю, что-то было подмешано. Да рог и без того был вместителен... Одним словом, я Лаврентия Павловича оттолкнула. И с такой силой, что пенсне не удержалось у него на носу. Что, мне кажется, особенно унизило его и оскорбило...
Побелев, Берия произнес фразу, которую Зоя разгадывала потом много лет, но разгадать не сумела: «Что ты вырядилась, как львовская обезьянка?»
— Почему львовская? — недоуменно спрашивала она в ту ночь у меня. — Разве во Львове обезьяний питомник? По-моему, он в Сухуми.
Под влиянием спиртного Зоя осмелела до такой степени, что со злостью ответила:
— Я — обезьянка?.. А вы на себя посмотрите! — и указала на просвет в распахнутом кителе. — Вы же на гориллу похожи!
Властная ярость исказила и без того иезуитски заостренное лицо. Берия надавил на кнопку. И приказал Саркисову, явившемуся столь мгновенно, будто он подслушивал под дверью:
— Уведите!..
«Я, сразу отрезвев, с ужасающей ясностью и неотвратимостью осознала, что жизнь моя кончена», — сказала мне Зоя.
128
Садясь в поджидавший ее у входа лимузин, она заметила на заднем сиденье роскошный букет.
— Это кому?
— Это на гроб покойнику, — ответил полковник.
Зоя была беременна. Она ждала ребенка от военно-морского атташе американского посольства в Москве. Так что повод для расправы, для сатанинской мести и отыскивать было не надо.
— Часами гуляя по вечерам, как все беременные женщины, я непрерывно ощущала, что за мной идут, следуют...
А потом родилась дочь Виктория. И когда ей исполнилось одиннадцать месяцев, Зою арестовали. Таким стало для нее «счастье материнства».
Доставили кинозвезду на Лубянку. И сразу же отправили в баню. Таков был порядок... Будто хотели, чтобы она смыла с себя все, чем жила прежде, все признаки былого.
— Накрутила я волосы на бумажки... Погрузила меня надзирательница в полосатый арестантский халат. И тут же, без промедления, с бумажками в волосах отвели в кабинет к... министру государственной безопасности Абакумову. Этого я никогда не забуду! Он полуразвалился в кресле во главе длиннющего стола с традиционным зеленым сукном, прямо под портретами создателей и продолжателей марксистско-ленинского учения. А по обеим сторонам стола восседали холеные генералы.
Взглянув на кинозвезду с бумажками и в полосатом халате, Абакумов произнес:
— И это страшилище я хотел трахнуть!..
Генералы по-жеребячьи заржали.
— Прямо на виду у четырех портретов! Представляешь себе? — уже в который раз потрясалась по этому поводу Зоя. — Под самыми портретами... Я поняла, что надеяться не на что!
Абакумов лично допрашивал Зою Федорову. Ему явно льстило, что он может измываться над одной из трех главных кинозвезд государства.
Однажды он доверительно сообщил:
— Нам все известно о твоей шпионской деятельности. Абсолютно все! Понимаешь? Но под какой кличкой ты действовала?
— А мне накануне ночью почему-то приснился Чан Кайши, — с вернувшимся уже юмором вспомнила Зоя. — Я ему и ответила: «Кличка моя Чан Кайши».
129
Так через все годы мучений она и «проходила» у следователей и стражников как «Чан Кайши». Историческая патология...
На следующий день, помню, Зою навестил Василий Сталин, отбывавший ссылку в Казани... Зоя пригласила меня участвовать в той беседе.
Все детство мое прошло на московском Гоголевском бульваре... И после моя дорога в институт пролегала по утрам вдоль того же бульвара. Я видел, как возле своего особняка, продуманно появляясь задолго до прибытия автомашины (чтобы себя показать и проходящих женщин обозреть!), гарцевал Василий Иосифович Сталин. В бекеше генерал-лейтенанта авиации с серым каракулевым воротником и в каракулевой папахе, лихо сдвинутой набок... Орлиным взором он окидывал улицу, прилегавшую к Гоголевскому бульвару. Какой короткой оказалась дорога от того генеральского великолепия до согбенного, полураздавленного человека в замасленном кителе без погон! Он явился с женщиной, напоминавшей буфетчицу с какой-нибудь дальней железнодорожной станции. Представил ее женой...
Я молча взирал на него и ошалело соображал: «Это сын того... того самого, режим которого искалечил Зоину судьбу. И она гостеприимно принимает у себя в номере сына своего палача! Кажется, даже жалеет его. Сочувствует отпрыску того, который...» Воистину сюжеты, подчас изобретенные жизнью, ни одному фантасту не взбредут в голову. Реальность, повторюсь, бывает фантастичней фантастики...
Как всякий алкоголик, сын Сталина опьянел со второй рюмки, стал нести какую-то околесицу. Жена уволокла его спать.
Судьба детей Сталина... О ней новелла «Отец и дети», тоже пересказанная со слов собеседника, которую вы уже прочитали.
ДВАДЦАТЬ ОДНА МИНУТА
С голоса
«Счастливые часов не наблюдают...» Тем более мы не наблюдали минут и секунд. Я вообще наблюдала одного лишь Исая Григорьевича.
Женихом и супругом я его вслух ни разу не назвала, а ве-
130
личала исключительно по имени-отчеству. По имени-отчеству... Величала так растянуто, длинно и в ту ночь, когда отношения у нас возникли короткие. На имя и на «ты» так и не перешла: времени не хватило.
Мы с ним остались вдвоем — вдвоем на всем свете — сразу же... Сразу после того, как погибли мои родители.
Считалось, что они погибли на «малой войне»... принесшей огромные жертвы. «Малая война» — так именовали ее, словно стараясь принизить подвиг папы. И мамы, которая добровольно стала сестрой при муже, то есть при хирурге полевого госпиталя и моем отце... Его призвали на фронт военкомат и повестка, а ее — преданность и любовь. К отцу и отечеству... Меня она тоже очень любила. Кого из нас троих больше? Сложно было определить. По крайней мере, мне чудилось, что при всяком международном событии, взывавшем к патриотизму, — на озере ли Хасан или где-то на Халхин-Голе — мама мечтала об амбразуре, которую можно было собою прикрыть. Наверно, отечество для нее все-таки было на первом месте, муж на втором... а я — тоже на очень почетном, но все же на третьем. В спорте за такое место полагается бронзовая медаль.
Ныне, когда встреча с родителями, я верю, уже близка, находятся силы перебирать в памяти, пересказывать, а то и подшучивать. Но тогда... Жизнь сама сыграла шутку со всеми нами. Шутку, которая, на самом-то деле, была расправой.
— За что мы собираемся воевать там, на Карельском, абсолютно незнакомом нам с вами, перешейке? — в полный голос, не включив предварительно радио, поинтересовался ближайший друг нашей семьи Исай Григорьевич. — Что мы там собираемся отстаивать? Кого защищать? Я, по своей умственной ограниченности, не вполне разумею.
— Не надо так громко, — попросил отец. Идти на войну он не боялся, а громкие вопросы Исая Григорьевича его смущали. И мама тоже опасливо огляделась. Амбразуры, выходит, казались ей безопасней, чем фразы.
«Может, они опасаются тетю Груню?» — предположила я. Тетя Груня — так я ее называла — была нашей единственной соседкой по коммунальной квартире. В доме ее нарекли «старой девой». Незамужние маялись в ожидании на разных этажах, но их старыми девами не обзывали. Суть, значит, была не в семейном положении нашей соседки, а в ее характере.
Тетю Груню прозвище раздражало.
131
— Вам не нравится слово «старая»? — в упор попыталась выяснить я. Поскольку слово «дева» казалось мне возвышенным, поэтичным и не могло вызывать возражений.
Привычка задавать вопросы в упор еще в детстве приносила мне одни неприятности. Ничего, кроме бед, не сулила она и в грядущем: диктатура пролетариата подобной манеры не выносила. А порою и не прощала.
— Исаю Григорьевичу подражаешь? — выпытывали то мама, то папа. Вступать в смертельную схватку с другой страной они были готовы, а в малейшее несогласие с родной державою — избегали.
Я во многом подражала «ближайшему другу». Ближайший друг — это стало как бы официальным званием Исая Григорьевича у нас в доме.
Представительницей диктатуры пролетариата в нашей коммуналке была тетя Груня.
— Твои родители поступают как патриоты. И ты обязана ими гордиться! — провозглашала она на кухне, будто на митинге. — Идут защищать нашу родину!
— От кого? — поинтересовалась я словами Исая Григорьевича.
— Как от кого? От врагов!
— Чьих? — продолжала я в упор уточнять то, что уточнять было не принято. И не расставаясь с интонацией «ближайшего друга».
— Как это чьих?! От наших врагов... От заклятых! Мы их победим «малой кровью, могучим ударом», как только что пели по радио.
Можно было подумать, что и она собиралась на фронт.
— Малая кровь, малая война... Разве они могут быть «малыми»?
— А как же!
Тетя Груня ощущала себя свободным человеком, так как была освобождена от всяких сомнений. Крохотное ее обиталище вмещало в себя все звуки городского транспорта и все его многообразные запахи. А еще оно вмещало радиоголос, который убедил тетю Груню, что те, кому не повезло родиться ее соотечественниками, прозябают в жалком ничтожестве.
Она числилась заместительницей нашего домоуправа. Произнося «домоуправление», тетя Груня неизменно делала ударение на второй половине слова — «управление». И я всякий раз думала, что она и является той самой, которая, по мнению покойного вождя мирового пролетариата, могла управлять не
132
одним нашим домом, а и всем государством. Тетя Груня была полностью удовлетворена своей должностью, и транспортным грохотом в своей комнатенке, и едким уличным дыханием... И вообще качеством бытия своего. Вот только белофинны ей не давали покоя.
— Я ставлю твоих родителей всем в пример: ребенка одного оставляют. Во имя отечества! — не уставала декламировать тетя Груня.
— Какого ребенка? Мне уже двадцать лет! Кстати, оставляют меня не одну, а с Исаем Григорьевичем.
— С Григорьичем?! — Соседка уронила ложку в кастрюлю. И всполошенно ринулась в комнатенку, чтобы подвергнуть себя немедленной косметической реставрации.
Лучшего друга нашей семьи она именовала только Григорьичем. Сперва мне послышалась в этом простонародная нежность. Тетя Груня внешне выглядела довольно-таки молодой «старой девой», а он был вовсе не старым холостяком.
Но позже я уяснила, что имя Исай ее не вполне устраивает. А что отчество Григорьич компенсирует непривлекательность имени.
Когда перед очередными выборами к нам наведались агитаторы-активисты с анкетами, тетя Груня затащила их к себе, чтобы, как я догадалась, засекретить свой возраст. Но тогда-то уж я «в упор» разузнала все об анкетных тайнах соседки... Меня и ее от Исая Григорьевича отделяли ровно пятнадцать лет. Но меня они отдаляли, так сказать, в сторону положительную (я от него отстала!), а ее — в отрицательную (тетя Груня его на тот же срок обскакала). «Не всегда выгодно обгонять», — молча, но злорадно отметила я.
В присутствии Исая Григорьевича соседку как-то внезапно, будто бы сам собой, облекал платок — столь просторный, что вполне мог сойти и за плед. Он скрашивал избыточную, рыхловатую полноту тети Груни. Не замаскированным оставался лишь бюст, который соседка, напротив, выпячивала, считая его избыточность своим женским достоинством.
Завидев нашего ближайшего друга, соседка принималась хохотать без всякой на то причины. Неестественность более всего выдает женскую заинтересованность. «Страсть, значит, все преодолевает, — удовлетворенно отметила я. — И даже национальная неприязнь перед ней отступает».
У меня финны почему-то ассоциировались с финскими ножами, которых я ни разу не видела, но которыми, как было известно, орудовали бандиты. Позднее, гораздо позднее,
133
финны стали сочетаться в моем сознании с финской мебелью, которая делала квартиры того, уже мирного, времени уныло похожими одну на другую.
Но тогда, в финале тридцатых, ни к чему, кроме бандитских ножей, «финское» в воображении моем не прилагалось. И я понимала, что маме и папе предстоит сражаться с чем-то преступным.
— При любой опасности я буду вместе с тобою и папой, даже впереди, чтобы вас обоих обезопасить, — часто и без видимой надобности уверяла меня прежде мама. Готовясь оберегать, она словно бы окружала меня бесстрашным и зорким взглядом, выискивая амбразуру, кою следовало собою прикрыть.
Сейчас, на расстоянии десятилетий, я позволяю себе иронизировать. Но тогда ирония была столь же не в моде, как и мои вопросы «в упор».
«При любой опасности я буду с тобой и папой...» По отношению к отцу мама выполнила то обещание, звучавшее клятвой.
— Рядом с тобой будет Исай Григорьевич, — прощаясь, пообещала она, будто и м заменяя себя.
Но она не предполагала, что он окажется «рядом» в качестве мужа.
Когда финские снайперы, которых прозвали «кукушками», откуда-то с окоченевших ветвей расстреляли сквозь замерзшие госпитальные окна хирурга и медсестру, оставив раненых погибать самостоятельно, без помощи снайперского свинца, они оставили на погибель и мою жизнь. С тех пор я, всегда любившая птиц, боюсь и ненавижу кукушек.
Но вместе со мною, как обещала мама, был неотлучно Исай Григорьевич. Он, математик, тоже вдруг оказался целителем, умевшим извлекать свинец... из души.
Когда ко мне вернулась способность что-то воспринимать, Исай Григорьевич принялся объяснять, что мама и отец не погибли напрасно... что война с белофиннами была не такой уж бессмысленной. Я принимала ту вынужденную неискренность без возражений. Она даже начинала мне казаться его истинным убеждением.
А белофинны стали ассоциироваться с могильным пространством мертвенно-белого цвета, затягивающим в себя, точно в дьявольское болото, людские жизни.
134
Я никак не могла осознать, что не увижу больше маму и отца ни единого раза, никогда. Никогда... То, что они вообще ушли из жизни, трудно было постичь, но то, что ушли из жизни моей, представить себе было немыслимо. «Никогда»... Это перестало быть словом, понятием, а превратилось в суть моего состояния, в не покидавший меня кошмар.
— Я буду с тобой всегда, — уверял меня ближайший друг. — Я буду с тобой всегда...
«Никогда» и «всегда», словно соединившись, перемешавшись, образовали постепенно ту атмосферу, в которой я (хоть как-то, хоть еле-еле) могла передвигаться по недоброй дороге существования своего.
«Факт существования не есть факт жизни», — прочла я где-то. Но согласилась с тем утверждением, лишь испытав его истинность на себе...
С рассветом «ближайший друг» желал мне доброго утра. Он звонил так рано, точно боялся, что я окажусь висящей под потолком. Он проверял, вовремя ли я вернулась из института...
— Ты поела? — спрашивал он, как раньше спрашивала меня мама. — У тебя денег хватило?
Денег хватало, потому что он каждый день совал их мне в сумку.
А после своего института, научно-исследовательского, он вроде бы научно исследовал, как я выгляжу и каково мое душевное состояние.
Соседка стремилась, чтоб исследование это происходило у нее на глазах, на кухне, а не за дверью.
К интеллигентам тетя Груня относилась настороженно, с классовым подозрением. Хотя деликатное отношение к себе самой принимала охотно. Видимо, не считая деликатность проявлением интеллигентности... Перед профессией мамы и папы она даже заискивала, так как была практична и понимала, что медицина когда-нибудь пригодится.
Сама тетя Груня никого деликатностью не утомляла.
— Ты чего ревешь? — спросила она в один из тех страшных дней. Обижаться было бессмысленно: гордясь своим русским происхождением, тетя Груня в общении с родным языком оказывалась дальтоником: оттенков и окрасок слов она не улавливала. Но оторопелость мою в тот миг уловила. И смягчилась, насколько умела:
— Ну, что надрываешься? И я вот одна. Все мы когда-нибудь...
135
Мне не хотелось перед ней исповедоваться. Но никого другого в квартире не оказалось.
— Нет больше мамы. И не стало отца...
— Отец у всех у нас есть!
Она имела в виду не Бога на небесах, ибо заносчиво объявляла себя атеисткой. Вроде небеса чем-то ей насолили. Она была атеисткой, поскольку осознавала, что двух богов быть не может, а один «бог» для нее уже существовал на земле.
— Нет, тетя Груня... мой отец далеко. Но, слава Богу, есть друг. Он обещал быть со мною рядом. Родителям обещал!
— Где... рядом? Прямо в нашей квартире? — Тетя Груня вызывающе подперла свое «основное достоинство». И предложила: — Если Григорьич собрался жить здесь, пусть спит... в моей комнате. Я согласна. Пожалуйста...
Из мебели тетя Груня обладала лишь древним скрипучим шкафом, охромевшим на все четыре ноги столом, стульями-инвалидами и табуреткой, молодцевато выглядевшей на общем фоне. Да еще односпальной кроватью... Где она намеревалась разместить Исая Григорьевича?
— А мне что? Мне все подойдет... Устроюсь на вашем диване. А ты — в бывшей спальне своих родителей.
Объяснять, что родители мои с ничем «бывшим» не сочетаются, я не стала: в общении с родным языком она оставалась дальтоником. Хоть молчание и считается знаком согласия, я отвергла план тети Груни безмолвием. Она же облегченно и мечтательно изрекла:
— А Григорьич — хороший человек... Совсем не похож на еврея!
«Он, и правда, искусно замаскировался под славянина, — про себя согласилась я. — Крупноволнистая русая шевелюра без единого сомнительного завитка, распахнутые светло-серые очи без малейших признаков генетической скорби, ухарский разворот плеч... Пожалуй, лишь чрезмерная склонность к родственным проявлениям может показаться иудейской приметой. Его и холостяком-то скорей всего оставила верность семейным привязанностям — к маме, к сестре».
Сестра не так давно вышла замуж и, поскольку тоже была обуяна семейной верностью, забрала мать с собой — в один из тех северных городов, который, представлялось мне, по макушку утопал в снегу и на куски раскалывался морозом. Сперва мать, естественно, заметалась между сыном и дочерью. Снег и стужа ее не пугали... Но сын, жертвуя собой, оборвал те метания: «Ты же грезила внуками!»
Семьею Исая Григорьевича, таким образом, сделалась я.
136
Вечером, после беседы с соседкой, я сообщила ближайшему другу:
— Согласно очередному наблюдению тети Груни, вы смотритесь славянином.
— Что ж, это закономерно.
— Почему так уж закономерно?
— Потому что я и есть славянин.
— По маме или по папе?
— По всем линиям сразу.
— Но почему же, когда она вам в глаза заявляла... вы не опровергали? Не проясняли?
— А к чему прояснять?
У нас в семье ни разу не заходил разговор о его национальной принадлежности. Достаточно было того, что он принадлежал нашему дому. Стало быть, он не кичился своим славянством, как не кичились им и мои родители.
С тетей Груней я сногсшибательной новостью делиться не стала: пусть думает, что влюбилась в еврея!
Тетя Груня очень ценила порядок — на кухне, в доме и в государстве. Чем жестче были указы Верховного Совета, тем больше она уважала этот Совет.
Когда виновных в любых отклонениях от любых правил принялись карать, хоть и не с той жестокостью, как невиновных, но тоже без разбору и безжалостно, тетя Груня сказала:
— Наконец-то! Давно пора...
В столь же крохотной комнатенке, как у нее, но с женой и двумя детьми, обитал сантехник домоуправления Митрофанушка. Звали его так не потому, что он был «недорослем», а потому, что с рождения был Митрофаном. Ласкательность же обращения к себе он заслужил... Митрофанушка был безотказен. Он не только обладал золотыми руками, но и к умывальникам с унитазами относился так, будто они были из золота. Он любил их, и соседей, и свою работу... А еще любил выпить.
Сантехник подчинялся непосредственно тете Груне, — и я ему не завидовала. Она не только почитала власть, но и обожала сама ею быть. Хоть в чем-то, хоть в микроскопичном объеме... Митрофанушку за его безобидные, тихие выпивки она осуждала обидно и громогласно. Но хуже было, когда осуждать его принялся суд: в трамвае Митрофанушка объяснил контролеру, что тот дурак.
За слово «дурак», согласно новому указу, полагалось свирепое наказание. Тем более, что контролер находился «при ис-
137
полнении служебных обязанностей», а сантехник — при своей слабости к алкогольным напиткам.
У тети Груни затребовали характеристику. Качество ее отношения к людям не зависело от их качеств. А только от внешних признаков... В суд она вознамерилась сообщить, что Митрофанушка «пьет».
— Он — лучший человек у нас в доме! — узнав об этом, в упор провозгласила я.
— Лучшими были твои родители: они погибли за родину! Меня передергивало, когда тетя Груня начинала оценивать маму и папу.
— Подозревающий в себе глупость — уже не дурак, — негромко вмешался в спор Исай Григорьевич. — Если же тот контролер жалуется и протестует...
Соседка не проникла в глубь этой мысли и, чтобы заглушить свою непонятливость, расхохоталась без всякого повода. Как это часто случалось в присутствии Исая Григорьевича.
— Напишите, что он честный трудяга. И что у него дети... — посоветовал «ближайший друг».
Она написала тут же, на кухне, чтобы ни на миг не упускать нас из-под контроля. Порицать контролеров в тот период она не могла. И в другие периоды тоже...
Грамматических ошибок в характеристике оказалось не меньше, чем слов. Но ошибок и несправедливостей по отношению к Митрофанушке уже не было. Страсть в который раз побеждала характер.
Митрофанушку все равно засудили: власть и «защищала», уничтожая... Характеристика тети Груни ее не смягчила и не разжалобила.
А соседка продолжала неукоснительно одобрять постановления и приказы. Она почтительно склоняла пред ними свою шестимесячную завивку, даже не разобравшись, что те законы сулят ей лично. Завивка выглядела беспорядочным нагромождением мелких кудряшек, не имевших отношения к аристократическим локонам или природным иудейским завиткам.
Указы указывали... И все в одном-единственном направлении: суды, приговоры.
— Правильно, — говорила соседка. — Давно пора! Всеобщим пугалом стала вдруг цифра «двадцать один».
Раньше, в картежной игре, она обозначала очко и выигрыш. Но внезапно начала определять проигрыш, который грозил застенком.
— Видела утром ученого с первого этажа, — сообщила я
138
как-то вечером. — Его увозила скорая помощь. А он улыбался!
— Окатил кипятком ноги, — с неприязнью к науке, ученому и его поступку объяснила соседка. — Опаздывал на двадцать одну минуту.
— А если он ошпарил себя случайно? Если это несчастье? — настойчиво предположил Исай Григорьевич.
Между государством и человеком тетя Груня всегда выбирала власть, государство. Но тут она опять захохотала без всякого повода.
— Я так... пошутила. — Страсть привычно пересилила характер. — Давайте сядем за стол. Я пироги испекла!
Она удерживала нас на кухне любыми средствами, а чаще всего — кулинарными.
Исай Григорьевич был математиком — и, может, по этой причине цифры имели для него большое значение. Мне исполнилось двадцать — и это обозначало, что юность перешла в молодость. Ему стукнуло тридцать пять... То была зрелость. Между ними пролегли пятнадцать лет, что выглядело солидной возрастной разницей.
— Я буду твоим отцом. — Он привык из цифр делать выводы. — И даже постараюсь стать твоей матерью. Одновременно...
Но я-то была влюблена в него... С пятого класса! Гораздо дольше, чем тетя Груня. И с той, неведомой ему цифрой, тоже следовало считаться.
По просьбе моих родителей он когда-то готовил меня к контрольным по математике. О, как я ему внимала! А потом получала двойки. Прошло полвека... Но я отчетливо помню, физически ощущаю: мне точно было не до точных наук. И до неточных в такой же степени.
Исай Григорьевич начинал день с меня (правда, по телефону). И завершал его вместе со мной... чаще всего на кухне. Лишь на ночь мы разлучались. Я сделалась для него дочерью.
— Твои родители завещали любить тебя до конца моих дней... И я выполню их завещание.
К сожалению, мама и папа завещали ему родительскую любовь. Но голос его по утрам стал выражать не заботу и тревогу, а нетерпеливое стремление... услышать меня. Я ждала, что это наступит — и потому безошибочно уловила. А прощаясь,
139
он несколько раз поцеловал меня, хоть и в щеку, но так, как мама и папа не целовали. Его чувства начали корректировать их завещание. Все очевидней и неотступнее. И тогда я в упор спросила:
— Зачем вы уходите? — И добавила: — Уже очень поздно. Останьтесь!
Тетя Груня в тот момент отлучилась в ванную комнату. Когда она со старательно прибранными кудряшками появилась, я, не дождавшись его ответа, с прямолинейной уверенностью объявила:
— Исай Григорьевич остается... у меня.
— Девушке спать наедине... со старым холостяком?! — не выбирая слов, возопила только что омолодившаяся «старая дева». Вернее, ту необузданную фразу вскричала ревность.
— Я остаюсь, — ответил он мне. И мы покинули кухню.
Тетя Груня протестовала неистово. Об этом хлопали двери и окна, гремели кастрюли и чайники.
То была наша первая ночь.
«Счастливые часов не наблюдают...» Тем более мы не наблюдали минут и секунд. Я наблюдала только его. А он, кажется, одну лишь меня.
Оказалось, что от жалости и сострадательных утешений до безумных «утех» расстояние небольшое. И преодолевается оно как бы незаметно, нечаянно... Сперва я искала успокоения и спасения на его груди, а потом он — на моей.
— Я делаю тебе предложение...
— А я его давно уже приняла!
— Поверь, пятнадцать лет — не препятствие.
— Это всего лишь цифра! — ответила я, словно забыв, что цифры — его профессия.
«Какая разница, узаконен брак или нет? Была бы любовь!» Так говорят. Но разница есть: отныне я владела им по закону, пусть и не затвержденному еще на бумаге. А потому владела им полностью, не крадучись от самой себя. Главное же, я понимала, что счастье не ограничено сроком, что оно навсегда. То мое «навсегда» не отменило недавнее трагичное «никогда», но, да простится мне, потихоньку его затмевало. Конечно, семейные судьбы складываются по-всякому. Но у нас всякого быть не могло. И, упоенно была я уверена, не могло возникнуть превратностей, случаев. Никаких...
140
Часов не наблюдал и будильник. Нет, он был заведен мною, хоть и по инерции, но на положенное, привычное время. Будильник, однако же, онемел. Или мы не услышали?
— Уже половина девятого? — без паники, но изумленно произнес мой муж. — Кажется, я опаздываю в свой научно-исследовательский институт...
То есть он опаздывал на работу. Я тоже опаздывала в институт. Но учебный... Это было совсем не одно и то же. Впервые я увидела на его лице подобие растерянности.
— Надо успеть!
— А что такого... особенного? — еще не вернувшись из ночи, задала я бездумный вопрос.
Он не ответил, потому что натягивал на себя нижнюю рубашку, а потом верхнюю. А потом свитер. И делал это с несвойственной ему судорожной поспешностью.
— Если я опоздаю на двадцать одну минуту... — наконец, проговорил он.
Как математик он многое измерял цифрами, но тут уж цифры решали все, независимо от его профессии.
— Прости, что я нагнетаю. Вгоняю тебя... — извинился он. — Если б не этот указ... Кроме того, у нас «сверхзакрытый» институт — и военная дисциплина.
Как же он был взволнован, если выдал мне тайну!
Я сразу вернулась в реальность. И вскочила. И тоже принялась судорожно напяливать на себя одежду.
Счастливые и указов не наблюдают... Но временно, в объятиях счастья. Так что ж теперь будет?! Суд? Тюремная камера? Лагерь?
Перед глазами возникло лицо ученого с первого этажа, который улыбался своим мучениям, радовался ожогам. Возник Митрофанушка, который улыбался тому приговору, будучи не в силах в него поверить... Над нами тоже навис приговор.
Когда мы вышли — не выскочили, а именно вышли — на улицу, муж мой уже успел сладить со страхом и обрести мужское достоинство. Он взял в руки не только себя, но и меня — даже не взял, а ухарски поднял на руки. Это произошло в лифте. Таким необычным способом он и меня привел в чувство.
Увидев, что часы, которые напоминали мне барабан, прильнувший к столбу, показывают без семи девять, он сказал:
— У меня в запасе еще есть... Опоздать на двадцать минут я могу. Это еще не смертельно. Так что взбодрись.
141
Метро и троллейбус спасти его уже не могли.
— Давай-ка ловить такси, — сказал он. — Ночью тебе было со мной хорошо?
— Что-о? Ночью? Как никогда!
— И так будет всегда...
«Никогда» и «всегда» снова перемешались.
Он начал ловить такси. В самом буквальном смысле. Ловить и даже хватать... Ухарство было не только в развороте его плеч, но порой и в развороте его неожиданных действий. Машины вызывающе не снижали скорость, не притормаживали. Это он нарушал правила уличного движения — и шофера не отвечали за наезд на него. А остальное было им безразлично. «Не нарушай правила!» Их пассажиры тоже спешили... спасаясь, удирая от «двадцать одной минуты».
Я истерично вздымала руку, хоть это было бесцельно: впереди, я видела, многие задирали, вздымали. И тоже объятые ужасом.
Когда минуты необходимы, когда решают судьбу, они ускоряют свой бег и проскакивают издевательски незаметно. Часы, похожие на барабан, утверждали, что срок для спасения с тупым равнодушием завершался.
Муж внятно проговорил:
— Надо что-то изобрести.
В тот же миг, не посоветовавшись со мной и ни о чем меня не предупредив, он шагнул с тротуара навстречу очередному такси, ничуть не умерившему свою прыть. И подставил стопу левой ноги прямо под колесо. Как тот ученый подставил ноги под кипяток. «Надо что-то изобрести...» Они сумели изобрести только это.
Такси накатило на стопу беспощаднее, чем кипяток: тяжко и прочно. Тело моего мужа внезапно взлетело, перекинулось через радиатор и... рухнуло на мостовую по другую сторону автомобиля. А там, не зная, что это мой муж, на распластанное тело навалилась грузовая машина — огромная, многотонная.
«Я буду с тобой всегда...» Он не выполнил обещания. Как и мама...
То была наша первая ночь... И последняя. Кто сумел дважды превратить меня в круглую сироту? Дважды за одну жизнь... В круглую, как то колесо, перекинувшее мужа
142
через радиатор на другую сторону мостовой. Я знала и могла бы ответить.
Но все равно... Никто и ни с кем не в состоянии быть всегда. Никто и ни с кем. Так устроена жизнь... Так страшно она устроена.
ПЕРВАЯ ЛЕДИ И ОМОН
Из блокнота
В так называемом Октябрьском зале Дома союзов собрался, помню, пленум правления Фонда культуры. В центре президиума восседала «первая хозяйка» страны («первая леди» звучит как-то не очень по-русски). В президиум Раису Максимовну Горбачеву усадили по заслугам, по праву: меценатство было одной из ее страстей. Правда, меценатствовала она не за свой личный счет, а за счет государства. Но все же... Не знаю, сколько полезного сделала она для культуры, но для Фонда культуры — немало. Даже особняк ему выхлопотала барский.
Я был бы неискренен, если бы не сказал, что присутствие «президентши» заставило меня нервно припомнить все близкие мне нужды литературы, все известные мне тяготы деятелей искусств. Я мобилизовал свой гражданский пафос и доступное мне красноречие, чтобы воссоздание на трибуне общественных и социальных нужд и горестей перемежалось юмором, а зримое сочувствие зала — смехом (нагнетание драматизма раздражает вождей и их сподвижников). И чтобы «первая хозяйка» тоже не только утерла слезу, но и похлопала, посмеялась... Достигнув своей цели, я незаметно покинул зал и направился к гардеробу.
Внезапно вдогонку мне устремились организаторы пленума с воспаленными взорами и паническим страхом на лицах:
— Как хорошо, что мы вас нашли! Как замечательно!..
— А что случилось?
— Вас ищет Раиса Максимовна!
«Сама» произнесено не было, но подразумевалось. Она ждала меня в комнате президиума, что за сценой.
— Это трагическая комната, — зачем-то сообщил я.
— Трагическая? Почему?
— Именно здесь, в Октябрьском зале, устраивались главные судебные инсценировки тридцатых годов.
— Те процессы?! — изумленно всполошилась она.
Раиса Максимовна стала рассказывать про горбачевского
143
деда и еще каких-то родственников, которые пострадали от сталинизма.
Власть имущие, я заметил, любят подчеркнуть, что и они (или хотя бы их родственники!) не только пользовались привилегиями, но и страдали, так сказать, вместе со всем народом.
— Да, Раиса Максимовна... Процессы проходили тут, в Октябрьском зале. Как сын «врага народа» я это знаю...
«Весьма символично, что именно в Октябрьском!» — думаю я сейчас. Но при реформаторе Горби все «октябрьское» оставалось на своих местах.
— И в этой самой комнате подсудимые ждали смертных приговоров, — уточнил я.
— Какой кошмар!.. — опять всполошилась Раиса Максимовна. — Знаете, со стыдом вспоминаю, как мы, по приказу учительницы, выдирали из старых школьных учебников портреты Бухарина, Тухачевского... И сегодня опять пытаются затаскивать детей в политику. Только что... Вы слышали? Видели?..
Я сознался, что покинул зал и ничему особенному свидетелем не стал.
— Жаль, очень жаль! Вы бы, я надеюсь, не промолчали. Только что участник пленума из Литвы провокационно вручил мне детскую копилку, этого зайца с прорезью. Вот он, вот... На столе! Литовец издевательски, на весь зал, побренчал монетками, которые у зайца внутри... и сказал, что мальчик из Вильнюса просил передать копилку Михаилу Сергеевичу.
— Для чего?
— Чтобы на эти монетки... выкупить (он так и сказал — «выкупить»!) вильнюсский телецентр. Освободить его от ОМОНа! Вы представляете? ОМОН... Отряды милиции особого назначения! Они же сражаются за свободу и демократию. Омоновцы жизней своих не жалеют...
Мне хотелось сказать, что и чужих жизней они не жалели тоже. Но я промолчал. А Раиса Максимовна продолжала:
— Опять втравляют детей в политику! Вы...
Последовали слова в мой адрес как писателя и общественного деятеля, который, в том числе, служит детству, отрочеству и юности. В пору новых (точнее, очередных!) надежд я подарил ей несколько книг с автографами, выражавшими те надежды. Оказалось, что многие мои повести она знала и раньше, читала...
— Вы должны, я считаю, как-то отреагировать. Ведь это было на глазах у самых крупных деятелей культуры. И корреспондентов! Наших и зарубежных...
144
Я обещал подумать.
— Знаете, я и сама придумала! Давайте вместе напишем статью. В «Советскую культуру»... Или лучше — в «Труд». У этой газеты огромный тираж! Рабочие читают, трудящиеся...
Я понял, что должен написать статью сам, но от нашего с ней общего имени. И согласился. А что было делать?
Жена моя, обладая, согласно своему происхождению по маминой линии, неподкупными дворянскими убеждениями, заявила, что выступать в печати вместе с супругой генсека и президента я не должен ни в коем случае.
— А что же делать?
— Ты сочини такую статью — писательскую! — чтобы она подписаться под ней не смогла. Это единственный достойный выход из положения. И ни строчки, ни слова по поводу мальчика, Вильнюса и ОМОНа...
Это я и сам понимал.
Статья моя, сочиненная по рецепту жены в ту же ночь, восставала против того, что политики пытаются иногда отбирать у детей детство. Исключительно против этого... И столько было в статье разных писательских раздумий, нарочитых лирических отступлений, метафор и эпитетов, что помощник Раисы Максимовны — человек редкой благожелательности — сразу сказал:
— Лучше подпишитесь один.
Статья была немедленно опубликована... Но она «не вполне» (на словах!) и абсолютно (на самом деле!) не удовлетворяла Раису Максимовну: где ОМОН, где мальчик из Вильнюса, где телецентр? Все это «первая хозяйка» высказала по телефону.
— Во-первых, мне, взрослому человеку, писателю, наваливаться на ребенка — постыдно, — объяснил я в ответ. — А во-вторых, если я упомяну о конкретном мальчике, назову его имя, фамилию, он станет национальным героем. Ему памятник воздвигнут возле самого телецентра. Вот уж тут ребенок будет по самую макушку втянут в политику... А мы с вами ведь против этого!
Я осмелился не сделать того, о чем просила «царствующая семья», чего она от меня ждала.
Думал, что Михаил Сергеевич такого ослушания мне не простит. Но я был приглашен на ближайшую встречу с деятелями культуры. Горбачев, вслед за Хрущевым, любил устраивать такие акции. Мне было предоставлено слово... Газеты то мое выступление почти полностью воспроизвели. Так что кара не последовала. Все же времена изменились.
145
СЕРЕБРЯНЫЙ БОР
Из блокнота
Одна из моих давних (очень давних!) повестей, написанная для юных читателей, начинается так: «Эту дорогу я знаю наизусть, как любимое стихотворение, которое никогда не заучивал, но которое само запомнилось на всю жизнь. Я мог бы идти по ней зажмурившись, если бы по тротуарам не спешили пешеходы, а по мостовой не мчались автомашины и троллейбусы... Иногда я выхожу из дому вместе со школьниками, которые в ранние часы бегут той самой дорогой. Мне кажется, что вот-вот сейчас из окна высунется мама и крикнет мне вдогонку с четвертого этажа: «Ты забыл на столе свой завтрак!..»
Но мамы нет... Да и неудобно было бы догонять меня криком с четвертого этажа: ведь я-то давно уж не школьник.
Помню, однажды мы с моим лучшим другом Валериком сосчитали зачем-то количество шагов от дома до школы. Теперь я делаю меньше шагов: ноги у меня стали длиннее. Но путь продолжается дольше, потому что я не могу, как раньше, мчаться сломя голову. С возрастом люди вообще постепенно замедляют шаги. И чем человек старше, тем меньше ему хочется торопиться... Я уже сказал, что часто по утрам спешу вместе с ребятами, то и дело не поспевая за ними, дорогой моего детства. Я заглядываю в лица мальчишкам и девчонкам. Они удивляются: «Вы что-нибудь потеряли?» А я и в самом деле потерял то, что невозможно найти, отыскать, но и забыть невозможно: свои детские годы. Впрочем, нет... Они не стали только воспоминанием — они живут во мне. Хотите, они заговорят?..»
А заговорив, те годы, увы, расскажут не только о беспечном и беззаботном (на что детство имеет право!). Детство — та весна человеческой жизни, которая бывает лишь раз и никогда уж более не возвращается. Но весна моей юной поры нередко становилась оголтело, до костей пронизывающей зимой.
Началось все это в дачном подмосковном поселке с нежным, поэтичным именем Серебряный бор. Поначалу, наслаждаясь там солнечной беззаботностью на даче номер шестьдесят (даже номер буду помнить до конца дней своих!), я понемногу, с годами, начал ощущать, что беззаботность меня преждевременно покидает и от солнечности почти ничего не остается. Потому что не оставалось даже примет всего этого в судьбе государства... Я впервые наблюдал, как способны непостижимо меняться повадки и лица людей, манера их общения друг с
146
другом в зависимости от обстоятельств (особенно же угрожающих жизни!).
Память, чуть-чуть замутненная возрастом, иногда путает даты событий и иные цифры, неотторжимые от моего присутствия на земле... Но людей с соседних дач, казавшихся милыми и приветливыми, мы с мамой действительно встречали на тропинке, которая извивалась вдоль заборов. Встречали каждое лето в течение пяти или шести лет — это точно. «Приветливые и милые» здоровались, справлялись о нашем и папином здоровье, отечески поглаживали меня по волосам... Один из них был щуплым и хилым, этакой коротышкой. Жена же его, наоборот, казалась мне статной красавицей и, безусловно, еврейкой. Фамилия коротышки была — Ежов... Звали его Николаем Ивановичем. Мама объяснила мне, что он «секретарь ЦК». Вскоре его стали именовать «сталинским наркомом», а «ежовыми рукавицами», впечатляюще изображенными одной из газет, были схвачены «шпионы», «наймиты», «предатели».
Помню его сладковатый голос, вопрошавший меня на дачной тропинке: «А спать тебе еще не пора?» Куда девались благостность и заботливость? Реально он позаботился лишь о том, чтобы превратить меня в сына «врага народа», а мою будущую жену — в дочь «изменника родины»... Супруга же его по имени Женя (отчества не припомню) своим «личным» знакомством с Исааком Бабелем, быть может, не желая того, сгубила выдающегося писателя...
На другой даче, почти по соседству с Ежовыми, раньше жил другой «милый и приветливый человек» — Генрих Григорьевич Ягода. Тоже щуплый и хлипкий... Я упорно ставил ударение в его фамилии не на втором слоге, как полагалось, а на первом. Получалась «ягода», что было понятней и ближе моему возрасту, но что вызывало страх в глазах взрослых, поскольку «милый и приветливый» был председателем ОГПУ. С Ежовыми он состоял в теснейшем союзе, что не помешало Николаю Ивановичу поступить с Генрихом Григорьевичем так же, как Генрих Григорьевич поступал с другими... «Приветливые и милые» оказались палачами, каких еще не знала история. Две коротышки укоротили жизни высоких, масштабных личностей. Прежде всего именно их...
А напротив нашей дачи в летние дни отдыхала веселая, счастливая и очень добрая семья председателя Госбанка Попова. Женой его была та самая любимица детей всей страны «тетя Наташа» — Наталья Ильинична Сац, о которой я, «перелистывая годы», не раз вспоминаю...
Однажды, появившись на улице вместе с рассветом, чтобы
147
успеть до завтрака искупаться в реке, я услышал короткий, глуховатый, словно боявшийся кого-то разбудить, выстрел. Это застрелился глава веселой и счастливой семьи... «Успел, — помню, тихо, не рассчитывая на мой острый и догадливый слух, промолвил папа. — Может быть, я ему скоро буду завидовать?» «О чем ты говоришь?!» — с отчаянием схватившись за голову, вскричала мама.
Но отец оказался провидцем.
Я уже писал, что, посоветовав мне не сочинять больше стихи, а переключиться на прозу, Маршак, Кассиль и Паустовский определили мою литературную дорогу. Но впервые я познакомился с Самуилом Яковлевичем не тогда, не в сорок седьмом году, а гораздо раньше. Произошло это как раз в Серебряном бору. Еще в дни моей беззаботности...
Накануне мама не без трепета сообщила мне, что он приедет в воскресенье утром к жившему на первом дачном этаже крупнейшему в то время издателю Алексинскому (я еще не знал, что его фамилия весьма напоминала мой будущий псевдоним).
Мама устроила репетицию целой литературной программы: я дважды или трижды продекламировал все стихи Самуила Яковлевича, которые знал наизусть...
На следующий день мы, затаившись на своем втором этаже, стали ждать. Время шло... А Маршак, приехавший и, как мы углядели, вошедший в дачу, все не появлялся. Потом выяснилось, что он, по его собственным словам, «завалился спать». Мама объяснила мне, что быть выдающимся писателем очень утомительно... Наконец часа в четыре Самуил Яковлевич вышел в сад — и Алексинский, как было договорено, махнул нам рукой. Мы спустились... И были представлены своему кумиру.
Маршак не только проповедовал, что с детьми надо общаться «на равных», но сам так именно и общался с ними.
— Здравствуй, голубчик! Как живешь? — спросил он у меня, будто мы с ним давно были в приятельских отношениях.
— Хорошо, — ответил я, что в те дни еще соответствовало истине.
— А что поделываешь, если не секрет?
— Я люблю стихи.
— А играть в чехарду или в жмурки не любишь?
— Но стихи я люблю больше. Честное слово!
— Я тоже стихи люблю больше.
148
— Он почти всего вас знает наизусть, — запинаясь, сообщила мама. — Можно почитать?
— Пожалуйста... Если ты, Толя, хочешь.
— Я хочу. Честное слово!
— Я и так верю, что каждое твое слово — честное. Эта фраза Маршака мне запомнилась.
Я читал, а мама шевелила губами: вдруг забуду! Но я не забыл.
Самуил Яковлевич вынул платок и протер очки:
— Спасибо, голубчик.
— Он и сам пробует сочинять... — Мама сочла, что настал подходящий момент для этого сообщения.
— Почитай, голубчик. Если, конечно, хочется... И я прочитал:
Поет соловей у меня под окном,
И весело, весело мне.
Но как запоет он грустную песнь,
Тоскливо, тоскливо в душе...
— Это прекрасно, что твоя душа уже умеет тосковать. А не только веселиться!
То были мои единственные стихи, которые, кажется, понравились Маршаку.
— Он много читает, — оповестила его мама.
— Сколько читает — это важно, но еще важней — что читает. Ты согласен, голубчик?
Я согласился.
— Есть книги, не прочитав которые, просто трудно жить дальше. Вот, к примеру...
Он назвал книг двадцать, не меньше. А мама, в совершенстве владевшая стенографией, успела записать. Когда Маршак назвал «Песнь о Гайавате» Лонгфелло, я опростоволосился, заявив, что петь не умею. Маршак как бы между прочим, не унижая меня иронией, пояснил, что это песнь, которую не поют, а читают.
— А знаешь, что иногда ближе всего к жизни? — спросил меня вдруг Самуил Яковлевич. И сам же ответил, поскольку никакого экзамена устраивать не собирался: — Ближе всего к жизни бывают порой... сказки. Вот «Сказка о рыбаке и рыбке»! Еще не читал? Прочти, голубчик... И время от времени перечитывай. Каждый, я думаю, должен ее понять... чтоб не остаться у «разбитого корыта».
Потом мы отправились на реку.
— Давай посостязаемся, — предложил Самуил Яковлевич. Стал бросать камешки и подсчитывать, сколько раз они
149
подпрыгивали на воде. Я тоже бросал, но неизменно ему проигрывал.
— Не огорчайся, голубчик! Это понятно: я вырос на море. Мог бы, конечно, тебе проиграть... Но ты бы, я полагаю, обиделся. Не люблю играть в поддавки! А ты?
— И я не люблю.
Я любил его и все, что любил он, а то, что он отвергал, я отвергал тоже.
Прошло шестьдесят с лишним лет. Трудно поверить... Думаю, я без искажений воссоздал ту встречу. Некоторые слова, может, были иными, но их смысл, их суть я передал точно. Честное слово...
Недели через две оповестили, что к нам пожалует Лазарь Моисеевич Каганович. На той же даче жила семья какого-то начальника по фамилии Приворотский, а жена того Приворотского приходилась родной сестрой жене Кагановича.
Все выглядело примерно так... Предупредили, что визит будет семейным: никакая торжественность, никакая официальщина не должны сопровождать Лазаря Моисеевича.
Чтобы придать визиту совсем уж демократичный, лишенный казенности характер, «сестра жены» попросила меня прочитать то стихотворение, которое одобрил Маршак. Мама попыталась объяснить, что ситуация все же совсем другая... К месту ли будут мои стихи?
— Нам посоветовали, чтобы Толя обязательно прочитал, — многозначительно настоял Приворотский.
Стало быть, посещение Кагановича готовилось заранее, дача была «под колпаком» и о встрече с Маршаком знали во всех подробностях.
Несмотря на «семейный характер» встречи, к нам на заре пожаловала охрана Лазаря Моисеевича. Весь дачный участок изучили, исследовали, рассмотрели под микроскопом. Разглядывали чуланы, беседку, ощупывали скамейки, каким-то загадочным аппаратом «прочесывали» траву, кусты, клумбы.
Дача самого Кагановича высилась за рекой... Оттуда в полдень к нам прикатил «линкольн» с металлической собакой в азарте прыжка на радиаторе. Вожди, позднее усевшиеся в «паккарды», тогда ездили на «линкольнах». Удручающее единообразие наблюдалось и в этом!
Лазарь Моисеевич был в белом кителе и белой «сталинке» на голове. Говорил с явным еврейским акцентом.
Именитого гостя сопровождали жена, словно двойник похожая на жену Приворотского, и дочь Майя, которая сразу же
150
показалась мне симпатичной и доброжелательной. Ну, а еще на участке как бы невзначай оказались охранники, улыбавшиеся непрерывно и без всякой причины.
— Здравствуйте, товарищи! — сказал Лазарь Моисеевич.
И все не вполне стройным от внутренней дрожи хором ответили:
— Здравствуйте...
Я постарался спрятаться за взрослыми спинами, но Каганович тут же меня высмотрел: первое внимание полагалось дарить детям.
— А тебя как зовут?
Я ответил... Лазарь Моисеевич нежно, но и настоятельно вытянул меня из общей «группы встречающих». Уселся на скамейку, а меня усадил на колени. Маме это не нравилось, и она нервно вытирала ладонью лоб.
— Рассаживайтесь, товарищи, — предложил Каганович всем остальным. Но все остались «на своих двоих».
— Ты пионер? — спросил Каганович.
— Ему еще рановато... — предположила дочь Майя.
Лазарь Моисеевич огорчился:
— Но ты, я надеюсь, готовишься... в пионеры?
— Не волнуйся, папа. Как он может не готовиться? — аккуратно поставила на место своего всемогущего родителя дочь Майя.
Мама, казалось, вот-вот благодарно бросится ей на шею.
— А знаешь ли ты, что значит «пионер»? — настоятельно допытывался Лазарь Моисеевич.
Я замешкался. Мама вытерла лоб.
— Это значит — идущий впереди, в авангарде. Будешь таким?
— Он будет. Не волнуйся, папа! — опять пришла на выручку его дочь Майя, которой в семье, видно, была позволена и ирония.
— Он сочиняет стихи, — доложил Приворотский.
— Ты хочешь почитать? — спросила Майя и потрепала меня по волосам.
Она не вписывалась в общую свиту — и с каждой минутой нравилась мне все больше.
Настроения читать у меня не было, но я прочитал.
— Очень лирично. И искренно! — похвалила Майя.
— Молодец! — произнес Лазарь Моисеевич, будто я выполнил ответственное задание. — Но соловьи, Толя, пели и сто лет назад и двести. Сочинил бы то что-нибудь про сегод-
151
няшние дни нашей Родины. И про лучшего друга детей товарища Сталина! Сочинишь?
— Обязательно сочинит, — торопливо пообещал Приворотский, боясь, что я отреагирую как-то не так и не сразу.
— Ну, расти смелым, трудолюбивым, — дал наказ Каганович.
— И добрым, — добавила Майя.
Лазарь Моисеевич согласился:
— И добрым.
Года через четыре он собственноручно подписал приказ об аресте отца моей жены. И тот сгинул в возрасте тридцати трех лет.
ПРО ЕГОРА ГАЙДАРА, ЕГО ОТЦА ТИМУРА
И ЕГО БАБУШКУ ЛИЮ
Из блокнота
Это было в ту пору, когда до перестройки в бывшем Советском Союзе было еще далеко... Потенциальные силы грядущих борений скрывались, ждали своего часа, как мины сверхзамедленного, но и неотвратимого действия. И Грузия с Абхазией еще не приступили к огнестрельному выяснению отношений, а посему в Гаграх нормально функционировал писательский Дом творчества. Там, на берегу Черного моря, и у меня на глазах впервые познакомились сын Аркадия Гайдара и дочь уральского сказочника Павла Бажова. Он был Тимуром, а она в обиходе звалась Ритой, но полное имя звучало куда более парадно: Ариадна. Таким образом, было предопределено появление на свет будущего премьер-министра России и главы партии «Выбор России».
На год раньше Тимур тоже отдыхал в Гаграх, но холостяком — с еще неопределенными семейными перспективами. Все, чьим отношением стоит дорожить, относились к нему с уважением и более того — любили его (и не только за громкую фамилию, а и за собственные достоинства). Да и почему было не любить: умница, не подвергавший свои высказывания внутренней цензуре, гусар и рубаха-парень, в котором уже угадывался будущий адмирал, безоглядный смельчак! Вот лишь одна из романтических историй, связанных с его храбростью... Как-то, поздним вечером, три или четыре писательские супруги отправились в парк: «подышать перед сном». Но нежданно из-за кустов выскочила компания младых кавказцев, захмелевших от коньяка и животных намере-
152
ний. Эти намерения были до такой степени очевидны, что насмерть перепуганные женщины огласили парк истеричными сигналами бедствия и мольбами о помощи. Угрожающе сверкнувшие в лунном свете ножи заставили те крики испуганно оборваться. Никто им не внял (или не пожелал внимать!). Услышал их только возвращавшийся откуда-то Тимур. Ни секунды не размышляя, он вонзился в парковую аллею, где могло подстерегать что угодно. Говорят, чувство страха присуще и любому герою... Но Тимур, как я убеждался, его не ведал. Нагло превосходящие силы обступили его, — но бесстрашие разорвало порочный круг...
Одним словом, несостоявшиеся насильники, стращавшие Тимура ножами и пустыми коньячными бутылками, сами с позором бежали... А дамы в Доме творчества стали поглядывать на Тимура с настораживавшим мужей любопытством.
Довелось мне однажды ездить вместе с Тимуром на родину нашего общего, уже покойного в ту пору, друга Сергея Орлова — поэта и бойца, трижды горевшего в танке на самой гибельной «нейтральной полосе»: между своими и чужими. Сергей Орлов создал нетленные строки о войне:
Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат...
В вологодском аэропорту бдительная таможенница потребовала почему-то, чтобы Тимур раскрыл свой кейс. Он хладнокровно (как рыцарь!) подчинился — не таможеннице, а женщине. Но та сразу же узрела кортик.
— Оружие! — констатировала она так, как будто обнаружила не «табельное оружие», а убийцу с поличным. Я стал объяснять, что он — несмотря на штатскую одежду, человек флотский, к тому же — сын самого Аркадия Гайдара и один из редакторов главной газеты страны.
— Проверим. Для нас все равны! — заявила упивавшаяся властью правдоискательница. — Идите за мной!
И мы пошли... Тимур шествовал так независимо, что униженной в какой-то момент, по всему было видно, себя ощутила она. Разумеется, очень скоро ей пришлось извиняться. Тимур шутливо заметил:
— Оружие не только для того, чтоб нападать...
Он доказал это еще в Гаграх.
Удивительное дело... но именно те истории соединили в моем сознании образ и поведение Тимура с образом его матери — журналистки и публицистки Лии Соломянской. Она
153
была смелой, не отступавшей в битвах за справедливость ни на шаг. Пусть не на поле боя в прямом смысле, а на полях противостояний нравственных! Она готова была бросаться на амбразуры, но не за Родину в общем и целом, а за конкретных людей, которым приходилось худо и горько. А худо приходилось по извечной причине: зло действует теми, вроде бы запрещенными, видами морального (а точней, аморального!) оружия, к которым добро не позволит себе даже приблизиться.
Помню проникающий в мою совесть — не агрессивно, но неотрывно и неотступно — взгляд скорбных глаз Лии Соломянской, как бы укоряющих несовершенство окружающего нас мира. Она непременно о ком-то пеклась, за кого-то ходатайствовала. Но лишь за тех, которые были достойны сострадания. У нее не было флотского кортика, но характер и журналистское перо ее были остры, отточены для борьбы. Я узнавал ее глаза, когда встречался с бесстрашными глазами Тимура Гайдара, готовыми испепелить противника.
Получили мы как-то от американских благотворителей много спасительных лекарств, необходимых тяжко больным детям. Неизлечимость с их помощью могла сделаться излечимой... И вдруг узнаю, что за эту бескорыстную помощь надо... платить. Не американцам, разумеется, а таможенникам. Решаю немедленно отправиться к главе правительства. То есть к Егору Гайдару.
Только председатель Совета Министров, как мне объяснили, мог освободить спасительные медикаменты от пошлин, налагавшихся на бескорыстие. Егор Тимурович, несмотря на премьерскую занятость, немедленно согласился меня принять. Встреча с главой правительства была для меня не первой. Я уже знал, что Егор Гайдар в общении предельно демократичен, что звучный титул ничуть, ни на йоту не изменил его манер, внешних и внутренних примет его характера. Писал он и «накладывал резолюции» высшего государственного значения шариковой ручкой, которая еще не так давно стоила тридцать копеек. Но подпись «стоила» очень дорого — в положительном для просителей смысле (если означала согласие) и в отрицательном (если означала отказ).
Больным детям шариковая ручка в тот день, ни на миг не замешкавшись, открыла дорогу к бесплатным целительным средствам и, стало быть, к излечению, а то и спасению. Глава правительства часто, почти при любом разговоре — и в тот
154
давний день тоже — с нежностью вспоминал и о своих собственных сыновьях...
Я не раз уже писал, что хороший человек непременно сберегает что-то от своего детства: открытость и непосредственность, или улыбку, или походку (в буквальном, а иногда — в более широком смысле). Егор Гайдар, невзирая на высокий чин, детство в себе сберег... И любовь к детству тоже.
Ему предъявляют много претензий. Не мне судить, насколько они справедливы... Я поведал лишь о том, чему был свидетель.
ВИКТОРИЯ
С голоса
Королевское имя Виктория ее происхождению полностью соответствовало: она была королевским пуделем. Но на улице ее величество превращалось в телохранительницу. Я ее прогуливала, а она меня охраняла. Тем более что уличные приставания однообразно начинались с Виктории: «Какой породы ваша собака?», «А как вашу собаку зовут?».
Виктория начинала рычать. Избавляя меня от необходимости делать это самой.
Я лишь предупреждала:
— Еще слово — и она разорвет вас на части!
Приставалы не так сильно терзались своими желаниями, чтобы пойти на буквальное растерзание... Виктория являла собой телохранительницу еще и потому, что именно на тело мужские взгляды и посягали. Я же всегда хотела, чтобы фигуру видели во мне, а не только в моей фигуре. Пустопорожними заигрываниями я была сыта — и на улице и в своей личной судьбе.
Одна из двух моих комнат принадлежала Виктории. Там расположилось ее королевское ложе. А мой одинокий диван находился в соседней комнате.
Ложе Виктории выглядело раздольным, так как она была значительной не по одному лишь происхождению своему, но также и по своим размерам.
Мама моя обитала на той же лестничной площадке, но в другой, однокомнатной квартире: чтобы не мешать мне «строить личную жизнь». На должность архитектора моей жизни она не претендовала. Но время от времени информировала:
155
— В нашем доме удивительно прочные стены: я совершенно не слышу, что у тебя происходит.
Слышать-то было нечего! Так что зря она меня успокаивала. Из романсов, которые мама знала, в моем присутствии она чаще всего напевала «А годы проходят, все лучшие годы...». Из народных премудростей же мама выбрала поговорку: «Не родись красивой, а родись счастливой».
— Какой родилась, такой и родилась! — как-то ответила я. — Ты ведь рожала...
— Тебе даровано и то и другое. Но одним из даров ты почему-то пренебрегаешь!
Виктория же и дома ревниво следила за моей невинностью. Маму это решительно не устраивало. Расставшись с отцом и рано отказавшись от своей женской доли, она целиком сосредоточилась на моей.
Поравнявшись с нами, о н погладил Викторию как-то так, что она улыбнулась. Она умела улыбаться, хмуриться и даже кокетничать.
— Я могу помочь вашей собаке, — сказал о н. — У нее чуть-чуть повреждена задняя левая нога. — О н назвал лапу ногой. — Думаю, врожденный дефект.
— Как вы заметили?
Фраза его была необычной — и я необычно отреагировала.
— Замечать подобное — это моя обязанность.
— Обязанность?
— Поскольку я ветеринар.
О н так притронулся к бывшей лапе, ставшей ногой, будто с Викторией поздоровался. А она, вместо того, чтобы оборонять меня и себя, стала кокетничать: ушами, хвостом. Столько лет отвергала уличные знакомства — и вдруг... Тогда и я активней вступила в общение:
— Нам не рекомендовали оперировать ее лапу. То есть, простите, ногу. Это ей не мешает.
— Смотря в чем! Получить Золотую медаль помешает.
— Зачем ей медаль?
— Каждый должен получить то, что ему положено. Дарованиями и природой...
— Ей, значит, положено?
О н погладил Викторию по голове, задержавшись в том месте, на которое напрашивалась корона. Слегка почесал ее за породистым ухом. Странно, но я в тот миг позавидовала соба-
156
ке. Что за магия была в его ласке, если она передалась мне на расстоянии?
Потом он заглянул ей в лицо, которое я уже и мысленно-то не посмела бы обозвать «мордой».
— Мне, ветеринару, не встречались еще, кажется, столь аристократические достоинства.
Я обратила к н с м у свой взор: мне показалось, что слова о тех, еще не встреченных и м, достоинствах относились и ко мне тоже.
— Собака никогда не посмеет хоть в чем-нибудь — по своей воле! — превзойти хозяйку. — О н не сказал «хозяина». — Она лишь стремится быть на нее похожей.
Стало быть, аристократические качества о н узрел и во мне? Если она была на меня похожа... Первая догадка моя как бы исподволь подтверждалась.
— Оттого, что хозяйку она превзойти не в силах, собака испытывает безграничную гордость. Какую человек не проявит! Ибо ей незнакома зависть.
Слово «собака» о н употреблял в единственном числе и как бы с буквы заглавной: оно стало для него символом.
— Собака, давно уж известно, олицетворяет собою верность. На предательство она, в отличие от людей, не способна.
Сравнения собаки с людьми для него, похоже, всегда были в пользу собаки. Судя по интонации, предательство о н презирал. Чужое, как все, или свое тоже? Мне хотелось, чтобы коварства, из-за коих иллюзии мои не раз разлетались в мелкие дребезги, были ему чужды. Как собаке, превратившейся для него в символ.
— Вы разговариваете с ней, послышалсь мне, по-английски?
— Вам не послышалось.
— А почему не по-русски?
— Ну, как объяснить... Во-первых, именем ее обладали английские королевы. А во-вторых, это дает нам с Викторией возможность секретничать.
— Виктория?.. Я издали разобрал. Хорошо, если имя не противоречит облику его обладателя. Когда слышишь, к примеру, Екатерина, хочется добавить — великая или хотя бы: значительная, незаурядная. Если же это как-то не добавляется, ощущаешь неудобство. Вы замечали? Но ваша Виктория — прирожденная победительница. Полностью соответствует имени и вообще...
157
О н хотел сказать «и хозяйке», а по скромности сказал — «и вообще». Так мне подумалось.
— Английский — это ваша профессия? Как о н сумел угадать?
— Я — переводчица.
— В какой-нибудь фирме?
— Нет, перевожу я литературу. — И уточнила: — Предпочтительно классическую...
Мне хотелось повыгодней выглядеть. Затем, внезапно для себя самой, сообщила:
— Поэтому я почти всегда дома.
Чтобы фраза не выглядела обнаженной и беззащитной, я вдогонку дополнила:
— Английскую классику боготворю уже больше четверти века. Почти с рождения... — Попутно и невзначай я обозначила возраст. Это тоже показалось мне выгодным, ибо он был лет на пятнадцать старше. — Вот и Викторию иностранному языку обучаю.
— Такое имя обязывает. И ей будет принадлежать победа. А в результате, Золотая медаль! Но сначала я устраню врожденный дефект.
— Она привыкла к нему.
— К дефектам и бедам нельзя привыкать. — Словно бы о н догадался, что я с неудачами и дефектами жизни своей смирилась. — Вы не возражаете, если я запишу номер вашего телефона?
«Так вот для чего он все-таки... завел разговор! Может, рано смиряться?» — возбужденно подумала я. Банальные притязания, которые травмировали не ногу, а душу, тоже были ему чужды.
Я чересчур поспешно произнесла номер своего телефона и напомнила, что «почти всегда дома».
О н не отвечал моим критериям мужского очарования. Но я преисполнилась благодарности к Виктории, которая, как я понимала, помогла с м у замаскированно проявить свой интерес ко мне.
О н не располагал внешней мощью и той нахрапистостью, которую я прежде не раз принимала за неукротимую страсть, рожденную возвышенным чувством. Но силою — спокойной и деликатной — о н обладал. И та сила, коей о н владел, овладевала мною. При всей ее деликатности... Да еще светился, не ослепляя самоуверенностью, с г о ум. И была в н с м редкая непохожесть на всех остальных. Так уж мигом все разглядела?
158
Мне не пришлось разглядывать, поскольку о н ничего не скрывал. Перед силою той, что не шла в атаку, я начинала слабеть и сдаваться.
Виктория это почувствовала: неуверенно, но все-таки зарычала. На меня... Это случилось впервые. Она устроила негромкую сцену ревности. Кого и к кому Виктория ревновала? Мне почудилось, что не только меня к н с м у, но и е г о ко мне. О н, казалось, завоевал нас обеих: мирное оружие бывает действенней агрессивного. Обе мы в одночасье сделались жертвами. Но ведь и о н тоже, я заметила, хоть пока еще жертвой не пал... но припадать в мою сторону начал.
Иногда о н прогуливал Викторию сам, без меня, в качестве будущей пациентки: у них возникали какие-то свои, предоперационные, разговоры.
— Я беседую с ней по-русски. Не возражаете? Как-то сердечнее получается...
Противиться ему — да и только ли в этом? — я уже не могла.
Каждый раз, возвращаясь, о н говорил:
— Она без вас очень скучает!
Шутливостью прикрывалась серьезность, а «она» подменяла «мы».
«Не уходит ли он с ней вообще для того, чтобы, вернувшись, произнести эту фразу?» Догадки мои, словно объединяясь, понемногу становились уверенностью.
Как заядлая собачница, я общалась с другими заядлыми, которые все друг про друга знали. Они принялись меня добивать.
— Вы с н и м познакомились? О н будет Викторию оперировать? Вам сказочно повезло! Это не целитель, а исцелитель. А уж человек! А уж мужчина...
Пожалели бы меня — гадость бы какую-нибудь о нем рассказали! Похоже, мы тонули коллективно, втроем: я, о н и Виктория. Опасное было погружение. Но и блаженное...
Хирургическое вмешательство в здоровье Виктории оказалось чудодейственно-деликатным, как все, что о н делал. Тем не менее о н задержал ее в своей ветеринарной клинике на «послеоперационный период». А мне разрешил навещать ее ежедневно. Верней же сказать, попросил. Такую я уловила тональность... Ведь мои встречи с Викторией означали и встречи с н и м. О н, таким образом, хоть все еще оконча-
159
тельно и не пал жертвой, но припадал ко мне все заметнее. И я в ответ проводила с ней — и с н и м! — все дни напролет, до позднего вечера.
— Может, вы хотите остаться с ней на ночь? — однажды предложил о н.
«Тогда и я здесь останусь», — услышалось мне в е г о голосе. Но кругом были медсестры, ночные дежурные. «А утром я предстану пред н и м неубранной, не принявшей душ... И вообще не в том виде. Нет, начинать надо не с этого!»
Рано утром ко мне явятся за переводом, — предъявила я наспех выдуманную причину.
— Совсем... рано?
В е г о вопросе мне привиделось беспокойство: кто смеет являться ко мне на рассвете?
— Забежит курьер по дороге в издательство. Как обычно.
— А что вы перевели, если не тайна?
— Чарльза Диккенса! — бухнула я. Хотя Диккенс был известен от корки до корки на всех языках. И в дополнительных переводах уже не нуждался.
— Это мой любимый писатель, — сказал о н. — Очень любимый... Пишет про детей. А значит, и про собак, которых дети так любят.
Я не сомневалась, что слово «любовь» так или иначе в наших разговорах начнет присутствовать. Собачницы меж тем нагнетали:
— Оперироваться у н е г о — одно наслаждение. Легли бы с удовольствием сами. А уж какой человек... Таких больше нет! Можно верить каждому е г о слову.
Я верила не только е г о словам, но даже е г о намекам.
О н предписал Виктории и дома еще неделю «полеживать». Но когда впервые после работы зашел к нам, чтобы проведать, она не по-королевски сорвалась со своего ложа, забыв про боль и незажившую рану. Поднялась на задние лапы, которые теперь именовались ногами, и дотянулась до е г о губ.
Мне это было не очень приятно, потому что о н до моих губ еще не пытался дотягиваться.
По-русски о н разъяснил ей, что так поступать рана не позволяет. Он-то рад бы позволить, но... Тогда она стала ждать е г о посещений, не покидая своего раздольного ложа.
Зато после уже окрепшая Виктория загодя, предваряя е г о появление, оккупировала прихожую и рассматривала себя в
160
зеркале. Я доверяла часам, а Виктория своему чутью. Удивительно, но это всегда совпадало.
— Очень тронут, что вы меня ждете, — всякий раз благодарил о н.
Хоть я лично до звонка не появлялась в прихожей и дверь в очумелом нетерпении не скребла. О н, однако, не сомневался, что я тоже ждала. «Потому что и сам торопился!» Тайное все отчетливей для меня становилось явным.
Наедине Виктория е г о со мною категорически не оставляла. И сперва это меня устраивало: я уловила, что через Викторию е м у сподручней выражать свое отношение ко мне.
— Как изящно о н это делает! — восхищалась моя мудрая мама.
Она тоже присутствовала: либо уж наедине, либо... не имеет значения.
Есть люди, которым покоряются все. По-разному, в разные сроки, но покоряются. Выражение «любовь с первого взгляда» раньше казалось мне пошлым. И вдруг перестало казаться. Быть может, оно было преувеличением, но вовсе не пошлостью.
Маме нравился наш квартет: я и о н, она и Виктория. Но, наконец, нетерпеливой маме придумалось, что тесная стыковка наших квартир не стыкуется с его деликатностью. И, вероятно, сдерживает события. На всякий случай, профилактически, мама решила е г о подтолкнуть:
— Дом у нас, хоть и старый, но возрасту совершенно не поддается. Сейчас уж таких не строят! Особенно же надежны и непроницаемы — для любых звуков — его стены: в своей квартире никак не узнаешь, что происходит в соседней. Даже чуткое материнское ухо не слышит. Я, конечно, и не прислушиваюсь, а без предупреждения не вторгаюсь. — Спохватившись, она доверительно пояснила: — Когда дочь занята переводами, ее лучше не отвлекать!
Мы с мамой не могли нарадоваться, как искусно он признавался мне в своем неравнодушии, будто бы признаваясь Виктории:
— Собака очень сближает людей. Если любишь собаку, начинаешь любить и ее хозяйку.
Не сказал же «хозяина»! В который уж раз...
— Наблюдая за вашей Викторией, понимаешь, что женская красота преображает дом... И даже жизнь человеческую.
О н не сказал, что собачью. И что на такое способна соба-
161
чья краса. А подчеркнул — я ухватила: особенно подчеркнул! — что на это способна исключительно красота женская. А женщин в квартире было лишь две. Вряд ли о н имел в виду мою маму.
О н захотел как бы подтвердить мои мысли:
— Невозможно противостоять прелести...
И обнял Викторию так, что я снова ей позавидовала.
— Царица ты наша! Царица...
О н не только беседовал с ней по-русски, но и восторгался ею на русский лад. А глядел на меня! «Невозможно противостоять прелести.» Я привыкла повторять в уме е г о фразы. И сразу вспомнила, что в институте профессор называл меня «милой прелестницей». Даже старик-профессор высказывался «напрямую»! «А о н... долго ли еще будет объясняться иносказательно? И иносказательно действовать? А точнее, бездействовать?» — вопрошала я молча, не теряя достоинства.
— Недавно я стал вдовцом, — медленно произнес о н. Ощутив, наверно, молчаливое мое напряжение.
И в этом случае деликатность избежала прямолинейности. Не сказал — «умерла жена». Отыскал менее резкую фразу. «Сердцу не прикажешь», но словам приказать можно.
— Стыжусь своей увлеченности через столь короткое время... — промолвил он еще тише и медленнее.
«Увлеченности?! Неужто иносказание и намеки начали отступать?» — возликовала я про себя.
Мама за это преподнесла ему комплимент:
— После вашего хирургического вмешательства Виктория стала настоящею королевой!
— Такими царицами не становятся — ими рождаются, — осторожно возразил о н. — Царица ты наша! Царица...
Опять о н обнял Викторию. А смотрел опять на меня.
«Стыжусь... Через столь короткое время...» Я приняла его нравственную тактичность — и обрела готовность не торопиться.
— О н решил вместе с вами представлять Викторию на ближайшей собачьей выставке. Ультрапрестижной! — торжественно известила меня коллега-собачница о том, что я и без нее знала. — С а м готовит ее к состязанию и с а м же представит ее зрителям и жюри. Так она е м у нравится! Или ее хозяйка? — Последнее предположение стали высказывать часто. Но каждый раз я воспринимала его, как сюрприз. — Так что Золотая медаль, считайте, у вас в кармане.
Медали в моем кармане не оказалось — она оказалась на шее Виктории.
162
Поздравляя меня, о н сказал:
— Ну, что ж, не буду больше надоедать: ваша собака не только здорова, но и стала медаленосцем. Люблю, когда верх берет справедливость. Виктория одержала викторию! Я очень к ней привязался... Думаю, мы с вами прощаемся не насовсем. Если Виктория пожелает вступить в мой Клуб четвероногих друзей... — «Не четверолапых, а четвероногих», механически отметила я. — Если Виктория пожелает, мы порой будем видеться. Клуб, о котором я, впрочем, уже рассказывал, — это очень дорогое мне детище. Передайте привет маме... И скажите, что я полюбил ваш дом.
О н любил справедливость, любил Викторию, любил свой Клуб. И даже наш дом... Только ко мне о н, оказывается, был равнодушен.
Да, то были виктория Виктории, ее победа... и мое поражение. Откуда я взяла, что он высказывался иносказательно? Слышала то, что мечтала услышать? «Улавливала» то, что жаждала уловить? Как страстно выдавала я желаемое за действительное! «Можно верить каждому е г о слову», — убеждали меня. Но не тем словам, которые я сама подразумевала. Додумывала... И кончина жены е г о была ни при чем. «Стыжусь своей увлеченности...» Клубом, царицей и ультрапрестижной выставкой... А я-то вообразила! Умеем же мы подсовывать выгодные для нас аргументы. Но обманывать самого себя все же не так грешно, как других. Или, уж во всяком случае, это грех лишь по отношению к себе самому.
Уже дома Виктория, сообразив что-то, бросилась мне в ноги, будто вымаливая прощение. А потом, поднявшись, стала слизывать и глотать мои слезы. Она способна была на метания, даже на раздвоение, но только не на предательство. Не на измену... Потому что была собакой.
Мы с Викторией по-прежнему выходили гулять вдвоем. К нам опять пристраивались мужчины:
— Какой породы ваша собака? У нее Золотая медаль?!
Повод для отвлекающих маневров прибавился.
Виктория в ответ начинала рычать. Но как-то уныло, печально. Рычала она или выла? Трудно было определить. И, несмотря на мольбы о прощении, искала его тоскующими глазами.
А я беззвучно ей подвывала.
Май 1997 г.
163
ОТЕЛЬ «ЕСЕНИА», НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ СВИДАНИЕ
И ПРОГУЛКИ С КОСЫГИНЫМ
Из блокнота
Весной пятьдесят восьмого года меня, в ту пору молодого, попросили срочно прибыть с Сергеем Михалковым, тогда уже знаменитым, в Министерство культуры СССР.
Михалков был за городом, на даче — и в главное культурное ведомство воскресным полднем (руководители непременно и показушно восседали в служебных креслах и по выходным дням!) я отправился один.
Министром был Николай Александрович Михайлов... Михалков рассказывал, что сходство их фамилий однажды подвело Николая Александровича (правда, тогда он еще не повелевал культурой, а владычествовал в комсомоле). Там, в комсомоле, он, кстати, принародно оклеветал и отправил на эшафот своего предшественника Александра Косарева, который до того, в свою очередь, тоже кое-кого оговорил. Так вот... В Москву — кажется, впервые — прибыл Мао Цзедун. В «Метрополе» был устроен вечерний правительственный прием. Когда политическое пиршество было в разгаре, с той стороны, где попеременно поднимали бокалы два кормчих — Сталин и Мао, — донеслось неожиданное: «Михалков!» Но Николаю Александровичу почудилось: «Михайлов» (своя рубашка ближе к телу, а своя фамилия — к слуху!). Первый секретарь ЦК ВЛКСМ рванулся было к центру события... Однако до неестественности штатские молодые люди его осадили. И открыли прямой коридор Михалкову.
Сергей Владимирович, пронзаемый завистливыми взглядами, возник между двумя кормчими. И Сталин негромко — но так, что услышал весь зал — изрек: «Это наш великий детский поэт! По-моему, он нас всех считает детьми...» Последнюю фразу можно было бы истолковать как некое обвинение, если бы не снисходительный тон. Сергей Владимирович, недолго думая, произнес беспроигрышный тост за советских и китайских детей. Поднять бокал за обоих кормчих было неосмотрительно и крайне опасно: получилось бы, что вожди как бы равновелики, а это противоречило... Одним словом, Китай со своим миллиардным населением все же считался младшим братом. Да и как можно было Сталина с кем-то «объединять»! А тут и один и другой остались довольны: кто откажется пожелать счастья детям? Михалков же произнес свой тост не только осмотрительно, но и с абсолютной искренностью!
Вернусь, однако, ко дню моего воскресного посещения ми-
164
нистра культуры... Того самого, который (и это не анекдот!) сказал как-то Эмилю Гилельсу: «Возьмите свою скрипочку и отправляйтесь в ответственные гастроли: мы вам доверяем!» И это про него говорили: «Пугает не министерство культуры, а культура министра!»
Николай Александрович только что отобедал: губошлепистый рот его был отполирован мясным жиром или деликатесной подливкой, а лунообразное лицо — сытым благодушием. Он вызвал своего заместителя по киноделам Николая Данилова. В свое время Николай Николаевич был ответственным редактором «Пионерской правды», потом — «Комсомолки», потом — секретарем горкома партии. Так что к кинематографу имел самое непосредственное отношение... Он объяснил, что два чеха написали политически очень ценный, но художественно весьма слабый сценарий о неразрывном братстве советских и чехословацких детей и что этот плохой сценарий мы с Михалковым должны превратить в хороший.
— Воспримите это как ответственное партийное поручение, — напутствовал министр.
Я пообещал, что воспримем... В зарубежье тогда еще писателей командировали редко, нам же предстояли многочисленные поездки в Прагу, которую все именовали «златой» и «совершенной красавицей». Фильм должна была снимать Татьяна Лиознова. Поначалу так было решено киностудией детских и юношеских фильмов имени М. Горького. Но министерство изменило взглядам Алексея Максимовича, имя которого носила студия. Горький утверждал, что «евреи — это дрожжи человечества: их мало, но на них всходит многое». В министерстве же принялись изучать, кому — в смысле национальном — доверили создавать совместный советско-чехословацкий фильм, и обнаружили, что, несмотря на наши с Лиозновой абсолютно славянские имена, отчества и фамилии, оба мы, к несчастью, евреи. И Таню от фильма отключили: она внезапно оказалась остро необходимой на родной советской земле... Так впервые я, обвиненный на кровавой заре пятидесятых в попытке создать, вместе с Кассилем, сионистский центр в Союзе писателей, столкнулся с государственным антисемитизмом хрущевских времен, уже после XX съезда. Снимать фильм перепоручили Льву Кулиджанову: армянин оказался предпочтительней еврейки. Лев Александрович, впоследствии многолетний первый секретарь Союза кинематографистов, презиравший черносотенцев, начал возмущаться, отказываться. Но Таня Лиознова сама его попросила: «Лучше вы, чем какой-нибудь юдофоб! Меня все равно не пошлют...» Потом уж Лиознова прослави-
165
лась «Семнадцатью мгновениями весны», «Тремя тополями на Плющихе» — и мы с ней вспоминали о той истории с юмором. Но тогда юмора в нашем настроении не наблюдалось.
Кинорежиссер Лев Кулиджанов встретил нас с Сергеем Михалковым на пражском аэродроме и сообщил, что творить сценарий нам предстоит в Карловых Варах (чехи решили, что там комфортнее), а он тем временем ознакомится со студией « Барандов-фильм».
Однако пару дней мы все же провели в гостинице «Ялта», что в самом центре, недалеко от «Пражского града». В первый же вечер братское министерство культуры устроило торжественный вечер в ресторане «Барбара». Кажется, из всех возможных сфер были приглашены «самые-самые». Началось с традиционного тоста, воспроизводившего «исторические слова» уже покойного в ту пору Клемента Готвальда: «С Советским Союзом — на вечные времена!» Готвальд, Ракоши, Георгиу-Деж, Вылко Червенков... Каждый изображал из себя «министалина»: сжимал страну-вотчину в мертвящих объятиях диктатуры, измышлял измены, предательства, заговоры, нагнетал безумие политическими процессами.
И вдруг, как бы вопреки всему этому, ко мне независимой походкой подошла одна из знаменитейших в Чехословакии, да и во всем мире, гимнасток и поблагодарила за то, что ее сын полюбил мою повесть, переведенную и изданную в Праге.
— Давайте разрядим обстановку — и потанцуем, — предложила олимпийская чемпионка.
Она была гордостью нации — и имела право позволить себе танец сразу после торжественного политического тоста.
Я не был готов к нашему с ней соло (все остальные сосредоточились на еде), но и отказаться — в свои тогдашние тридцать лет — тоже не смог.
Она женственно, но и по-чемпионски властно заключила мою руку в блаженный плен — и хоть внешне «вел» ее в танце я, на самом деле она определяла мои дилетантские передвижения по залу.
Приглашенные оторвались от блюд и вперились глазами в нас или, точнее, в нее, словно присутствовали на спортивных состязаниях высшего ранга. Я заметил: чем меньше по численности народ, тем больше он гордится своими знаменитостями.
Ее манеры, однако, постепенно погружали зал в интимность и томность. Согласуясь с этим настроением, она шепотом предложила показать мне на следующий день Прагу «так, как не покажет никто», а потом и вместе, вдвоем, пообедать.
166
Когда в гостинице, перед сном, я сообщил об этом Михалкову, он покачал головой... Хотя она, быть может, ничего такого не имела в виду.
За четверть часа до назначенного «свидания» я направился к двери. Но она оказалась запертой. Подергал, подергал... Дверь даже не дрогнула. Ключ же, как обнаружилось, Михалков, покидая номер, унес. Я стал стучать, звать на выручку. В коридоре никто не откликнулся. Позвонил в администрацию, но русским там никто не владел (или, как случалось, не желал обнаруживать, что владеет).
Тогда я подошел к окну... И увидел, что чемпионка, крутя пальчиком ключи от своей припаркованной «Татры», уже меня ждет. Прохожие — почти все без исключения — узнавали ее, останавливались, здоровались, задавали вопросы. И пальчик крутил автоключи все нетерпеливее, все нервнее. Не мог же я с высоты шестого этажа прокричать или пропеть, как плененный князь: «О, дайте, дайте мне свободу!» Это унизило бы мое достоинство, да и к ней, столь прославленной, привлекло бы «нездоровое» любопытство.
Что было делать? Она решительно ответила на этот вопрос... Подождав еще минут десять, гневно распахнула дверцу «Татры», еще более гневно захлопнула ее и презрительно, как мне показалось, прошуршав шинами, умчалась.
Через полчаса явился Сергей Владимирович.
— Для чего ты это сделал?
— А для того, чтобы ты и впредь мог сюда приезжать, — предварительно запустив на полную мощность радио, объяснил он. — Уединяться с иностранкой!.. Да еще с такой! Ты вообще-то соображаешь?
Сергей Владимирович никогда не был трусом. Но понимал, что даже явно наступившая «оттепель» не мешает двум тоталитарным государствам (братьям «на вечные времена»!) бесцеремонно вторгаться в личную жизнь своих граждан. Не о себе пекся Михалков, а обо мне. Хотя, напомню, гимнастка и я ничего такого всерьез еще не замыслили.
О Михалкове... Прежде всего он творил и творит для детей. А их не проведешь, не обманешь, не заставишь подчиниться чьему-то чужому мнению — вот почему и родилась народная мудрость: «Устами младенца глаголет истина...» Ну, а дети не просто любят Сергея Владимировича — он их кумир (полагаю, что художники кумирами становиться имеют
167
право). Дети знают десятки его стихов наизусть. Он может стоять на сцене не один час и читать свои стихотворения вместе со всем юным залом — большим, огромным, гигантским. Каждый ребенок, или почти каждый, будет, упреждая поэта, произносить строчку за строчкой... Запоминаемость детских стихов наизусть — одна из загадочных литературных тайн: азбуку еще подчас не постигли, а ни единой строчки не перепутают, не исказят. Той неведомой тайной в совершенстве владели классики поэзии для детей — Самуил Маршак, Корней Чуковский, Агния Барто... О Михалкове же Маршак сказал так (это было в присутствии Льва Кассиля — и он не раз цитировал ту фразу Самуила Яковлевича): «Михалков — самый выдающийся русский поэт для детей: у него самая естественная детская интонация. И еще он — второй баснописец на Руси после Крылова». Я уже цитировал эти слова, но не откажу себе в удовольствии процитировать вновь... Как бы в доказательство Маршак, глуховато похохатывая, прочитал михалковскую басню из четырех строк:
— Где наш отец? — выспрашивал упрямо
Сын Червячок у мамы Червяка.
— Он — на рыбалке, — отвечала мама.
Как полуправда к истине близка!
Самуил Яковлевич был крайне взыскателен и даже придирчив, когда речь шла о самом святом для него — о литературе.
Многовато я цитирую знаменитых и выдающихся — но, что поделаешь, за их спиной, а вернее, «за их мудростью» уверенней себя чувствуешь.
Я бы еще мог добавить, что Михалков чудодейственный русский сказочник, что он создал репертуар русского театра для малышей: «Зайка-зазнайка», «Сомбреро», «Сон с продолжением», «Праздник непослушания»...
Да что говорить: по достоинству известен он, по достоинству! Как бы это кого-то не коробило... Не один «Дядя Степа» у него на счету, как некоторые хотят изобразить, а минимум три тома популярнейших стихов, сказок и басен! И помнить столь многие из них — по сути или дословно — силой никого не обяжешь... Детская интонация для Сергея Владимировича органична, естественна, потому что сам он... ребенок. И в свои восемьдесят с лишним лет тоже! Нет, не от того, что «впал в детство», а потому, что никогда с ним и не расставался.
Последнее качество бывает и опасным: порой его поступки, решения, симпатии и антипатии зависят от тех, кто оказывается с ним рядом, от тех, под чье влияние он попадает. Простим ему это... За то, что в жизни своей — у меня на глазах! — он
168
совершил несметное количество добрых поступков. К несчастью, многим свойственно до гробового часа помнить любое — даже комариное! — зло и забывать любое — даже спасительное! — добро. Недаром же в девятом круге Дантова ада мучаются даже не убийцы, а «предатели благодетелей». Думаю, если выстроить всех, кому Михалков помог издать книгу, вернуть здоровье — свое или детей и родителей, кого спас от несправедливых расправ, ради кого проложил дорогу на сцену или экран крамольным, с точки зрения бывшей цензуры, произведениям (достаточно вспомнить фильм Роллана Быкова «Чучело») — так вот, если выстроить такую очередь, она протянется от его дома на улице Чайковского — по Садовому кольцу аж до памятника Маяковскому. А может, и дальше... Знаю, что отваживался он обращаться и к Лаврентию Берии с ходатайствами и поручительствами касательно репрессированных. Однажды столь дьявольски опасный шеф «государственной безопасности» спросил: «А сколько дали этому... за кого ты просишь?» — «Пять лет лагерей». — «И ты из-за такой чепухи меня беспокоишь? Ну, проверят как следует...» И вдруг: «А если мы вас отсюда не выпустим?»
Позже обнаружилось, что Берия Михалкова ненавидел: он ощутил себя прототипом одного из главных персонажей басни «Лиса и Бобер». Тем более что Кукрыниксы при первой публикации в газете изобразили Бобра в пенсне и действительно весьма похожим на Лаврентия Павловича. Младший брат Михалкова, легендарно прошедший всю войну, был тогда уже репрессирован и, так сказать, отблагодарен за свой героизм... Михалковские ходатайства и тут наткнулись на глухую (к просьбам и мольбам!) стену.
По курортным путевкам советские люди отдыхали и лечились в карловарском санатории «Империал». Поэтому хозяева разместили нас в отеле «Есениа»: чтобы родные, нашенские курортники не мешали нам созидать. Один из бойких московских поэтов сочинил надрывное стихотворение о том, что в Чехословакии, вдали от Москвы и рязанского села Константинове, где родился великий Есенин, очень любят Сергея Александровича и даже назвали его именем гостиницу. «Есениа»... На самом же деле ее так назвали в память об известном чешском враче.
А рядом расположился правительственный санаторий «Бристоль», где вместе с семьей укреплял свое здоровье Алексей Николаевич Косыгин — в те годы советский вице-премьер, первый заместитель Хрущева.
169
Каждый день мы по три раза встречались с Косыгиным, путешествовали к минеральным источникам и обратно, по пути обменивались фразами. Именно фразами, потому что складный разговор с Алексеем Николаевичем как-то не клеился.
Ранее я слышал, что Косыгин резко отличается от остальных членов президиума ЦК КПСС: умом, необъятными экономическими знаниями и скромностью. Скромность действительно имела место. И мне сразу вспомнилось едкое наблюдение Гете: «Скромные люди чаще всего, я заметил, имеют полное основание быть скромными».
Но что-то все равно отличало Алексея Николаевича от простых смертных — даже скромничал он начальственно, быть может, помимо воли давая понять: да, я держусь с вами «на равных» — такова моя демократическая особенность. Таким образом, абсолютного равенства не получалось. Самые банальнейшие банальности он не говорил, а произносил, окрашивая любую тривиальность многозначительностью. Честное слово, не могу припомнить ни одного его умственного откровения или хотя бы любопытного сообщения. Он не смотрел в глаза собеседнику, а только себе под ноги, словно боялся споткнуться. Он также был начисто лишен чувства юмора. Мне думается, он вообще не умел улыбаться. Для Михалкова, который тогда остроумием фонтанировал (и в этом смысле тоже у Никиты и Андрея — отцовские гены), создавалась сложная обстановка.
Облегчал положение характер жены первого вице-премьера, а в грядущем многолетнего председателя Совета Министров СССР. В младые годы она, вероятно, «притянулась» к Алексею Николаевичу согласно закону о притяжении разноименных зарядов: была хохотушкой, а, внимая анекдотам, начинала смеяться сразу, с первых слов рассказчика, иногда заглушая концовку, в которой и был главный смак.
Дочь Людмила виделась в этой семье как бы центристкой: не такая мрачная, как отец, но и не такая смешливая, как мама. Позже она возглавляла Государственную библиотеку иностранной литературы, где проявила себя интеллектуалкой. В Карловых Варах она это свое качество утаивала.
— Посмотрите, Алексей Николаевич, какая у чехов разнообразная обувь! От этого кажется, что и походка у каждого иная, своя... — делился своими впечатлениями непосредственный Михалков. — Чехам достались все обувные фабрики Бати, которым уже сотня лет! И вот результат.
— А вы, Сергей Владимирович, только импортную обувь признаете? Отечественной пренебрегаете? Я вот пользуюсь
170
нашей, — ответствовал менее непосредственный вице-премьер. — И почему же только фабрики капиталиста Бати? Здесь и новые обувные предприятия появились. Я был министром легкой промышленности... Так что поверьте.
— А молодые чешки очень хорошенькие! — не унимался по-детски восторженный Михалков.
— Вы, я слышал, давно женаты, Сергей Владимирович? Да и возраст у нас с вами...
Вот такую Алексей Николаевич выдавал преснятину по каждому поводу. И правда, нечего вспомнить!
— Ну, тогда я расскажу анекдот, — хватался за спасательный круг Михалков.
— А это по части моей жены...
И он делал вид, что отключает свой слух: в самом понятии «анекдот» ему чудилось нечто предосудительное.
Пишу — и вспоминаю анекдот более позднего периода: «Начинаем радиопередачу «Спрашивай — отвечаем!» Василий Петров из Саратова спрашивает: «Кто, интересно, придумывает анекдоты, особенно политические?» Этот вопрос интересует также Юрия Андропова из Москвы».
Лет через десять я познакомился в писательском Доме творчества «Малеевка» с харьковским профессором Либерманом (к сожалению, не помню его имени-отчества). Он был тогда весьма популярен, поскольку выдвинул проект смелых и необычных экономических реформ. Термин «либерманизация производства» стал завсегдатаем на страницах газет, на устах ученых и «производственников».
— Как дела с вашими предложениями? — естественно, поинтересовался я.
— Похоронили, — ответил профессор.
— Как? Совсем? Кто?!
— Почти наглухо... А кто? Сам Алексей Николаевич Косыгин.
— Он?!
— Пригласил меня, похвалил проект... Потом говорит: «Мы используем половину ваших предложений». Я отвечаю: «Тогда уж лучше ничего не используйте! Разве можно разделить пополам человеческий организм и вообразить, что одна половина без другой будет нормально функционировать?» — «Вы стоите на личной точке зрения, а мы — на государственной...» Потом пожалел меня и добавил: «Когда-нибудь мы и остальное воплотим!» — «До этого я не доживу: стар уже». И полагаю, не доживет никто!
171
Конечно же либерманизация провалилась. И в том была отнюдь не вина умнейшего харьковского профессора! А вина режима, который, мне казалось, оценивал и подбирал руководителей по странному принципу: если не дурак, то уже мудрец. Подобным мудрецом и слыл Алексей Николаевич. Впрочем, был он на посту главы советского правительства — если сравнивать с другими «главами» — далеко (совсем далеко!) не худшим...
ИСТОРИИ С ВАЗАМИ, САМОЛЕТАМИ И СЛУЧАЙНОСТЬЮ
Из блокнота
В том же году, в тех же Карловых Варах произошел комичный, но и поучительный случай...
Мы с Михалковым продолжали пребывать в «Есениа» (считалось, что мы там только работаем), а поэт Расул Гамзатов и композитор Матвей Блантер с супругами были в санатории «Империал» (считалось, что они там только лечатся и отдыхают). Но кроме неусыпного «творческого труда» и неустанного отдыха, были еще и наши совместные, как бы профессиональные общения. Мы обсуждали события литературные, музыкальные, но, конечно, и политические. Было что обсудить... Два года назад нас обнадежил XX съезд. «Надежды юношей питают, отраду старцам подают...» Неосуществимые надежды были основным блюдом в нашем политическом рационе. Тем не менее всякий раз мы жаждали верить.
А около года спустя эту надежду захотел отобрать заговор, который, к общей радости, не удался. Не удался по причине почти случайной... Между заседаниями партийного пленума, в кремлевском туалете, уже фактически свергнутый Хрущев встретил маршала Жукова и трагично вибрирующим голосом произнес: «Георгий, спасай!..»
Маршал спас. За что в скором времени Хрущев сместил его с поста министра обороны и вывел из политбюро. Как вывел и Фурцеву, тоже его спасавшую... Вожди не любят испытывать к кому-либо благодарности: это чувство все обязаны испытывать по отношению к ним самим! Маршал не стал перерезать себе вены, как это пыталась сделать Екатерина Алексеевна, но обиду по-маршальски твердо в себя внедрил. И через много лет, когда нас с ним познакомили, сказал о Хрущеве: «Если бы он тогда меня не предал, я бы и в шестьдесят четвертом спас его от Брежнева и компании, как спас от компании Мо-лотова, Кагановича и Маленкова». До сих пор вновь и вновь
172
думаю, что Никите Сергеевичу не объяснили, а он в силу невежества своего не знал, что измена благодетелям — грех непрощаемый. Размышляю об этом часто потому, что, не победи неосталинисты в октябре шестьдесят четвертого (опять этот «октябрь»!), и многое могло бы повернуться иначе, благоприятнее для России...
Одним словом, нам было о чем побеседовать в Карловых Барах. Каждый вникал в политику по-своему: Михалков откровенно, не опасаясь «крамольных» мыслей, но иногда с детской доверчивостью меняя точки зрения (в зависимости от того, что высказывали его собеседники). Расул Гамзатов подкреплял свои мнения восточными афоризмами, неизменно приправленными юмором, а замечательный композитор-песенник то и дело примерял политику на ассортимент и цены в карловарских магазинах.
Как-то пригласили нас четверых выступать в клубе некоего «сверхсекретного объекта», находившегося неподалеку (где именно — об этом, естественно, умолчали!). На таинственном чешском «объекте» нам предстояло встретиться с... советскими специалистами. Впрочем, это было закономерно: братство «на вечные времена»! До шестьдесят восьмого и до Пражской весны, до укротительного марша советских танков оставалось еще десять лет...
Сильно соскучившиеся советские специалисты встретили нас не просто гостеприимно, а и помпезно. Требовали исполнять «на бис» стихи, басни, даже новеллы и, уж безусловно, блантеровские песни, начиная с «Катюши». А потом, конечно, на сцену взошли наиболее очаровательные из жен «специалистов» и вручили нам не только букеты, но и прославленные чешские вазы. Михалкову преподнесли сверкающий сосуд поражающе огромных размеров, а нам троим — сосуды поменьше, словно бы пригнувшиеся перед его царственной вазой.
На обратном пути, в машине, Блантер начал канючить:
— И здесь — чинопочитание! Даже в подарках нет равенства... А разве я в музыке меньше, чем ты, Сережа, в поэзии? Почему же твоя ваза должна быть в два раза больше? Чьи песни пели всем залом?
Выходя из машины, Михалков шепнул мне:
— Отдам ему свою вазу. Пусть берет! С ней еще на аэродроме будет кутерьма: перевес, упаковка... Поменяемся!
И Матвей Блантер поменялся.
Но каким же было его разочарование, когда утром в магазине мы обнаружили, что михалковская ваза в два раза выше,
173
но и в два раза дешевле наших (у нас был хрусталь, а у него — стекло).
— Ну уж нет: снова меняться не буду! Шиш! Надо его проучить.
Песни Матвея Блантера не стали хуже из-за этой незначительной истории с вазами. И из-за некоторых черт его характера, которые сделали возможной ту давнюю историю, песни тоже не стали хуже. Их пела вся страна и, как говорилось, «весь фронт» в годы Отечественной. Война с песнями, конечно, слабо ассоциируется. Но если все же солдаты кого-то и пели, то Блантера — без сомнения. Это была тоже «массовая культура», но не замаранная пошлостью и спекулятивным эпатажем.
Недавно по российскому телевидению с осуждением и сожалением показали, быть может, самую заброшенную могилу на Новодевичьем кладбище. Могилу Матвея Блантера... Неужели «близкие и родные» мстят ему за какие-то прижизненные, уже истлевшие слабости? Тогда они сами достойны не только осуждения, но и презрения. Не он, а они.
Через год я снова встретился с семьей Гамзатовых. И опять на курорте. Но уже на советском, в Минеральных Водах. Встреча была вроде случайной, но если бы не она...
А случилось так. Друзья затащили меня осенью в Ессентуки. Я отбивался (терпеть не мог лечебных вод, лекарств и процедур, даже в Карловых Варах припадал к источникам не по собственной воле). Но заботливые приятели мне объяснили: раз уж припадал, надо продолжить, закрепить. Мое слабоволие позволило себя убедить... Но только я прибыл и приготовился «закреплять», как получил из Москвы срочную телеграмму: меня просили вернуться, чтобы провести по радио важную передачу: «Не отказывайтесь: это желание ваших читателей...» Не знаю, желали читатели моего возвращения в Москву или нет, но слабоволие снова сработало: я решил полететь. Приятели отговаривали, утверждали, что «лететь назад, если уж прилетел сюда, просто глупо». Однако же в одно утро, ставшее для меня незабываемым и фатальным, я оказался на аэродроме в Минеральных Водах.
«Билетов нет... — сообщили мне. — Но через полчаса совершит транзитную посадку самолет из Махачкалы. Двое выйдут, а вы сядете и полетите в Москву».
Самолет приземлился — и из него действительно вышли двое. Это был Расул и его умнейшая жена по имени Патимат. Я сразу заметил, что жена поэта беременна. Расул мечтал иметь сына, но Патимат, живущая прежде всего интересами
174
мужа и очень ему послушная, в данном случае трижды игнорировала его желание — и дарила поэту девочек (одну за другой!). А дочери потом преподносили Расулу внучек. Тогда это только еще начиналось...
Поскольку Гамзатовы выглядели как бы гостями, а я как бы хозяином, их встречавшим, я схватил два чемодана и ковер подмышку (был и ковер: восточные люди без подарков не приезжают!). Расулу достались еще два чемодана. Будущую мать мы к багажу не подпустили...
Обойдясь без носильщиков, мы устремились искать такси (Расул тогда еще не был многократным лауреатом и депутатом двух Верховных Советов, а также не был седым).
По дороге я рассказывал о последних московских сенсациях, литературных реалиях и слухах, а заодно запоем хвалил новый том философских гамзатовских стихов, от которых действительно, был в упоении.
Тяжесть чемоданов и любопытность моих сообщений, как равно и беременность Патимат, несколько замедляли наши передвижения. Пассажиры других самолетов успели раньше нас задрать руки, чтобы остановить машины с глазком травяного цвета и как бы подпоясанные шашечным поясом.
Сперва мы ждали своей очереди, а потом... проскочило мимо одно такси без пассажиров, минут через пять — другое, где водитель тоже восседал в одиночестве.
— Издеваются! — пробурчал Расул.
Третье такси притормозило. Водитель вышел из машины лишь для того, чтобы открыть багажник. Расул попросил помочь, но он ответил:
— Я не носильщик.
— Вот негодяй! — пробурчал Расул.
Мы принялись вдвоем распихивать багаж. На прощанье я стал желать счастливого отдыха, а они — по-восточному обстоятельно благодарить и желать мне радиоуспеха.
В аэропорту меня встретили ушатом ледяной воды:
— Ваш самолет улетел.
— Как улетел?!
— Мы трижды объявляли посадку. Но вы были за чертой аэропорта и — не услышали. Но ничего... Сейчас будет самолет из Грозного — на нем вы и полетите.
Подмосковный Внуковский аэропорт нас не принял... Пилот известил, что будем садиться в Быково.
175
«Но это далеко от города!», «Как оттуда доехать?», «И в чем вообще дело?» — всполошились мои соседки по авиасалону. Стюардесса потрясенно, вполголоса нам сообщила, что предыдущий, махачкалинский, самолет из Минеральных Вод... взорвался. Обледенел в полете, приземлился и взорвался уже на асфальтовой полосе.
А если бы Расул и Патимат не прилетели т е м рейсом? Если бы Патимат не была беременна? Если бы один из двух первых таксистов не проскочил мимо? Я бы сейчас не писал этих воспоминаний, не перелистывал бы свои годы...
«Издеваются!» — возмутился мой друг Расул. Но они не издевались — они, выходит, спасали меня. И продлили мою жизнь уже на тридцать шесть лет. Может, на то была Божья воля?
Если б знать, где найдешь, а где потеряешь? Что убьет, а что сохранит, спасет? Если бы знать...
ТРИУМФЫ И ТРАГЕДИИ
Из блокнота
Мария Миронова часто и настоятельно подчеркивает, что многим она и Андрей Миронов обязаны ее мужу и его отцу Александру Менакеру, которого давно уже нет на земле. Был он человеком не просто умным, а проницательно-мудрым. «Счастливой бывает, как правило, либо первая половина жизни, либо вторая, — цитирует Менакера его вдова. — А чтобы и первая и вторая половины удались? Это случается редко...»
В «первой половине» семья Мироновых-Менакеров процветала. И это было заслуженным процветанием. Кто в стране их не знал?! Такая популярность не может принадлежать людям искусства случайно. Художественный дар либо «у всех на виду» присутствует, либо «у всех на виду» отсутствует. Никакие ухищрения, никакая удача здесь не помогут.
Но потом ушел из жизни Менакер... А позже — Андрей. Пережить любого ребенка — это для матери беда непреодолимая. Потерять же такого сына, как Андрей?!
Помню, Агния Барто, словно о чем-то чудовищном, случившемся вчера или позавчера (хотя прошли десятилетия!), рассказывала мне, как 4 мая 1945 года, когда войска под водительством маршала Г. К. Жукова фактически уже взяли Берлин и до полной капитуляции фашизма остались считанные дни, ее сын Гарик — единственный и бесконечно любимый! —
176
отправился в праздничном настроении покататься на новом велосипеде. И его сбил грузовик...
Агния Львовна после похорон рухнула на диван и пролежала, отвернувшись к стене, полтора месяца. Наконец муж ее, выдающийся ученый, мягкий интеллигентный человек, Андрей Владимирович Щегляев, подошел сзади с пистолетом в руке (время-то было еще военное!) и внятно произнес: «Или ты сейчас же поднимешься, или я застрелю тебя, нашу дочь и себя». Она поднялась.
— Но пол мне все время казался огромной качающейся доской, будто палубой. «Сейчас я упаду... Сейчас я упаду...» — сами собой повторяли губы.
Она никогда не взваливала на юных читателей свои горести и беды. Но почти в каждом стихотворении было и что-то «замаскированно-личное». В те дни она написала (я привожу один из первых вариантов знаменитого стихотворения):
Идет бычок, качается,
Вздыхает на ходу:
«Ой, доска кончается!
Сейчас я упаду...»
Каждый день «падала» от непередаваемой муки и Мария Миронова, потерявшая сына и мужа. Прошли годы... И ныне, бросая вызов реакционерам, черносотенцам, она, мне чудится, выполняет их завет.
«Ах, если б навеки так было!» — восклицаем мы в объятиях счастья. Но чаще всего «навеки» не получается: либо первая половина, либо вторая... «Половины» определяют не количество лет и месяцев, а основные этапы людского существования, которых часто, я замечал, бывает именно два. Хотя иногда и на половину, даже на четверть человеческого существования счастье не выпадает...
Размышление Александра Менакера обнаруживает для меня свою трагическую мудрость, когда я думаю о семье Утесовых, с которой не просто был знаком — с которой дружил.
Но прежде с Леонидом Осиповичем, тогда он был еще Лёдей, подружилась моя бабушка Соня в Одессе... Ее знала вся Провиантская улица. Если кого-нибудь приковывал к постели тяжкий недуг, бабушка устанавливала возле больного свой бессонный и бескорыстный пост. Подросток Лёдя — будущий Утесов — наблюдал это и впоследствии ненавязчиво ставил бабушку Соню мне и себе в пример. Она была русоволосой и светлоглазой... Фашисты в ней еврейку не опознали. Но ее выдал один из тех, кому она в трудные для него часы и дни приходила на выручку. Тот, чьих детей она влюбляла в
177
литературу и музыку, и готовила к школьным экзаменам... Бабушку Соню, уже немощную, больную, усадили в тачку и увезли в гетто. Оттуда она не вернулась.
Об этом мне рассказал, побывав в послевоенной Одессе, Леонид Осипович. Впервые я видел его взбешенным: «Надо было... обязательно надо было разыскать негодяя! Но он, как оказалось, удрал вместе с фашистами... Вся Одесса мне помогала искать!»
Разумеется, помогала...
В Одессе Утесов был не только «почетным гражданином», но и гражданином обожаемым. Да и как было его не любить?!
Помню, на оборонную стройку, где я работал в годы войны, о чем уже рассказывал, приехал утесовский ансамбль. Для людей, терявших сознание от усталости, подкошенных дистрофией, наступил праздник: «Утесов приехал!», «Не может быть!..». Люди, почти разучившиеся улыбаться, заулыбались. Встречу с Леонидом Осиповичем они воспринимали как подарок из прежней, довоенной, жизни, в которой было много ужасного, но в которой было и такое чудо, как Леонид Утесов. Да, он слыл легендой...
Который уж раз утверждаю: главная примета истинных дарований — это непохожесть, неповторимость. Таких гигантов, как Василий Иванович Качалов, или Иван Михайлович Москвин, или Николай Павлович Хмелев, узнавали по первой же фразе, по первому произнесенному ими слову... Их голоса, интонации двойников не имели.
На Олимпе эстрадного искусства происходило то же самое: Райкина, Утесова, Шульженко узнавали, мне кажется, чуть ли не по дыханию...
Тот утесовский концерт военного времени начался в час ночи (до той поры, как я уже писал, строители беззаветно «вкалывали»). Казалось, все десятки тысяч героев и мучеников жаждали узреть Утесова «собственными глазами», все ринулись в Дом культуры. С согласия Государственного комитета обороны, переданного из Москвы (да, да, именно так!), эстрадный оркестр задержали у нас на неделю: его ждали ведь и другие предприятия, ждал фронт.
Из Дома культуры люди выходили, будто позабыв о том, что войска наши все еще отступали, что в бараках было холодно, а снег вокруг был черным из-за гари, которую вываливала из труб задыхавшаяся от перенапряжения ТЭЦ. Снег был черным из-за гари, которой люди дышали...
178
Первая половина жизни утесовской семьи — даже первые две трети! — были триумфальны. И очень счастливы. Я знал жену Леонида Осиповича, которая по-прежнему, как и в Одессе, звала его Лёдей. Знал я их дочь Эдит (красавицу Диту) и ее мужа, режиссера, создавшего шедевры научно-популярного кинематографа. Две квартиры были на одном этаже. Бесконечно любившие друг друга люди не расставались. Семьи не разлучались, даже квартиры не разлучались... Никто в этих семьях никогда не повышал голоса, не раздражался по второстепенным поводам — все друг о друге радели, друг друга берегли, а потому шутили, острили. И на каком уровне было то остроумие!
Леонид Осипович не сыпал анекдотами без разбору, а рассказывал их мастерски и исключительно «к случаю», стремясь сделать какой-нибудь полезный для окружающих вывод. Вот, помню, он рассказал...
— Прибегает еврей к врачу. В глазах ужас, а в горле — рыбья кость. «Ничего страшного, Рабинович, — успокаивает хирург. — Сейчас мы ее удалим...» И выполняет свое обещание. «Я вам все отдам! Я вам отдам все!» — вопит благодарный еврей. «Не надо отдавать все, — говорит врач. — Вы дайте мне то, что хотели дать, когда кость была т а м!»
— Увы, очень редко люди помнят, что они чувствовали, ощущали, «когда кость несчастья была там» и кто их от «кости избавил...» — подвел итог Леонид Осипович. А надо бы помнить.
Но потом... «Пришла беда — отворяй ворота!» За одним ударом судьбы следовал другой. Ушла из жизни жена Леонида Осиповича — душа веселого и доброго дома. Болезнь Паркинсона стала терзать мужа Диты: он потерял способность не только создавать фильмы, но и контролировать действия рук и ног. А затем... Инсульт свалил Эдит, парализовал ее, отнял дар речи. И самое страшное было то, что речь и движения болезнь отняла, а сознание, рассудок оставила. Эдит осознавала весь ужас, всю безысходность своего положения до последнего удара сердца.
На Леонида Осиповича навалилось тяжкое одиночество. Он, привыкший к непрерывному общению, старался вновь его обрести. Это были драматичные поиски... Утесов часто бывал в писательских Домах творчества. Поначалу его с удовольствием и даже восторженно окружали, от него ждали смешных историй, сногсшибательных анекдотов. А потом перестали ждать. Неиссякаемым источником развлечений он быть не мог...
Думаю, в любой цивилизованной стране знаменитость тако-
179
го масштаба продолжала бы оставаться в добром центре общественного, да и государственного, внимания. А тут... делали вид, что проявляют интерес, а в общем-то — «списали» на пенсию в буквальном смысле. Конечно, были и родные люди... Им спасибо. Но какая-то беспомощная растерянность, какое-то разочарование, мне казалось, не покидали Леонида Осиповича. Может, виной тому было официальное равнодушие? Государство не желало всерьез помнить его заслуг, которые были столь велики. Должное воздали лишь в некрологе.
Нет, он не искал благодарности, но и неблагодарности тоже не ждал.
В доме Владимира Коралли, первого мужа Шульженко, я впервые познакомился с Клавдией Ивановной.
Тоже была уникальность, тоже легенда. И тоже заслужила, чтобы на склоне лет заботу о ней проявляли не формально... Не только в дни немногих «торжественно-воспоминательных» концертов, а душевными поступками, действиями, эффективность которых хоть приблизительно была бы сопоставима с размером ее популярности и заслуг.
Но так о ней заботились лишь сын Гоша и бывший муж Владимир Коралли. Тот самый Коралли-Кемпер, тоже знаменитый одессит, который вместе с Клавдией Ивановной создал виртуозный эстрадный оркестр и им «художественно руководил».
В течение всей войны они выступали в блокадном Ленинграде и на Дороге жизни...
— Иногда в разгар концерта на Ладоге, — вспоминал Коралли, — где-то неподалеку лед пробивало фугаской — и грузовики со спасительными для Ленинграда продуктами и шоферами, конечно... шли ко дну. А концерт продолжался. Такие на войне были традиции.
Сын Гоша, мальчик, бесстрашно оставался рядом с родителями.
В финале Клавиной жизни все они вновь оказались вместе. Втроем... Я бы добавил: фактически только втроем. Хотя ее знала и боготворила вся страна! Но между артистом и страной вставали «чиновники от культуры», которые должны были чему-то «способствовать», «содействовать». Должны были, но, увы...
«Нам песня строить и жить помогает», — эта строка из утесовской песни могла бы стать эпиграфом и к финалу его собственного бытия и актерского бытия Клавдии Шульженко. А порой становилась как бы насмешкой.
«Строить и жить помогает...» Она скончалась в сверхскромной, на свои средства построенной, квартире. Незадолго
180
до того Клавдию Ивановну настиг неотступный, жесточайший склероз. В поликлинику и больницу ее сопровождали только сын Гоша и Владимир Коралли. А Леонида Осиповича в конце жизни сопровождали внимание нескольких близких людей и отсутствие того внимания, которое не имело права его покидать. Стало быть, жить в конце жизни песня не помогла.
«Песня о Родине», музыка которой принадлежит выдающемуся, на мой взгляд, композитору Исааку Осиповичу Дунаевскому, годами звучала как главная ода «социалистическому отечеству». Это, впрочем, ничуть не мешало публиковать во времена расправ с «космополитами» погромные статьи и о нем. Один из таких пасквилей, помню, назывался «Иссяк Осипович».
Первое, чего требовал строй от его «воспевателей», — это абсолютное послушание. Известен факт, который стал анекдотом... На одном из правительственных приемов два известных деятеля культуры, прижавшись к хладно-мраморной кремлевской колонне, размышляли о судьбах искусства. Сзади по-тигриному беззвучно в своих лайковых сапожках без каблуков подошел Сталин:
— Что вы все о делах, о делах? Потанцевали бы!
И они, обхватив друг друга, закружились в вальсе.
Мне кажется, песня из «Веселых ребят», уже упомянутая, была едва ли не единственной, в которой Леонид Утесов вынужден был — того требовал сюжет фильма — безоглядно славить советскую действительность. Вообще же его репертуар, как и репертуар Клавдии Шульженко, сумели достойно обходиться без панегириков в честь власти и властителей.
Я встречал в бывшем Советском Союзе прославленных, но обнищавших, позаброшенных, еле влачивших существование ученых, спортсменов, деятелей культуры. В памяти людей они жили по-прежнему. Но государству до них не было никакого дела. А справедливость? Признательность? Они не взрастают на камнях бессердечия и равнодушия.
«Ах, если б навеки так было!» — думаем мы, общаясь со звездами, которые не должны меркнуть и угасать. Ни при жизни, ни после нее...
181
ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ
С голоса
Никогда ранее я не сообщал, что прообразом главного героя этой короткой повести стал друг моего — столь далекого уже! — детства Вася Маслов. И что повесть я как бы записал «с голоса» его учительницы... «Не раскрывайте этого, пока я жива», — попросила она. Увы, я давно имею право «раскрыть». Но впервые делаю это в книге воспоминаний.
1
Я часто слышала, что внуков любят еще сильнее, чем своих собственных детей. Я не верила... Но оказалось, что это так. Наверно, потому, что внуки приходят к нам в ту позднюю пору, когда мы больше всего боимся не смерти и не болезней, а одиночества.
Лиза явилась на свет в такую именно пору: мне было под шестьдесят. Володя, мой сын, и Клава, его жена, еще раньше оповестили, что идут на столь смелый шаг лишь потому, что рядом есть я. Иначе бы они не решились. А когда Лизу привезли домой, Володя и Клава сообщили, что возлагают на меня всю ответственность за ее судьбу. Тем более что я тридцать пять лет проработала в школе.
— Почти никто не попадал во власть педагога в таком раннем возрасте! — сказал мне Володя.
Клава присоединилась к мнению мужа.
Когда же Лизе исполнился год, Володя и Клава уехали на раскопки: где-то обнаружился очередной древний курган. Их профессией было не будущее, а далекое, только для науки различимое прошлое — оба они занимались археологией. И поэтому тоже казалось логичным, что Лизой должна заниматься я.
Я понимала, что моя внучка обязана заговорить раньше всех своих сверстников, что она должна научиться читать раньше остальных детей и раньше других проявить понимание окружающего ее мира... Ибо сын намекнул, что на пенсию могла уйти я сама, но не мой педагогический опыт.
Клава присоединилась к мнению мужа.
Оба они были убеждены, что весь этот опыт, огромный, тридцатипятилетний, должен был обрушиться на бедную Лизу — и принести поразительные результаты.
Но мой опыт столкнулся с ее характером...
Что характер у внучки есть, я поняла сразу: она почти никогда не плакала. Даже если ей было больно и мокро. Не по-
182
давала сигналов! И от этого возникало много дополнительных трудностей.
Когда внучке исполнилось три с половиной года, я объяснила ей, что Лиза — это не полное имя, а полное звучит торжественно и парадно: Елизавета. С тех пор на имя Лиза она реагировать перестала. Не откликалась — и все. Я стала убеждать внучку, что называть ее, маленькую, длинным именем Елизавета неестественно, что люди будут смеяться.
— И пусть, — сказала она.
Тогда я ей объяснила, что такое имя без отчества произносить просто нельзя, потому что без отчества им называли царицу. С тех пор Лиза приобрела царственную осанку. А я стала сообщать родителям, звонившим откуда-то, где были усыпальницы и курганы: «Елизавета спит... Елизавета сидит на горшке...»
Внучка одержала первую в жизни победу.
В моей комнате, над столом, висели фотографии классов, в которых я преподавала литературу и русский язык. Или была к тому же еще и «классной руководительницей». На фотографиях первые ряды полулежали, вторые сидели, а третьи и четвертые обычно стояли. У лежавших, у сидевших и у стоявших выражение лиц было не детское, напряженное. Может быть, из-за присутствия учителей, которые обычно располагались в центре второго ряда.
Елизавета любила водить пальцем по фотографиям и спрашивать: «Это кто? А это кто?..»
Поскольку главное свойство склероза — помнить все, что было очень давно, и забывать то, что было недавно, я сразу называла имена и фамилии бывших учеников.
Только на одной фотографии рядов было пять... Рыжий парень, который на черно-белом снимке выглядел просто светловолосым, в отличие от других улыбался. Он был третьим слева в том самом пятом ряду.
Я уже давно объяснила внучке, что это Ваня Белов, а рядом с ним стоит ее папа. Ваня поспорил в тот день, что сможет удержаться на стуле, который будет поставлен на другой стул. Так образовался дополнительный ряд, которого не было больше ни на одном снимке.
Папа Елизаветы последовал за приятелем, хотя еле удерживался на этом сооружении. Ему было особенно трудно оттого, что он с рождения прихрамывал на правую ногу. И еще чуть не падал со стула Сеня Голубкин, который всегда мечтал стоять выше других.
А Ваня Белов улыбался.
183
Это был мой злой гений. Я рассказывала о его проделках Елизавете, чтобы она никогда ничего подобного в жизни не совершала.
Однажды Ваня Белов на глазах у всей улицы прошел по карнизу третьего этажа и, появившись в окне нашего класса, сказал: «Разрешите войти?»
— Как такое могло случиться? — в тот же день спросил у меня директор.
— Ваня Белов... — ответила я.
В другой раз он объявил голодовку... Ему показалось, что я несправедливо поставила плохую отметку одному из учеников. Ваня подошел на переменке ко мне и тихо сказал:
— Вы, Вера Матвеевна, не задавали нам то, о чем спрашивали.
— Но и того, что я задавала, он тоже не знал... как следует.
— Как следует? Может быть... Но ведь за это не ставят двойку.
— Она уже в классном журнале!
— Но ее можно исправить.
— Нельзя!
— Вы должны это сделать!
— Никогда...
— Простите меня, Вера Матвеевна, но я буду протестовать.
— Каким образом?
— Объявляю голодовку!
Я ухмыльнулась и махнула рукой.
Но в буфет он в тот день не ходил. Я проверила: не ходил. На следующий день тоже...
— Голодаешь? — спросила я его с нарочитой небрежностью.
— Голодаю, — ответил он.
— И долго еще... собираешься?
— Пока не исправите двойку. — Потом он огляделся и еле слышно добавил: — Вы не бойтесь: никто об этом не узнает. А то придется закрыть школьный буфет!
Вечером я пошла к родителям Вани.
Беловы жили рядом со школой, через дорогу.
Самого Вани, к счастью, дома не оказалось. Его родители, милые, застенчивые люди, очень встревожились. В них не было ни Ваниной решительности, ни его озорства.
— Что случилось? — спросила мать, как бы придерживая сердце рукой. — Что он... там?
— Не беспокойтесь.
184
— Как же не беспокоиться? Для него живем...
Самое уютное место в комнате было отведено столу, на котором лежал Ванин портфель (я его сразу узнала!), тетради и книжки. Над столом висело расписание школьных уроков. И та самая фотография, где он был третьим в пятом ряду.
— Не беспокойтесь, — сказала я. — Он учится хорошо. Выдвинут на математическую олимпиаду!
— Слава Богу! — сказала мать.
Тут я отважилась и спросила:
— Скажите, он... ест?
— Перестал... — со страхом ответила Ванина мама. — Только пьет воду... Даже хлеба в рот не берет. Я спросила: «Может, что с животом?» А он говорит: «Нет аппетита!» Уже второй день нету...
«А ведь так он выжмет из меня все, что захочет!» — подумала я. И на следующий день в присутствии Вани исправила тому ученику двойку на тройку.
— Почему? — спросила Елизавета, когда я пересказала ей, уже шестилетней, тот давний случай. — Ты боялась, что Ваня умрет?
— Исправила тому ученику двойку на тройку, — повторила я.
Я только не сказала Елизавете, что тем учеником был ее папа.
2
Да, Володя учился у меня в классе. Так получилось... Уговаривая меня стать классной руководительницей именно в 6-м «В», директор сказал:
— Не отказывайтесь! Это предрассудки. Кто усомнится в вашей объективности?
Я согласилась. И потом три года подряд демонстрировала ту самую объективность, которую, по словам директора, никто не мог взять под сомнение. Как-то незаметно это превратилось в одну из моих главных педагогических задач. Я очень старалась... Все должны были видеть, что я строга, бескомпромиссна и требовательна к своему сыну. Как Володя выдержал это, я теперь понять не могу.
Ни в одной педагогической книге не сказано, что должен делать учитель, если прямо под носом, на первой парте возле окна, сидит его сын.
Володя сидел на первой парте, потому что любил сидеть на последней.
185
На примере именно его сочинений я объясняла всему классу, какие грамматические и смысловые ошибки являются наиболее характерными. У доски я держала его очень долго и называла Кудрявцевым, хотя других ребят звала просто по имени.
Получалось, что я все же выделяла его. В отрицательном смысле...
Володя вынужден был отвечать по литературе только блестяще. Но однажды, почувствовав, что он плавает, я задала сыну коварный вопрос о том, чего в школе не «проходили». Володя умолк. А я громко сообщила ему или, вернее сказать, всему классу:
— Двойка, Кудрявцев!..
Тогда-то Ваня Белов и объявил голодовку.
— Всегда помни, что ты мой сын! — внушала я Володе. — Пойми меня правильно...
Он помнил, понимал — и не обижался. Но Ваня Белов понимать не хотел! Он вторгался в мой план взаимоотношений с сыном-учеником. И все разрушал!
Я объяснила Володе, что он должен интересоваться не только историей и древними глиняными черепками. Я внушала, что он не имеет права пользоваться подсказками или шпаргалками на контрольных по математике.
А Ваня Белов доказывал сыну, что математика ему никогда в жизни не пригодится, и продолжал делиться с ним своими математическими способностями.
Я убеждала Володю в том, что точные науки — это необходимая каждому гимнастика ума. Ваня же потом разъяснял, что гимнастикой нормальные люди занимаются не более двадцати минут в день. А тут — уроки, экзамены. Какая же это гимнастика?
Я знала, что за моими взаимоотношениями с сыном следит, кроме Вани, еще один человек. Это был Сеня Голубкин.
Есть люди, которые, увидев на вас новое платье, не поздравят с обновкой, а скажут: «Все наряжаетесь... Все наряжаетесь!» Узнав, что вы вернулись из отпуска, они покачают головой: «Все отдыхаете... Все отдыхаете!» А заметив, что вы хорошо выглядите, вздохнут: «Все расцветаете!..» Наблюдая за Сеней Голубкиным, я вспоминала таких людей. Он болезненно переживал чужие успехи. Ему всюду чудились выгоды и привилегии, которыми обладают другие. Если кто-то заболевал, Сенька говорил: «Ясно... решил отдохнуть!» Если кто-то получал высшую отметку за домашнее сочинение, он спрашивал: «Что? Мамочка с папочкой потрудились?»
186
Четко сформулировать какую-нибудь мысль было для Сеньки ужасной мукой. И за эти свои мучения он ненавидел литературу, а заодно и меня.
Голубкина ребята прозвали Вороном: он словно кружил над классом, ко всем приглядываясь и всех в чем-то подозревая.
Меня он подозревал в любви к сыну.
Когда Володя, прихрамывая на правую ногу, направлялся к доске, Голубкин провожал его недоверчивым взглядом: а уж не притворяется ли он? Не выхлопатывает ли себе какие-то привилегии?
Трудно было отыскать людей, более непохожих друг на друга, чем Ваня и Сенька. Но оба они осложняли мое и без того нелегкое положение.
Наставляя свой класс на путь добродетели, я видела в Сенькиных глазах страстное желание, чтобы Володя с этого пути соскользнул. Тогда бы Сенька мог произнести фразу, которую уже давно носил за пазухой: «Сначала бы сына своего воспитали!..»
Я и сама больше всего боялась, чтобы какой-нибудь Володин поступок не вступил в противоречие с моими проповедями и наставлениями. Но это все же произошло...
На 8-й «В» надвигалась контрольная по математике. Решить сложную геометрическую задачу был для моего Володи почти тем же самым, что для Сени Голубкина понять разницу между повестью и романом.
Собираясь в то утро в школу, Володя мечтал, чтоб с математичкой что-нибудь приключилось. Я, конечно, сказала ему, что мечтать об этом бесчеловечно.
— Ну, пусть застрянет где-нибудь минут на пятнадцать. Мало ли в городе происшествий! А потом уж поздно будет писать...
— Но ты ведь готовился? Ты учил?..
— Мне это не помогает!
Математичка была одной из немногих учительниц нашей школы, которые придавали значение своей внешности. Дождавшись, пока все остальные покинут учительскую, она торопливо прихорашивалась у зеркала, устраивая последний, придирчивый смотр своему лицу и прическе. Лишь убедившись, что все в порядке, она спешила на свидание к старшеклассникам.
В то утро она тоже терпеливо дождалась, пока со стола в учительской исчез последний классный журнал. Подошла к зеркалу... И тут ее заперли. Повернули ключ со стороны
187
коридора — и мечта Володи осуществилась: математичка застряла.
Лишь минут через двадцать нянечка, которая пришла убирать коридор, услышала легкий стук: математичка не любила поднимать шума.
Контрольная была сорвана.
Я поняла, что пробил час Сеньки Голубкина!
Математичка не захотела присутствовать при разборе этого «дела». Она была хорошенькой — и не нуждалась в защите. Кроме того, она могла бы позволить себе попасть в страшную ситуацию, но не в смешную. А тут ей грозил смех.
— Я попрошу Кудрявцева объяснить, как он на это решился! — сказала я, глядя на Сеню Голубкина.
В его глазах не было торжества — в них было смятение: если я сама обвиняю сына, то в чем же ему тогда обвинять меня?
Но вдруг с задней парты раздался голос Вани Белова:
— А при чем здесь Володя Кудрявцев? Это я ее запер.
— Ты... боялся контрольной по математике? — изумленно спросила я.
— Чувство коллективизма! — ответил Ваня Белов. И сел. В глазах Сени Голубкина возникли разочарование и тоска.
— Ты, Ваня, должен будешь извиниться... перед Ириной Григорьевной, — растерянно произнесла я.
— А я, когда запирал, крикнул ей: «Извините, пожалуйста! »
— Она не услышала. И потом... мне сейчас не до шуток!
— Мне тоже, — сказал Ваня Белов.
— Извинись... Поскорее! С глазу на глаз... — посоветовала я: математичка не любила быть действующим лицом в подобных спектаклях. — Стыдно должно быть и тем, ради кого Белов это сделал! — добавила я, вновь глядя на Сеню Голубкина.
Меня вызвал директор школы:
— Что, опять Ваня Белов?
— Опять. Но с другой стороны...
— Пора принимать меры!
— Пора, — ответила я.
И, дождавшись конца учебного года, перебралась вместе с Володей в другую школу. Она была дальше от нашего дома... Но зато дальше и от Вани Белова!
А уже потом, через год, мы вообще уехали на другой конец города. Так получилось.
188
3
Мне раньше казалось, что «прекрасная половина» человечества, к которой некогда принадлежала и я, не очень богата чувством юмора. Но моя внучка Елизавета постоянно опровергала эту точку зрения.
Она то и дело просила меня вспоминать о давних проделках Вани Белова, которые и спустя много лет поражали мое педагогическое воображение. Елизавета же, слыша о них, падала на диван: хохот валил ее с ног.
У кого-то из взрослых она подхватила панибратское восклицание «Слушай-ка!..» и с него начинала каждую фразу.
— Слушай-ка! — говорила она, заранее валясь на диван. — Так прямо и появился в окне? Так прямо и сказал: «Разрешите войти?»
— Так прямо... Но он не подумал о том, что было бы, если б он упал вниз с третьего этажа! Он вообще редко задумывался.
— Как же не задумывался? Если придумал появиться в окне!
В свои шесть лет Елизавета мыслила очень логично.
— Он не помнил о тех, кто за него отвечал, — пояснила я. — Он помнил лишь о себе. И о своих выдумках.
Только об одном, самом главном, как мне казалось, поступке Вани я не рассказала Елизавете. Как не рассказывала о нем никому...
Малыши требуют, чтобы им по многу раз перечитывали любимые книжки, пересказывали любимые сказки. Елизавета же могла без конца слушать о проделках Вани Белова. Как-то однажды, когда у нас за столом собрались гости и Володя поднялся для первого тоста, дверь старинного шкафа медленно распахнулась, и из глубины, окруженная платьями и запахом нафталина, возникла Елизавета. Она оглядела притихших гостей и сказала:
— Разрешите войти?
Я добилась своего: она влюбилась в Ваню Белова!
Хотя можно было предположить, что она познакомилась с Ваней еще до своего рождения. В самом деле... Елизавета появилась на свет двумя неделями раньше, чем ее ожидали. Появилась в день рождения своего папы, и Володины приятели, словно сговорившись, однообразно шутили: «Вот если бы все жены преподносили мужьям такие подарки!», «Два дня рожде-
189
ния в один день — это прекрасно! С точки зрения экономии...».
Головка у новорожденной была покрыта темными волосами, что очень обрадовало меня.
— Наша фамильная масть! — воскликнула я. — Девочка будет с черной косой.
В ответ она, подождав полгодика, посветлела. У ее организма было странное и очень опасное свойство: он отвергал лекарства.
— Аллергия, — сообщил нам доктор, когда Елизавета покрылась сыпью из-за одной таблетки аспирина. — Могло быть и хуже... Отек, например. Могли распухнуть глаза, лицо.
Все люди от лекарств излечивались, а Елизавета заболевала!
У нее было так много ярких индивидуальных качеств, что мы с Володей и Клавой решили притушить их с помощью коллектива. И хотя ее родители по-прежнему уповали на мой педагогический опыт, Елизавету отправили в детский сад.
Первое время воспитатели не признавали ее полного имени. Но заведующая детским садом, которую, напротив, как девочку, звали Аленой, сказала, что такое длинное имя ко многому обязывает, вызывает чувство ответственности. И Елизавета осталась на троне.
Однажды, вернувшись из детского сада, она отказалась ужинать.
Я спросила ее:
— Ты сыта?
— Я не обедала, — сказала она.
— А как твой живот? — с тревогой осведомилась я. Ей нельзя было болеть: она не выносила лекарств.
— Я здорова... Но я голодаю!
— Ты?!
— И еще одна девочка.
— Объявили голодовку?
— Сегодня утром.
Я поняла: Ваня Белов через нашу семью добрался до их детского сада.
— Но по какой же причине вы... решили не есть?
— От нас уходит Алена.
Я всегда любила красивых женщин. Они нравились мне, как нравятся талантливые произведения искусства. Но заведующая детским садом не была произведением, созданным раз и навсегда. Ни на миг не расставаясь со своей обаятельной мягкостью и женственностью, она все же менялась в зависи-
190
мости от ситуаций. На детей она никогда не сердилась: любить их было ее призванием. А родителей нередко отчитывала. И ей подчинялись. Особенно же отцы... Они вообще стали проявлять большой интерес к проблемам дошкольного воспитания. А дома боролись за право отводить детей по утрам в детский сад и вечером приводить их обратно. Над Аленой стали сгущаться тучи...
Кто-то из мамаш вспомнил, что в детский сад она попала «случайно». Ее пригласили на должность заведующей после елочного праздника в Доме культуры. В тот день заболел Дед Мороз. Студентка-заочница Алена, исполнявшая роль массовички, так драматично поведала о бедном Деде, которого сразил радикулит, что многие плакали.
— Они должны уметь плакать... — говорила Алена. — Не только тогда, когда расшибают коленку. Но и если коленка болит у кого-то другого.
По предложению Алены ребята сочинили Деду Морозу письмо. А потом она их всех утешала и развлекала.
На Алену обратила внимание председатель профкома научно-исследовательского института, в котором работали Володя и Клава. Это была сутулая женщина в старомодном пенсне, знавшая наизусть все новые песни и игравшая по первому разряду в шахматы. Она-то и пригласила Алену в детсад.
А потом оказалось, что председатель профкома умеет сражаться не только за шахматной доской, но и на собрании в детском саду.
Мамаши отчаянно наступали.
— Она массовичка! — сообщила одна.
— А жизнь детей — не елочный праздник. Их надо воспитывать! — подхватила другая.
Отцы хотели бы защитить Алену. Но не решались... Боялись испортить все дело.
Только две женщины, которым было за шестьдесят, бросились в бой: председатель профкома и я.
— Спросите у своих дочерей!.. — воскликнула я. — Хотят ли они расстаться с Аленой?
— Что они понимают?!
— Ну не скажите! — поправив пенсне, заявила председатель профкома. — Я помню себя ребенком... Я тогда разбиралась в людях непосредственней, чем сейчас. Обмануть меня было трудно!
Затем опять поднялась я:
— Поверьте моему опыту: я тридцать пять лет проработала в школе.
191
— Вас бы вот и назначить!
— Нет, школьный учитель и воспитатель детского сада — это разные дарования.
— Дарования?!
— Как в литературе... Поэт и прозаик! Оба писатели, но жанры-то разные.
— Она все умеет!.. — поддержала председатель профкома. — Танцует, читает стихи, поет... А как они у нее едят!
Тут снова поднялась я:
— Моя внучка второй день не ест. Аппетит потеряла.
— Если б только она!.. — съехидничал женский голос,
— Да, дети любят красивых учителей, воспитателей! — вскочила со своего места председатель профкома. — Это развивает в них чувство прекрасного.
— Если бы только дети!.. — повторил тот же голос. С отчаянностью Вани Белова я воскликнула:
— Да не бойтесь же вы ее!
— Вам легко рассуждать, — сказала мне одна мамаша по дороге домой. — Ваш сын со своей женой где-то далеко раскапывает курганы...
Алена осталась в детском саду.
Через два дня она неожиданно позвонила мне днем и сказала:
— Не беспокойтесь, Вера Матвеевна... Но немедленно приезжайте!
— Что случилось?
— Нашего врача вызвали на конференцию. А у Елизаветы поднялась температура. Я дала ей лекарство... Я должна была знать! Должна была... Зря вы меня защищали, Вера Матвеевна! Я вызвала «неотложку». Не волнуйтесь. Простите меня! Не волнуйтесь...
4
В жизни каждого человека бывают дни и часы, когда все вчерашние беды начинают казаться ничтожными.
Внучку сразу отправили в больницу. Я поехала с ней. Машина торопилась, мчалась на красный свет.
Больница была неподалеку от школы, где когда-то учился Володя, а я преподавала литературу и русский язык. Мы давно, еще до войны, уехали из того района на другой конец города. Но жизнь в тяжкий момент как бы вернула меня обратно.
«Почему? — думала я. — Какое странное совпадение...
192
Мало разве больниц в городе!» Совпадения... Они в жизни на каждом шагу. Но мы-то запоминаем лишь те, которые врезаются в память радостью или несчастьем.
На уроках литературы ребята часто удивлялись тому, что раненые Андрей Болконский и Анатоль Курагин оказались на соседних операционных столах. Я объясняла, что жизнь нередко дарит нам совпадения и сюрпризы, каких и самая буйная фантазия не сможет вообразить. В доказательство я даже приводила примеры из своей собственной жизни.
«И вот опять совпадение! — думала я. — И опять операционный стол...»
Женщины и мужчины в белых халатах, все уже повидавшие, помрачнели и заторопились. Я видела, что они страшатся не успеть, опоздать.
«Сразу на стол! — слышала я. — Отек горла... Сразу на стол!»
По дороге в больницу Елизавета не плакала, не кричала. Она дышала с трудом.
Сколько раз я мечтала, чтобы все ее болезни достались мне! Но каждому достается свое...
Алена хотела, чтоб дети умели плакать... Не от собственной боли, а от чужой! Конечно... В человеке должно жить сострадание, а страдание ему ни к чему. Особенно в самом начале жизни, когда и радостей-то еще было не много.
«Не испытаешь сам — не поймешь!» — как-то услышала я. Но была не согласна. Чтобы сочувствовать чужим бедам, не обязательно иметь опыт собственных горестей. «Пусть у моей внучки его никогда не будет!» — думала я.
А уберечь не смогла.
Меня пропустили на третий этаж, где была операционная. Туда увезли мою внучку... Никому до меня не было дела.
На круглых часах над дверью операционной было семь минут третьего...
За столиком в коридоре сидела дежурная сестра. Совсем молодая. С модной прической, в серьгах. Как будто с моей внучкой ничего не случилось! Она первой заметила меня и спросила:
— Вы к кому?
— Я с внучкой...
Она взглянула на меня жалостливо. И сказала:
— Вам повезло... Сегодня дежурит Белов. Он вообще-то заведует отделением. А сегодня дежурит. У нас все хирурги хорошие, но Иван Сергеевич...
193
— Ваня Белов?
— Вы его знаете?
В этот момент из операционной показался молодой человек в белом халате. Марлевая повязка была спущена на черную бороду.
Он крикнул:
— Маша! Скорее... Скорее!
Она вскочила и побежала. Длинные серьги прыгали по щекам.
«Его отца звали Сергеем! Конечно... Сергеем! Я помню...»
Маша выбежала из операционной. И, подскочив к телефону, стала набирать какие-то цифры.
— Что? Что там?.. — спросила я.
— Пусть Анна Ивановна придет в операционную! — крикнула в трубку Маша. — Только сейчас же!
— А Белов уже там? Белов... там? — спрашивала я.
— Он там... Я вам налью валерьянки.
— Сколько ему лет?
— Я думаю, около сорока. Она протянула мензурку.
— И живет недалеко? Да?
— Совсем близко. Выпейте...
— Ну да... Через дорогу от моей бывшей школы.
— Ходит домой обедать. Значит, вы его знаете?
— Знаю...
В опасные и даже безнадежные минуты человек ищет надежду. Судьба внучки соединилась вдруг в моем сознании с образом Вани Белова. В этом союзе я хотела увидеть спасение... И увидела.
«Какое счастье, что именно он...» — думала я, не осознавая еще, почему я так думаю.
В конце коридора показалась женщина. Полная, немолодая. Она бежала.
— Это Анна Ивановна, — с облегчением прошептала Маша. — Он просил ее... Слава Богу! — Она вынула зеркальце. — На кого я похожа! — И припудрилась.
На круглых часах было семь минут третьего.
Ваня... Ваня Белов... Почему мне тогда нужен был именно он? Которого раньше я опасалась, с которым насильно разлучила Володю... Я совершила тот дальний побег в другую школу, чтобы спастись от Ваниной отчаянности и отваги. От тех его качеств, на которые теперь была вся надежда.
С высоты своего несчастья я вдруг разглядела Ванины по-
194
ступки в истинном свете. Я помнила их все... И тот главный его проступок, о котором не могла рассказать внучке.
— Слушай-ка! Почему у меня две бабушки, а дедушка только один? — как-то спросила она.
— Второго не было... никогда, — растерявшись, ответила я. Она задумчиво побродила по дому и опять обратилась ко мне:
— Слушай-ка! А откуда тогда появился мой папа?
На самом деле дедушка у нее был. Как у меня когда-то был муж, а у Володи отец. Его звали Геннадием. Геной... По профессии он был зоотехником. Потом учился в педагогическом институте, где мы с ним и познакомились.
Его профессиональные заботы я нарекла «четвероногими увлечениями». Он жил ими с детства. Без конца о них думал и говорил. Я не требовала, чтобы из двух своих любовей он выбрал одну. Но всячески подчеркивала величие и красоту своего назначения в сравнении с приземленностью и будничностью его дел.
С помощью литературы, которая призвана возвышать, я как бы постоянно унижала его. Хотя и не отдавала себе в этом отчета.
Считать главой своего дома преподавателя зоологии казалось мне несолидным. И главой стала я.
Мне хотелось, чтобы Геннадий занимался в жизни одним, а увлекался чем-то другим. Он подчинился... И тогда угасло то главное, что озаряло его. Мне стало скучно. Я поняла, что свет все-таки был, лишь тогда, когда он угас.
Я еще не знала в ту пору, что на благородных фанатиках, чем бы они ни занимались, держится мир. И что лишить таких людей фанатизма — все равно что плеснуть водой на костер...
Когда Володе исполнилось полтора года, мы с Геннадием разошлись. Он уехал за тридевять земель, на Дальний Восток. Я попросила его на прощанье не напоминать о себе, чтоб не тревожить сына. Он и тут подчинился.
А через тринадцать лет я узнала, что, начав работать где-то на «звероферме», он сделался крупным ученым. «Четвероногие увлечения» твердо поставили его на обе ноги: он стал доктором наук, директором института.
«Какое для Геннадия счастье, что я ушла от него!» — этой мыслью я, наверно, хотела угодить своей совести, избавиться от угрызений.
Но лишить Володю такого отца я не могла!
Узнав однажды, что Геннадий приехал в Москву на научную конференцию, я организовала его встречу с сыном.
195
Ваня Белов не часто приходил к нам домой. Но тут, конечно же, получилось так, что зашел. И, как пишут, «принял участие в переговорах».
Я вернулась домой поздно, когда встреча закончилась...
Лицо у Володи было растерянное и виноватое. Примерно такое, какое бывает у верного, любящего супруга, который увидел другую прекрасную женщину и не смог не признать ее высоких достоинств.
Оказалось, что Геннадий бывает в Москве очень редко, что вся жизнь его связана с дальним краем, который он полюбил. Но они твердо договорились, что Володя в дни зимних каникул слетает к отцу. А потом и во время летних.
Я одобрила этот план. Но Володя к отцу не поехал... Его отговорил Ваня Белов. Хотя они и не так уж дружили, Ваня имел на моего сына магическое влияние. И в этом я видела большую опасность!
— Зачем же ты это сделал? — спросила я Ваню. — Отец его ждет...
— Уж очень он умный! — угрюмо ответил Ваня.
— Так это ведь хорошо.
— Как сказать... Пусть сам приезжает. Если захочет...
Я считала, что Ваня совершил преступление. Уговаривала Володю... Он не отказывался. Но всякий раз, когда наступали каникулы, находилась причина, которая удерживала его возле меня.
«Уж очень он умный!» — сказал тогда Ваня.
Прошло более двадцати лет... И я неожиданно поняла, что он сделал это ради меня. Он не хотел, чтоб я делила сына с тем, кто мог покорить его сердце, а когда-нибудь потом... и увести от меня.
По крайней мере он хотел, чтоб встречи Володи с отцом происходили не вдали от меня и от нашего дома.
— Скажите... у него на лице веснушки? — спросила я сестру Машу.
— На днях только он сказал: «Посмотрите на мое лицо — и вам станет ясно: весна наступила!»
— Нельзя ли у вас попросить еще... валерьянки?
— Я налью... Но вы сядьте, пожалуйста. А то ходите, ходите по коридору...
На круглых часах было семь минут третьего. Из операционной выскочил тот же молодой человек, марлевая повязка опять съехала на черную бороду.
196
— Маша! Всю бригаду... Всю бригаду! — крикнул он. И сразу же скрылся.
— Какую бригаду? — спросила я. Маша стала набирать номер.
— Какую бригаду?
Она хлопнула трубкой по рычагу:
— Занято. Нашли когда разговаривать!
— Какую бригаду?..
Она заспешила вдоль коридора. На высоких каблуках ей было трудно. Она сбросила туфли и побежала прямо так... в чулках.
Потом с той стороны, куда она убежала, показались трое мужчин — все в халатах и белых шапочках. Они обогнали Машу и тоже скрылись за дверью операционной.
Маша остановилась, подобрала туфли. Подошла к своему столику. И только тогда их надела.
— Какая бригада? — спросила я.
— Просто так... Успокойтесь. Студенты-практиканты у нас. Операция редкая. Он хочет им показать. Все будет нормально. Раз там Иван Сергеевич...
Она вынула зеркальце.
— Я понимаю. Раз Ваня Белов...
Мне необходимо было все время вспоминать о нем что-то хорошее. В этом были надежда, спасение. И я вспоминала.
Однажды, когда Володя и Ваня учились еще в шестом классе, был назначен «районный» диктант. Решили очередной раз проверить, насколько грамотны в нашем районе двенадцатилетние. Диктант был изощренно трудным. И так как абсолютно грамотных людей на свете не существует, даже я вряд ли написала бы его без единой ошибки.
Что же тогда говорить о Сене Голубкине! Он был в панике: двойка за тот диктант грозила ему второгодничеством,
В ту пору Ваня еще не проник в глухие тайны голубкинской психологии и очень ему сочувствовал. Когда Сеня, путаясь и напрягаясь, блуждал по лабиринтам знаменитых четверостиший, известных всем с малолетства, Ваня страдал. Я видела это... И если мне удавалось не замечать его подсказок, я их не замечала.
А после уроков, в коридоре, верзила Голубкин теснил невысокого Ваню: тот, оказывается, подсказывал недостаточно четко и ясно: «Сам-то, небось, вы-ыучил! Сам-то все-е знаешь!..»
За этим я тоже тайком наблюдала.
После диктанта Сенька бегал по коридору и выспрашивал у своих одноклассников:
197
— Как пишется «в течение»? Вместе или отдельно?
— Отдельно, — отвечали ему.
— Одна ошибочка есть! — говорил он. И загибал палец. — А ты сам-то как написал? Правильно?
Если оказывалось, что правильно, Сенька скулил:
— Ну коне-ечно... Сам написал!
Чужие успехи его убивали. Ему казалось, что любые удачи приходят к людям как бы за его, Сенькин, счет. Зависть, в которой я всегда видела исток главных человеческих слабостей и пороков, не оставляла Сеньку в покое.
— Та-ак... Еще одна ошибочка! — восклицал он и загибал следующий палец с таким видом, будто все кругом были виноваты и в этой его ошибке.
Володя никогда не раскрывал мне секреты приятелей, но эти сцены он демонстрировал в лицах. И мне казалось, что я наблюдаю их своими глазами.
После «районного» диктанта у Сеньки не хватило пальцев на обеих руках. Он насчитал двенадцать ошибок. Кроме запятых и тире...
На переменке ко мне подошел Ваня Белов:
— Что ж, Вера Матвеевна, Голубкину теперь на второй год оставаться?
— Не знаю. Еще не проверила.
У меня в тот день было, помнится, всего два урока. Когда я уселась в учительской за тетради, оказалось, что шесть работ из пачки исчезли. Среди них были диктанты Сени Голубкина, Володи и Вани.
На большой перемене мы с директором в опустевшем классе стали пробиваться к голубкинской совести. Путь оказался непроходимым.
Именно тогда, в разгар нашей беседы, в окне появился Ваня Белов и сказал:
— Разрешите войти?
Мы онемели. А Ваня оглянулся, смерил расстояние от третьего этажа до тротуара и, повернувшись к нам, спокойно сказал:
— Я явился, чтобы отдать себя в руки правосудия!
Нет, я не верила, что диктанты вытащил он. Даже если б это и пришло ему в голову, он бы ни за что не прикоснулся к тетради моего сына. Потому что это был сын учительницы... А Сенька именно по этой причине и вытащил Володин диктант!
Но доказать этого я не могла.
Директор тогда еще не начал счет проделкам Вани Белова. Он согласился с моей версией, подчеркнув, однако, что рыцар-
198
ство тоже должно знать пределы... но что не стоит превращать школьный класс в комнату следователя.
Для очистки совести я все же сказала Ване:
— Не верю, что ты способен на подобную дерзость!
— А пройти по карнизу третьего этажа — это не дерзость? Мне стало ясно, зачем он появился в окне: мы должны были поверить, что он способен на все!
Тут же, после уроков, я передиктовала диктант тем шестерым, работы которых исчезли. Сеня Голубкин получил тройку, поскольку уже успел обнаружить на перемене свои ошибки. И перешел в седьмой класс.
Он не проникся благодарностью к Ване Белову. Напротив, именно с тех пор Сенька его невзлюбил. Он не простил благородства, как не прощал грамотности тем, кто ему же помогал находить ошибки.
Ваня Белов это понял...
После того как Сенька очередной раз насолил в чем-то своему спасителю, я как бы мимоходом сказала Ване:
— Ну что... ни одно доброе дело не остается безнаказанным?
Мне не хотелось, чтоб он считал меня уж слишком наивной и думал, что я поверила его признанию, произнесенному с подоконника.
Ваня съежился. Но не оттого, что я его уличила. А из-за моей фразы о наказуемости добра.
— Мало ли что бывает! — сказал он. — Из-за этого всем не верить?
Теперь, когда мне нужно было верить в Ваню Белова, я вспомнила тот разговор.
Но почему же я раньше не придавала ему накакого значения?..
Чтобы направить энергию Вани в нужное русло, я, помнится, в седьмом классе назначила его редактором стенгазеты.
Для начала Ваня завел на ее столбцах анкету: «Что о нас думают наши учителя?»
Я написала, что люблю их всех (всех сорока трех!), что поэтому бываю недовольна ими, строга и что желаю им всем счастья.
Следующая анкета называлась иначе: «Что мы думаем о наших учителях?»
В этом номере Ваня спорил со мной: «Нельзя, я думаю,
199
любить всех на свете людей. А мы — те же люди. Я бы, например, не смог полюбить Сеньку Голубкина!»
Так прямо и написал. Не побоялся Сеньку. А я то и дело оглядывалась на Голубкина...
— Сколько лет вашей внучке? — спросила сестра Маша.
— Шесть с половиной.
— Осенью должна была пойти в школу?
«Почему должна была? Она пойдет в школу... — говорила я себе. — Ваня Белов спасет ее! Теперь, когда я, наконец, разглядела его... Когда до конца поверила... Он не может ее не спасти!»
На круглых часах было семь минут третьего.
«Он помнил лишь о себе. И о своих выдумках...» — сказала я как-то внучке.
Это была неправда. Он думал о других гораздо больше, чем другие о нем.
Но для Вани это было неважно: совершая свои «спасательные экспедиции», он никогда ни за что не платил и ничего не желал взамен.
Сейчас он думал о моей внучке. И спасал ее.
«Безумству храбрых поем мы песню!» — как бы в шутку цитировал он. Но никогда не совершал безумств ради себя. Почему лишь в больнице я поняла это?
Неужели непременно должна случиться трагедия, чтобы мы поняли, кто может нас от нее спасти?
На виду у большой беды мне хотелось исповедаться перед собой и найти искупление.
Я помнила слова мудрейшего Монтеня, сказавшего о своих глазах: «Нет на свете другой пары глаз, которая следила бы за мной так же пристально».
Мои глаза тоже были в тот день очень пристальны... и недовольны мною.
Когда выяснилось, что Геннадий, мой бывший муж, стал доктором наук, крупным ученым, я решила, что он прежде скрывал от меня свои способности. На самом же деле это я скрывала его способности и его характер от него самого. Я хотела, чтобы компасом для Геннадия были лишь мои взгляды, мои убеждения.
Но жизненный компас, верный для одного, может сбить с
200
дороги другого... Мне хотелось, чтобы мой муж смотрел на мир моими глазами и жил моими призваниями. С теми, кто любит, так поступать опасно: они могут подчиниться — и навсегда потерять себя.
Иногда я так поступала и с сыном: выбирала ему друзей, разлучила с Ваней Беловым... Он любил меня — и тоже мне подчинялся. А потом, должно быть, намаявшись со мной, женился на Клаве, которая всегда к нему «присоединялась».
Чтобы поверить в себя, человек порой нуждается в преклонении... Когда сын, еще школьником, возился с грязными черепками и в каждой рухляди видел признаки «древней культуры», многие смеялись над ним. А Ваня Белов восхищался.
Почему же я их все-таки разлучила?
У Вани был свой характер. Не подчинявшийся... А я в те годы, не отдавая себе отчета, стремилась привести все сорок три характера своих учеников к общему знаменателю. И этим знаменателем была я сама.
О судьбах учеников мне хотелось знать все: кто родители, в каких условиях живут, как готовят уроки... Но оказалось, что познать характеры гораздо сложнее, чем судьбы. И я освобождала себя от этого.
Я хотела, чтобы ученики послушно всему у меня учились. Ваня же сам мог если не научить, то уж, во всяком случае, проучить меня.
— Я загляну в операционную, — сказала мне сестра Маша.
Она снова вынула зеркальце, поправила прическу и пошла. Потом вернулась и сообщила:
— Ничего... Иван Сергеевич улыбается. Все будет нормально!
И стала наливать валерьянку. Я протянула руку. Но она выпила валерьянку сама. «Как она могла увидеть, что он улыбается? — подумала я. — Как она могла это увидеть? Ведь на лице у хирурга повязка. Как она могла?... Но он же — Ваня Белов! Значит, все и правда будет нормально... Я верю. Если Ваня Белов...»
Раньше он то и дело обрушивал на мою голову чрезвычайные происшествия. «Что будет, если все начнут ему следовать?» — со страхом думала я. Но следовать ему никто бы не смог: для этого нужен был его, Ванин, характер.
201
Мой сын, археолог, всегда уверял, что влияние прошлого на настоящее и будущее колоссально.
«Из того, прошлого, Вани, который мог ради спасения Сени Голубкина пройти по карнизу третьего этажа, получился хирург, — думала я. — Хирурги ведь тоже должны помогать всем, кто нуждается в них, — независимо от достоинств и качеств: и Голубкиным, и моей внучке».
Некоторые люди, знавшие меня в молодости, встретив потом, говорили:
— Обломала тебя жизнь... Обломала!
А на самом деле жизнь доказала мне, что нельзя подавлять человека. И что добро каждый должен творить по-своему. И что третий в пятом ряду не должен быть похож на пятого в третьем ряду... И что вообще я, учительница, должна видеть не «ряды», а людей, которые стоят рядом или вдали друг от друга. И что непохожесть характеров едва ли стоит принимать за несовместимость...
Приобретение этого опыта, увы, стоило жертв, которые я не должна была приносить. Учитель, как и хирург, на ошибки вряд ли имеет право. Хотя нравственное нездоровье, быть может, и не приводит к физической смерти.
«Где твоя былая строгость, непримиримость?» — спрашивали меня. Не-при-ми-ри-мость... Это значит то, что находится «не при мире». Зачем же применять такое оружие в общении с друзьями? Да и вообще есть качества, которые, как скальпель хирурга, не годятся для будничного, повседневного употребления.
«Меня потрясает гнев человека, который гневается раз в году» — сказал кто-то из тех, чьи изречения стоит запоминать.
О непримиримости, я думаю, можно сказать то же самое.
«Хорошо было бы до конца усвоить все эти истины не сейчас, в шестьдесят третьем году, когда мне уже исполнилось шестьдесят три, — думала я, — а хотя бы тогда, в тридцать девятом, когда я совершила свой побег от Вани Белова... И когда мне тоже было соответственно тридцать девять».
Эти совпадения (опять совпадения!) всегда забавляли Володю.
— Мамочка, сколько тебе нынче лет? — спрашивал он. И как бы соображал на ходу: — Та-ак... На дворе у нас «год-отличник»: пятьдесят пятый. Значит, и у тебя, мамочка, две пятерки!
И в этом году он шутливо напомнил мне, что цифра 63 в календаре совпадает с моей шестьдесят третьей весной.
202
Я улыбалась этим привычным шуткам. Но не так весело, как четверть века назад.
Ваня остался самим собой — и поэтому я верила, что моя внучка пойдет осенью в школу. Я верила...
«Вот для чего нужно было это сегодняшнее совпадение, — думала я. — Чтобы Ваня Белов спас мою внучку. И чтоб я сказала ему, что все, наконец, поняла. Не сейчас, конечно, сказала... а потом. Сейчас я его просто стану благодарить, бесконечно благодарить...»
— Иван Сергеевич! — воскликнула Маша и, на бегу поправляя прическу, бросилась навстречу огромному мужчине, который выходил из операционной.
Он стянул с лица марлевую повязку и вытирал ею лоб. Я не могла идти... Я схватилась за Машин столик. Ноги стали тяжелыми. Он сам подошел ко мне.
— Очнулась ваша царица.
«От чего?» — хотела спросить я. Но не спросила.
— Отчество-то ее не Петровна?
Я ничего не могла ответить. И заплакала. Он осторожно погладил меня:
— На свадьбу-то пригласите?
— Спасибо вам, доктор.
Он снова погладил меня откуда-то сверху. Пальцы у него были длинные, крепкие. Со лба на щеки и нос, покрытые веснушками, стекал пот.
Про все я успела спросить у Маши. Про все... А о росте забыла. Ваня-то был невысокий...
5
Иван Сергеевич попросил меня «не настаивать» на немедленной встрече с Елизаветой.
— Она примет вас завтра, — пообещал он. — Или послезавтра. Ей пока нельзя разговаривать.
На круглых часах над дверью операционной было семь минут третьего.
Я поняла, наконец, что часы стоят.
Сестра Маша проводила меня до конца коридора.
— Повезло вам, что Белов оказался здесь. Он редко дежурит. И операция редкая. Несложная, конечно... Но аллергический шок получился.
— Что... это?
203
— Совсем было плохо, теперь уж я вам сознаюсь.
Она все время склонялась ко мне, обнимала за плечи. Длинные серьги еле слышно позванивали.
— Я до утра присмотрю за ней. — Мы дошли до конца коридора. — Иван Сергеевич перед операцией, чтобы проверить, как она там, спросил: «И как же тебя зовут?» А она отвечает: «Елизаветой».
— Так ее и зовите, — попросила я. — А то еще не откликнется... Значит, это были не практиканты?
Она не ответила.
Я стала спускаться вниз.
«Много людей прошло через мою жизнь, — думала я. — А эти двое останутся со мной навсегда: Иван Сергеевич, Маша... И Ваня Белов. Он тоже был рядом. А отца-то его звали Андреем... Андреем, а не Сергеем. Как же я забыла? Такой милый, застенчивый человек. Все время предлагал снять пальто. А я говорила, что пришла на минутку. Мама Ванина, тоже милая и застенчивая, смотрела на мужа с укором и говорила: «Что же ты, Андрюша, не предложишь раздеться?» Тогда он снова просил меня снять пальто».
...Тут я увидела Алену. Она сидела на длинной скамье возле больницы.
Моросил нудный дождик.
— Ну что?! Вера Матвеевна...
Я не выдержала. Опять стала плакать. Она вытирала со щек мои слезы и капли дождя. Не платком, а теплыми, нежными пальцами. Наверно, так она утешала своих малышей.
— Очнулась уже. Очнулась... — сквозь слезы проговорила я. — Нам повезло. Дежурил Белов! Сказал, что придет на свадьбу. А почему вы... на улице?
— То войду в вестибюль, то выйду. Не могла на одном месте... Я виновата, Вера Матвеевна!
— Не вздумайте повторить это в детском саду! — встрепенулась я. И перестала плакать. — Вы обязаны быть педагогом, но не провидцем. Я сама должна была предупредить.
— Вы и предупредили, — мягко, но упрямо возразила она.
— Врача... Но не вас!
— А я должна была узнать у врача. Про всех все узнать!
— Вот теперь и узнаете. Опыт требует жертв... Вы мне поверьте.
— Но не таких!
— Если б мы знали, где упадем... подстелили б соломку. Это старая истина. Вот вспомнилось мне сегодня...
Нет, я не собиралась учить Алену на своем горестном
204
опыте. Просто я хотела этим опытом утешить ее. И начала рассказывать про мужа, про Володю, про Ваню Белова.
Мужчины оглядывались на нас. Я стала говорить тише. А они продолжали оглядываться.
Вернувшись домой, я написала письмо Володе и Клаве. Телеграмму посылать я не стала. Да и в письме обо всем рассказала очень спокойно, умолчав о смертельной опасности, которая грозила нам всем. Я давно сделала для себя правилом: не заставлять других переживать то, что могу пережить сама... Тем более когда речь шла о буре, которая уже пронеслась.
Стремясь поменьше писать о болезни Елизаветы, я сосредоточила внимание на Ване Белове.
«Да, была не права, — писала я сыну. — Но как и ты мог забыть о нем? Хоть мы и уехали на другой конец города!..»
В ответ на письмо прилетела Клава.
Она подробно рассказала, как Володя переживал весть о болезни Елизаветы. И мои упреки по поводу Вани Белова... О своих переживаниях Клава не говорила, поскольку мне было ясно, что она, как всегда, разделяла Володины чувства. К этому я привыкла.
Услышав о какой-нибудь неприятности, Клава сразу начинала искать глазами Володю. Даже если он был в другом городе... «Не пора ли мужчиною стать?» — спрашивала я прежде у сына. Клавина беззащитность заставила его стать защитником, а значит, мужчиной.
«Мы с Володей...» — так чаще всего начинала она. Если же говорила, к примеру: «Володя очень устал и мечтает о юге!», я понимала, что и она тоже нуждается в отдыхе. Она не умела уставать, отдыхать и всерьез задумываться одна... без участия мужа.
С годами она даже стала чуть заметно припадать на правую ногу. Потому что так ходил он.
Иногда мне казалось, что мой сын более дорог ей, чем моя внучка. И как ни странно, меня это радовало... Внучка, ее жизнь, ее будущее были теперь основной и наверняка последней целью моей жизни.
В тот час, когда эта главная цель была в смертельной опасности, ко мне пришел Ваня Белов. И не только потому, что его имя и фамилия совпали с именем и фамилией хирурга. А и потому, что он был рожден приходить к людям в такие именно часы и минуты.
Я все-таки раскрыла некоторые подробности болезни и
205
операции. «Клава обязана о них знать: вдруг что-нибудь подобное повторится... Когда меня рядом уже не будет...» — подумала я.
Она обернулась, как бы ища Володю... Но его не нашла — и тогда разрыдалась у меня на плече.
— Что могло быть? Что могло быть?! — прошептала она.
И помчалась в больницу.
А я распечатала Володино письмо, которое она привезла. Письмо было длинное. Он волновался об Елизавете. А дальше писал: «И я, мама, вспомнил о Ване. Все вспомнил! Даже то, чего ты не знаешь. Ваня просил меня никогда не раскрывать эту тайну. Но прошло больше двадцати лет... И сейчас, за давностью срока, можно сознаться. Математичку-то запер я! Это получилось как бы само собой. Я заглянул тогда в щелку... Вижу, она перед зеркалом прихорашивается, а больше никого нет. Просто не понимаю, честное слово, как моя рука повернула ключ. Очень я математики, наверно, боялся. Потом Ваня стал убеждать меня: «Ты — сын классной руководительницы и запирать учителей не имеешь права!» Я поверил ему. А после, честное слово, терзался. Поэтому, может, и звонить ему перестал. Ну а потом уж мы переехали... Когда я вернусь, мы обязательно найдем его!»
Значит, Ваня снова принял на себя чужую вину?
Я была уверена: он поступал так вовсе не потому, что решил сделать самопожертвование как бы своей профессией. Сеньке грозило второгодничество, а мне (именно мне!) позор на всю школу, — и он, как хирург, должен был не раздумывать, а спасать. Он, которого я считала своим злым гением...
Но почему же в тот раз, когда речь шла о Голубкине, я не дала себя обмануть: я знала, что Ваня заслонил Сеньку собой. А тут я поверила... Хотя всем было известно, что Ваня Белов — математик и ему незачем было запирать Ирину Григорьевну. Сперва Володя позволил себя убедить... А затем и я тоже. Неужели человек стремится все на свете осознавать с позиций своих интересов? Нет, нет... Ваня Белов это опровергает.
Я не стану ждать возвращения сына. Я сама найду Ваню. Сама!..
6
Переулок, где когда-то учились Володя и Ваня, трудно было узнать. Новые дома молодцевато поглядывали на невысокие старые здания. Мне казалось, что я пришла в семью, не-
206
когда мне очень близкую, с которой я не виделась десятилетия и в которой все изменилось: дети выросли, появились внуки, и лишь самые старые члены семейства напоминали о былом. Но они-то и были мне дороги...
Таким старым членом семьи казался мне Ванин дом, что стоял прямо напротив школы, через дорогу. Он сохранился, к счастью. Мимо него шли с уроков ребята. Мальчишки, как во все времена, проявляли храбрость и остроумие, а девочки делали вид, что этого не замечают.
Беловы жили на первом этаже. Я хорошо помнила.
Вместе со мной в парадное вошла девочка и направилась к той самой квартире. Она была светловолосой, а на ее носу и щеках тоже были рассыпаны приметы наступавшей весны.
«Неужели это Ванина дочка? — подумала я. — Ей лет тринадцать или четырнадцать. Вполне может быть!»
— Ты не Белова? — спросила я.
— Белова?
Она рассмеялась. В ее возрасте девочки очень смешливы... И что именно рассмешит их — трудно предугадать.
— Беловы отсюда уехали. Очень давно... Я их даже не помню.
— В другой город? — спросила я, потому что боялась этого.
— Не-ет... Просто в другое место. — Она открыла дверь своим ключом. — У мамы записан их адрес. Мама сейчас на работе, но я посмотрю. Кажется, он в записной книжке.
Девочка была деловитой и не чересчур многословной. Она не стала расспрашивать, кем я прихожусь Беловым и почему их ищу. Молча перелистала записную книжку, лежавшую на столе у телефона. И сказала самой себе:
— Ну вот... Я же знала!
Потом переписала адрес. И протянула мне. Я схватила листок... Она опять засмеялась. Наверно, от удивления.
— Спасибо тебе, — сказала я, успев разглядеть, что Беловы живут в районе Филей. — Спасибо!
Я не вышла, а выбежала на улицу, сжимая адрес в руке. Теперь, когда я знала, что Ваня в Москве, знала, где он живет, мне не терпелось поскорей, поскорей увидеть его...
Можно было ехать на автобусе или в метро. Но я схватила такси. И стала по дороге рассказывать шоферу, что вот через столько лет нашла удивительного человека. Таксисты целые дни вслушиваются в чужие истории — и оттого становятся либо равнодушными, ко всему на свете привыкшими, либо вос-
207
приимчивыми и чуткими. Этот сразу же стал вспоминать подобные случаи и каждым движением показывал, что очень хочет ускорить мою встречу с Ваней.
«Конечно, в такое время и Ваня может быть на работе, — думала я. — Но тогда старики дома. И я посижу с ними... Подожду. Если они живы-здоровы...»
Старики были живы.
Только встреча с людьми, которых мы не видели много лет, дает понять, что же такое время. Встречаясь повседневно, мы не замечаем, не чувствуем перемен, которые оно, время, накладывает на лица, на характеры, на походку.
Старики Беловы были уже действительно стариками. Годы сгорбили их, иссушили их лица.
Увидев это, я взглянула на себя в зеркало, висевшее возле вешалки. Тем более что они не сразу меня узнали.
Ванин отец, как и тогда, стал просить, чтобы я сняла плащ.
— Вот съехались с родственниками, — объяснила мне Ванина мама. — С братом Андрюшиным...
— Простите, что я не заходила к вам столько лет... А Ваня-то как? Где он?
Они провели меня в комнату.
В самом уютном месте стоял тот же стол, словно Ваня был по-прежнему школьником. А над ним висела та же самая фотография, где он был третьим в пятом ряду. Висела еще одна фотография Вани... Только расписания уроков не было: их сын все же вырос.
— Ну, как он? — снова спросила я.
Ванина мама подошла к столу, выдвинула ящик и протянула мне небольшой листок. Бумага была серая и шершавая. Там было написано, что 27 апреля 1945 года их сын, Иван Андреевич Белов, пал смертью храбрых в боях за город Пенцлау.
Я никогда не слышала о таком городе...
* * *
«Верьте Ване Белову!» — озаглавил свое эссе на страницах «Литературной газеты» (17 декабря 1975 г.), посвященное этой моей повести, Лев Разгон. Присоединяюсь к нему, потому что нередко мы вспоминаем о таких Васях и Ванях запоздало, когда их уже нет.
1975 г.
208
МАРК ШАГАЛ, ПИКАССО, ФЕЛЛИНИ, ЛАНДАУ,
АНДРОНИКОВ, ГАГАРИН...
ЧТО ОБЩЕГО?
Из блокнота
Как-то однажды в присутствии Ираклия Луарсабовича Андроникова я назвал известного поэта великим.
— Для великого он слишком сложен. Все великое просто и ясно. «Выхожу один я на дорогу...» — вот это великое. Вроде ничего нет, но есть все: одиночество, мироздание, надежда. «Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда с звездою говорит...»
С тех пор я отчетливо осознал, что путь в большой литературе пролегает не от простоты к сложности, а от сложности к простоте. Ибо ясность и простота гораздо сложнее сложности, и достичь их гораздо труднее. Речь, разумеется, идет не о той простоте, которая «хуже воровства», а об истинной и высокой.
И это относится не только к литературе, искусству, но и к людям, их характерам и повадкам. О, сколько я встречал пустопорожних говорунов, которые «словечка в простоте» не скажут! Может, это отнюдь не аксиома, но опыт моих общений утверждает: амбициозность прямо пропорциональна бездарности, а обладатели Богом ниспосланных дарований чаще всего просты и доступны...
Помню, позвонил мне тончайший искусствовед Миша Капустин, которого уже нет на свете, и спросил:
— Хочешь познакомиться с Марком Шагалом?
— А кто же откажется?
— Тогда пойдем со мной в гостиницу «Метрополь». Он там остановился.
Прежде всего Шагал осведомился у Миши и у меня:
— Вы не витебляне?
Оказалось, Миша из Баку, а я из Москвы, что Шагала весьма огорчило: все лучшие люди, по его убеждению, родились в Витебске. Но уже через минуту он воодушевленно сообщил жене, находившейся в соседней комнате:
— Милая, к нам пришел твой земляк. Из Баку!
Мише Капустину повезло: хоть он, как и я, был не из Витебска, но, по крайней мере, из города, где родилась жена художника. Это Шагала с ним сблизило. И до такой степени, что гений потрогал лацкан Мишиного пиджака:
— Где вы купили этот костюмчик?
209
— Я? — растерялся мой друг, словно в чем-то был виноват. — Здесь, в Москве... У нас есть магазин по имени ГУМ...
— Это нам подходит! — воскликнул Шагал, поглаживая гумовский пиджак.
А потом выяснилось, что ему «подходит» все: и гостиничный номер, и московская погода, хоть хлестал ливень, и российское доброжелательство. Все ему нравилось, как ребенку, пришедшему в гости. А потом он заговорил о русской живописи. И оказалось, что он признает представителей всех художественных школ. При одном условии: если они даровиты... Никакой гордыни, ни малейшего намека на величие и самовлюбленность!
В «Новом мире» были опубликованы посмертные путевые заметки выдающегося, на мой взгляд, прозаика Юрия Трифонова. И были там страницы о его парижской беседе с Марком Шагалом. Припоминая кого-нибудь из своих давних-предавних знакомых, Шагал, которому было, кажется, за девяносто, неизменно осведомлялся: «Он еще жив?» Ему очень хотелось, чтобы все были живы... Он радовался и за тех, кому отпущен долгий век, и одновременно себя самого подкреплял надеждой.
Уже писал, что мне особенно симпатичны люди, которые в любом возрасте сохраняют в себе детство. Знаменит автопортрет Пикассо, где он изобразил себя ребенком, игриво полуповисшим на спинке стула. В такой же позе мы с директором издательства «Детская литература», Сытиным тех дней, Пискуновым и увидели его, девяностолетнего, на вилле, вблизи Парижа. Константин Федотович вручил ему новые книги о живописи с репродукциями картин Пикассо.
На полу валялись рисунки, словно бумага, прикрывающая пол во время ремонта. И по ним кто-то ходил...
— Пабло, почему по вашим рисункам ходят? — не удержался Константин Федотович.
— Они ничего не стоят: они не подписаны! — ответил Пикассо фразой, которую, я потом узнал, произносил не раз в подобных ситуациях.
Он, гений и умница, относился к себе как бы не очень всерьез. В отличие от бездарей и глупцов, которые относятся к себе очень серьезно.
Запомнился и такой случай... Константин Федотович познакомил меня с внуком Льва Толстого. Как говорится, по
210
прямой линии. Пискунов привез в подарок внуку многочисленные издания его бессмертного деда. Потомок Льва Николаевича, гуманист-педиатр, тоже служил молодому поколению, как и глава издательства «Детская литература». Как пытаюсь служить и я... В знак благодарности и единства наших призваний хозяин дома решил распахнуть перед нами литературный Париж. Показать, где разворачивались сюжеты произведений Бальзака, Стендаля, Мопассана, Гюго... Мы отправились в путь, но на первом же его километре внук допустил какое-то нарушение дорожных правил. К машине с резко вскинутой, словно указующей ввысь рукой ринулся полицейский. Так же резко он вскинул вверх и свой крик, почти вопль.
— Что он кричит? — с недоумением поинтересовался я.
— Он кричит: «Кто бы вы ни были!»
— Вот она... настоящая демократия, — тихо восхитился Константин Федотович.
— Будь ты хоть президент, хоть премьер-министр! — подтвердил нарушитель. — Перед законом и дорожными правилами все равны.
— И внук Льва Толстого?! — растерянно проговорил я.
Помню встречи с Львом Ландау в писательском Доме творчества на Рижском взморье. Он терпеть не мог, когда говорили, что он «второй физик мира после Эйнштейна».
— Что за нумерация? А если кто-то и считает всерьез, что я «второй», это вовсе не значит, что мы выстроились один за другим, что я дышу ему в спину. Это лишь значит, что, по мнению некоторых, между нами никого нет. Вот и все... Хоть и с этим я категорически не согласен!
Где-то я прочитал, что Лев Ландау был атеистом. И вспомнил... На пляже того же писательского Дома творчества, что под Ригой, Лев Давидович услышал фразу: «Ну, если есть Бог...» Он повернулся к «сопляжнику», который фразу ту произнес, и спросил:
— Вы член Союза писателей? — Писателем он назвать его остерегся. — И сомневаетесь в существовании Бога?
— Я не знаю, конечно... — замялся «сопляжник».
— Ну, я бы лично счел не вполне скромным усомниться в мудрости Эйнштейна, который ходил в синагогу. Или академика Павлова, который ходил в церковь...
Вечером, гуляя со мной по пляжу, Лев Давидович пояснил:
— Я, Толя, верю, как вы понимаете, не в кого-то, ухватившегося за облака. Но физик, который сомневается в существо-
211
вании высшей силы, влияющей на события, происходящие на земле, это — не физик.
Может, впоследствии Ландау изменил свою точку зрения? Это я исключаю. Как и то, что он мог поддерживать самую презираемую псевдонауку, коей является атеизм. При каждом удобном случае утверждаю, что Бог и Вера — слова, определяющие самое справедливое и святое. В смысле прямом и переносном... Во всех смыслах!
Четырежды я был председателем одного из трех жюри Международных московских кинофестивалей (по детским и юношеским фильмам). Однажды на конкурс (по «взрослым» фильмам) выдвинули картину Феллини «Интервью». Все председатели и члены жюри, все авторы картин-претенденток обедали и ужинали вместе... Во время одной из трапез два официанта, обслуживавших наши столы, были вызывающе нерасторопны, лениво-медлительны. Долго записывали, чего мы хотим, затем исчезали, а через четверть часа сообщали, что ничего из выбранного нами нет, и принимались снова записывать. Все выражали неудовольствие. Кроме Феллини... Он проявлял снисходительность и терпимость, поскольку был гений.
А когда ему присудили гран-при, он очень сочувствовал председателю «взрослого» жюри:
Вы думаете, что если меня пригласили, то надо обязательно давать первую премию? Ну, почему же? Я бы не обиделся. Побывал в Москве, все посмотрел — вот и приз! Фильм-то мой ведь не очень... А? За «Восемь с половиной» мне в Москве уже дали гран-при. И хватит.
Над столом у Агнии Барто висел листок, вырванный из ученической тетради в клеточку. А на нем рукой Юрия Гагарина было написано:
Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу.
Все равно его не брошу,
Потому что он хороший...
Когда я спросил у Юрия Алексеевича, почему он оставил Барто такой необычный автограф, Гагарин ответил:
— Потому что это были первые стихи, которые объяснили мне, трехлетнему, что нельзя быть в жизни предателем, что нельзя бросать человека в беде.
Однажды, уже в горбачевское время, рассказал я по теле-
212
видению об этой истории с мишкой и гагаринским автографом... После передачи в студию ворвался гонимый испугом редактор:
— Какого мишку уронили на пол? Какому мишке оторвали лапу?.. Что вы имели в виду?!
— Я имел в виду плюшевую детскую игрушку. А вы кого?
Быть может, никто не имел такой ошеломляющей прижизненной славы, как Юрий Гагарин. Я не собираюсь сравнивать его с Львом Толстым, или с Мусоргским, или с Эйнштейном... Но чтобы имя живущего человека знал весь земной шар и чтобы его встречали сотни тысяч восторженных граждан, куда бы он ни приехал?! И чтобы президенты и премьеры вручали высшие награды, в какой бы стране он ни оказался?! А сам Юрий Алексеевич сердился, когда его именовали «первым гражданином Вселенной», когда ему приписывали «завоевание» Космоса. Во-первых, ему не нравилось слово «завоевание». А во-вторых, он прекрасно осознавал, что первыми в Космос взлетели ученые.
В начале этой главы я вспомнил об андрониковском преклонении перед лермонтовской ясностью и простотой. Расскажу и о том, как Юрий Гагарин обратил мое внимание на «космическое прозрение» поэта:
— Ведь он что провидел? «В небесах торжественно и чудно спит земля в сиянье голубом...» Не написал же, что небо голубого цвета (это любой дурак знает!), а что сама Земля «в сиянье голубом», то есть что она — голубая. Но это же увидели только мы, космонавты. Мы увидели, а он провидел...
Для Ираклия Луарсабовича Лермонтов был, как известно, «главной святыней», «посланцем Бога на земле».
— Вот мы что-то бормочем об акселерации, — говорил мне Андроников. — Акселерация? Разве еще кто-нибудь почти в юношеском возрасте сочинил «Маскарад»? Или что-то подобное? Драму о безысходном столкновении многообразного, не всегда чистого житейского опыта с чистотой и невинностью! Чтобы воссоздать Арбенина, надо испытать жизнь в ее сложнейших проявлениях. А сколько было Михаилу Юрьевичу?.. И с мужеством его ничье перо на Руси не может соперничать: «Вы, жадною толпой стоящие у трона, свободы, гения и славы палачи...» Швырнуть такое в лицо двору Николая Первого?!
Один из одержимых пензенских энтузиастов, как я уже рассказывал, отыскал где-то, невдалеке от Липецка, захоронение отца Михаила Юрьевича и добился перенесения его праха
213
в Тарханы. Воздвигли и памятник, а на нем — поражающие своей непостижимой ясностью строки:
Прости... Увидимся ль мы снова?
И смерть захочет ли свести
Две жертвы жребия земного?
Как знать?
Итак, прости, прости...
Даже вроде бы канцелярское «итак» стало органично принадлежать поэзии. Посланцам Бога все подвластно!
Когда я рассказал Ираклию Луарсабовичу о новом памятнике в Тарханах, он был уже неизлечимо болен.
— Вы принесли мне если не исцеление, то облегчение, — сказал Андроников.
Ираклий Луарсабович не имитировал голоса знаменитостей, а воссоздавал их характеры. Сам же обладал характером добрейшим и жизнерадостным.
Жизнерадостным... До той роковой ночи, когда дочь его — очаровательная, талантливая Манана — покончила жизнь самоубийством. Я жил в одном из корпусов того самого дома, из окна которого она выбросилась. «Почему она это сделала?» — вопрошал несчастный отец. Кто на Земле ему мог ответить? Ираклий Луарсабович верил, что встретится с дочерью. И спросит. Он вскоре ушел вслед за ней...
Марк Шагал, Феллини, Ландау, Андроников, Гагарин... Что общего? Та простота, что доступна только значительности. Это, я бы сказал, величие простоты...
НЕЗАБВЕННЫЙ ЛЕВ АБРАМОВИЧ...
Из блокнота
«Кондуит» и «Швамбрания», «Великое противостояние», «Вратарь республики», «Ранний восход», «Дорогие мои мальчишки»... Книги Льва Кассиля можно перечислить, но трудно перечислить добрые дела, свершенные этим человеком — самым, думаю, безупречным из всех, кого я встретил на Земле.
Лев Абрамович каким-то, только ему ведомым, образом угадывал, кто вокруг нуждался в его не знавшей предела щедрости. А кроме того, его с утра до вечера атаковали просьбами те, кои не желали ждать, пока он сам догадается протянуть руку. Хоть и догадывался он, утверждаю, почти непременно... А сколько у него было учеников! Он долгими часами склонялся над чужими рукописями... Многие воспринимают чужой успех,
214
как свою беду. А Лев Абрамович, и правда, торжествовал по поводу чужих открытий и побед (не меньше, чем по поводу своих собственных!). В его посмертно опубликованном в журнале «Знамя» дневнике то и дело встречаю примерно такие строки: «Какой сегодня напечатан в «Известиях» Толин рассказ! — Далее идут эпитеты, которые повторить не решаюсь. — «Самый счастливый день»... Так он называется. Ах, молодец Толенька! Подарил и мне счастливый день». Редко кто напишет так не о своем рассказе. Ох, редко... Безупречной была не только его безотказность. Но и его обязательность: если пообещал, считайте, что уже сделал! И это в наш-то необязательный век... И в окружении он находился, я бы сказал, «себе подобном». Жена его Светлана Леонидовна Собинова — дочь великого певца — вела себя, как декабристка, в мучительные для Льва Абрамовича дни и годы. Но об этом после... А сейчас о том, что во все времена она была его вернейшей «Софьей Андреевной». Дочь их Ирина, художница, полностью оправдывает — в искусстве и в жизни — столь обязывающую двойную фамилию: Собинова-Кассиль.
Сын Льва Абрамовича Володя — искуснейший целитель, хирург, в течение многих лет главный реаниматолог Москвы — примчался на переделкинскую дачу, где у отца его разорвалась аорта. «Володенька, ты стольких людей вернул с того света обратно на этот... Попробуй проделать это со своим папой...» Так примерно, рассказывали мне, в полушутку, хоть и зная, что уходит из жизни, сказал отец сыну. Нет, с папой не получилось.
Лев Абрамович... Говорят, не существует на свете идеальных людей. А он вот был идеальным отцом, мужем, другом. И благодетелем тех, кто нуждался в благодеянии, как в помощи или спасении.
«Благодеяния»... Это значит — деяния блага. Таким деяниям он и отдал всю свою жизнь.
Это не помешало, однако, высокопоставленным идеологическим властителям дать команду: «Ату его!» И словно изголодавшиеся псы, ринулись разбойники пера травить моего лучшего друга.
Постыдный шлейф сей «массовой кампании» оказался невыносимо длинным. О Кассиле появились даже и... фельетоны. А в то время и строчки единой было достаточно, чтоб укокошить честного человека. Помню «совещание по детской литературе», которое проходило в ЦДРИ. Доклад делал уважаемый мною писатель, автор знаменитых стихов времен Отечественной и прозаик, драматург. И порядочный, я был
215
уверен, человек. Но сил воспротивиться «указанию свыше» даже у него не хватило. И вот он принялся утверждать, что сочиненные Львом Кассилем страны (Швамбрания, Синегория в «Дорогих моих мальчишках») не нужны нашим детям: «Разве у них нет любимой Советской Родины?» Так воскликнул оратор. Стенгазета же, выпускавшаяся в дни совещания, опубликовала такое:
А входил в обойму кто?
Лев Кассиль, Маршак, Барто.
Шел в издательство косяк:
А. Барто, Кассиль, Маршак.
Создавали этот стиль:
А. Барто, Маршак, Кассиль.
О любимцах «дорогих моих мальчишек» и не менее «дорогих девчонок» говорилось, как видим, в прошедшем времени, как о покойниках или вычеркнутых из литературы «бывших писателях». Стишки до того пришлись по вкусу одной из центральных газет, что она их перепечатала.
Потом-то уж выяснилось, кто сыграл подлейшую роль в жизни Льва Абрамовича. То был главный редактор «Правды», а позже — секретарь ЦК КПСС по идеологии Леонид Ильичев. У него были с Кассилем глубочайшие идейные разногласия: Лев Абрамович, будучи отчаянным поклонником футбола, болел за «Спартак», а Леонид Федорович — за «Динамо». Идейный оттенок в их противоречиях, в самом деле, имелся, поскольку «Динамо» числилась командой тогдашнего министерства внутренних дел (в чем футболисты были, разумеется, не виноваты). Когда позже Лев Кассиль, вопреки грозным ильичевским предупреждениям, переиздал роман «Вратарь республики», посвященный спартаковскому вратарю Анатолию Акимову, высокопоставленное терпение лопнуло...
А Ильичев дожил до глубокой старости. И до последнего дня не вылезал из руководящих кресел. Как я уже упоминал, некролог по поводу «преждевременной кончины» подписало все политбюро во главе с Горбачевым. Повторюсь: в том траурном документе было сказано, что Ильичев внес неоценимый вклад в советскую культуру. Да, «неоценимый»... И тогда я отважился его вклад оценить. Выступил на газетных страницах, о чем уже вспоминал, «перелистывая годы». Завершая тот протест, я отметил, что верю в знаменательность широко разрекламированного «благородного акта» Леонида Федоровича: Ильичев подарил Краснодарскому краю, откуда был родом, уникальнейшую личную картинную галерею. Только вот у меня возник недоуменный вопрос: где он взял эти полотна, эти сокровища? Я никогда не слыл мстительным. Но за
216
страдания своего лучшего друга отомстил. Верю, что Бог простит мне этот поступок.
Однако кассилевские «хождения по мукам» не кончились и после того, как он стал лауреатом Сталинской премии. Тут уж «хождения» у нас были общие... Однажды раздался панический телефонный звонок: «Что вы с Кассилем наделали?! Что сотворили?!» — изливала свой страх в автоматную трубку вдова прекрасного детского писателя и тоже моего любимого друга Якова Тайца.
«А в чем, собственно, дело?» — «Что вы вместе написали в Книге отзывов на выставке рисунков английских детей?!» — «Мы там не были...» — «Что значит не были? В Книге отзывов — ваша совместная запись. И какая! Приезжайте немедленно сюда, на Кузнецкий мост: в Выставочный зал». Об истории этой я уже упоминал. Но расскажу подробнее.
Когда я вошел в тот зал, люди, три дня назад просившие меня открыть выставку, прятали глаза, избегали со мной заговаривать и даже здороваться. А книги отзывов уже не было...
Я увидел ее у полковника, который вызвал меня в приемную КГБ, находившуюся по стечению обстоятельств там же, на Кузнецком мосту, прямо через дорогу.
На последней странице книги крупно, нарочито разборчивым почерком (чтобы каждое слово явно обозначилось!) было скорее начертано, чем просто написано: «Вот как рисуют дети в свободном мире! Лев Кассиль, Анатолий Алексин».
— Что вы имеете в виду под «свободным миром»? И что общего между детской выставкой и политикой? — начал доискиваться полковник с чекистским щитом и мечом на рукаве.
— Мы на выставке не были.
— А эта запись?
— Очень легко установить, что она сделана не рукой Льва Кассиля и не моей.
— А все-таки... Что вы имеете в виду под «свободным миром»?
И сразу же, как бы в подкрепление провокации, пришел донос в Союз писателей... Там утверждалось, что мы с Львом Абрамовичем сотворили в писательском Союзе сионистский центр и «травим русских мастеров слова». К их чести, мастера с гневом отвергли поклеп.
Нас с Кассилем исподволь как бы подверстывали к «банде убийц в белых халатах». Недавно, прочитав книгу Аркадия Ваксберга «Сталин против евреев», я узнал, что после «дела врачей» Сталин намеревался раскрутить «дело писателей-сионистов». Так что запись в книге отзывов и донос принадлежа-
217
ли перу МГБ. И если бы пятого марта пятьдесят третьего года (а выставка открылась и донос нагрянул в феврале) «вождь и мучитель» не освободил бы по Божьей воле нас всех от себя, надежд на спасение не было бы никаких. Вновь скажу то, что не раз доводилось мне утверждать: когда дьявол в форме генералиссимуса поднял руку, а точнее, топор на врачей, которые десятки лет лечили его, Господь уже не выдержал, не вытерпел — и сразил сатану. А мы с Львом Абрамовичем не стали жертвами предполагавшейся вакханалии.
Теперь о кассилевском мужестве... Незадолго до описанных мною событий его вызвали в редакцию газеты «Правда». В вестибюле он был встречен «черным гением» газеты, фельетонистом-пасквилянтом Давидом Заславским и генеральным директором ТАСС Хавинсоном. В тот день необходимо было, чтоб встречали и провожали именно евреи. Льва Абрамовича провели в кабинет главного редактора, которого там не оказалось. Зато оказались все самые знаменитые (по заслугам уважаемые!) евреи: ученые, артисты, режиссеры, композиторы... Поскольку «литература — мать всех искусств», обойтись без писателей было никак нельзя. На зеленом сукне, словно хищные крылья, распахнулись два огромных бумажных листа. А в них был как бы вколочен, вбит текст обращения главных представителей гонимого народа к товарищу Сталину. «Представители» просили предоставить евреям неведомо что «искупить», а заодно уж и «оградить» их от народного гнева. Под обращением были, увы, невнятные, стыдившиеся самих себя подписи... Но Кассиль, как и некоторые другие бесстрашные (да, бесстрашные!), своей подписи не поставил...
Его знали и обожали не только советские юные читатели, но дети, подростки десятков стран. Моя жена участвовала в последней зарубежной поездке Льва Абрамовича и Светланы Собиновой. В Японию... Она видела, как в той стране, уделяющей столь подлинное внимание эстетическому воспитанию, Кассиля почитали и юные друзья книг, и их родители, и ученые-педагоги, и издатели...
Так было везде.
Возле памятника на Новодевичьем кладбище останавливаются дети и взрослые:
— Смотрите! Лев Кассиль умер... Не может быть!
А со дня кончины прошло уже четверть века. Однако над такими, как он, ни годы, ни смерть не властны.
218
ХОЛОСТЯК
Тоже из жизни
Кто-то живет ради любимых детей, кто-то ради любимых идей, кто-то ради любви к любимой... А он жил и дышал исключительно ради любви к себе.
По утрам он делал зарядку из полезнейших упражнений, потом в лечебных целях совершал дежурный маршрут на велосипеде, не замечая людей и природы, которые зачем-то были вокруг. Потом завтракал без холестерина, острых приправ, без соли и сахара, которые именовал «белым ядом». Впрочем, ядом в той или иной мере ему представлялась любая пища... за исключением витаминов: витамины фруктов и овощей, витамин свежего воздуха, витамины спокойствия и безразличия. Последние были особенно необходимы, ибо при их отсутствии все остальные сгорают в топке стрессов и напряжений.
Он не желал делиться собою ни с кем — и поэтому его называли «неисправимым холостяком». Женщины приручить его пытались, но и они превращались лишь в витамины. «Витамины удовлетворения», кои после выбрасывались, как кожа от съеденных фруктов.
Когда внезапно на него навалился инфаркт, он не поверил тревожным признакам — и продолжал делать зарядку: не мог же произойти какой-то вред от круглосуточной пользы, которую он сам себе приносил?
Боль под левой лопаткой становилась настойчиво явной. В ответ он не столь испугался, сколь разозлился... на дерзость «левой лопатки». По какому праву ввергла она его в состояние дискомфорта? Не привыкший к душевной и физической боли, он воспринял нытье и тяжесть в спине, как незнакомцев, нагло вторгшихся в его благоденствие.
Ему было под шестьдесят, но к врачу он обратился впервые. Электрокардиограмма, показавшаяся ему зубчатыми детскими каракулями, врачу таковыми не показалась.
— У вас, мне кажется, микроинфаркт, — сказал врач, соболезнующе покачав головой.
Кардиолог, хоть и был кандидатом медицинских наук, видимо, стеснялся своей молодости, мысленно ставя знак равенства между молодостью и несолидностью. А потому оправа очков была нарочито массивной. Головой же врач покачал не энергично, не по-юному, а раздумчиво и как бы с трудом.
— Ваше имя-отчество? — не спросил, а осведомился кандидат наук. — Станислав Спиридонович? В истории болезни как-то неясно...
219
— Не может быть.
— Чего не может быть? Такого имени-отчества?
— Микроинфаркта.
Но они были — были! — и инфаркт и редкое имя-отчество.
Станислав, Спиридон... Эти имена появились в его роду от дедушки и прадедушки, которые до семнадцатого года слыли очень богатыми. И, хоть сперва отправились «в мир иной», оставаясь живыми, а затем в мир иной, как говорится, «отдав концы», Станислав Спиридонович продолжал подобострастно трепетать перед их именами, ибо они были символами материального процветания.
В школе послевоенного образца их внука и правнука сверстники прозвали «Эс-Эс». Не потому только, что имя и отчество начинались с буквы, напоминавшей недописанное или прерванное посредине «О», а и потому, что он, бессменный «первый ученик», никогда никому не подсказывал на уроках, а во время диктантов и контрольных работ прикрывал свои тетради руками, будто огораживал их колючим забором. Все, что принадлежало ему, принадлежало только ему...
— Я должен был бы отправить вас прямо в больницу, — сказал врач. — В наших больницах, однако, ныне можно только скончаться. Я не должен так говорить. Но что поделаешь! — Все же молодость из него выпирала. — У вас пока еще «микро»... Поэтому садитесь в такси и отправляйтесь домой! Ложитесь в постель. И пусть близкие найдут вам сиделку. Или они сами справятся? — Он вопросительно взглянул сквозь явно отяжелявшие его нос очки. И, не дождавшись ответа, продолжил: — Вот рецепты... Пусть ваши домашние сбегают в аптеку. Не сходят, а именно сбегают. Вы на каком этаже?
— На пятом.
— Лифт есть?
— Конечно.
Еще бы в его доме не было лифта!
— Он работает?
— Безусловно.
Еще бы его лифт не работал!
— Отправляйтесь скорее...
«Ваши домашние», — сказал кандидат наук. Поскольку Станислав Спиридонович всю жизнь принадлежал лишь самому себе, ему из живых существ тоже никто не принадлежал. Кроме рыжей кошки — красавицы Дуни... Собак он с детства боялся. К тому же с ними много мороки: выводить, приво-
220
дить. У него создавалась иллюзия, что Дуня охраняет квартиру. Кроме того, она передвигалась, уютно потягивалась, иногда застенчиво подавала голос. Кто-то был рядом... Это ему все-таки было нужно.
Выйдя из поликлиники, он ощутил страх. Но так как привычная бережливость была все же сильнее незнакомого страха, он поехал не на такси, как советовал врач, а на троллейбусе. И — вот странно! — по дороге он думал о Дуне. А о ком еще было думать? Кто еще его ждал?
Но и Дуня, оказывается, не ждала... Ее скромная лежанка и ящик с песком были пусты.
Он вышел на лестничную площадку и стал звать Дуню так настойчиво и даже с оттенком нежности, как не звал еще никогда: «Дуня! Дунечка!..»
Из соседней квартиры вышла истощавшая от очередей и хронического недоедания пенсионерка:
— Дуня перемахнула на балкон, который под вашим. Потом еще ниже... Я сидела у подъезда, на лавке, и видела. Храбрая кошка! Это, наверное, от голода. Спасалась... Не кормите вы ее!
— То есть как не кормлю?
— У нее ребра наружу повылезали. Почти как у меня... Но псину свою мы кормим. От себя отрываем...
От себя он не отрывал ничего и никогда. Продукты себе покупал в магазине с прямолинейно-безвкусным названием «Деликатес». Покупал понемногу: на одного, для одного. В этом был смысл холостяцкого бытия. Он мечтал постепенно превращать в «деликатес» и всю свою жизнь (даже в условиях разгулявшегося вокруг беспредела). На фоне окружающей бедности благополучие ощущалось еще более благополучным. И вдруг боль под левой лопаткой... И этот неделикатесный диагноз. Хотя полностью он в диагноз не верил: слишком уж молод врач и, надеялся он, неопытен.
«Хочет, наверное, напугать, проявить бдительность! Перестраховаться на всякий случай...» Он все еще самовлюбленно был убежден: такие неприятности — не для него!
— Надо ее найти, Дуню, Дуняшу... — пролепетал он, непредвиденно ощутив тоску.
— Где искать-то? — Пенсионерка пожала худыми плечами. — На каком этаже ее приютили? Кто знает!
Соседи его не любили. Это было известно. Когда-то, очень давно, телефон на всем этаже был только в его квартире. И соседи пытались — в исключительных случаях — телефоном воспользоваться. «Вам здесь что, автомат?» — выработал он
221
для всех один и тот же ответ. Они просить перестали... «Но и я ни о чем попросить их уже не могу», — внезапно кольнуло его еще сильнее, чем под лопаткой. Сиделки стоили очень дорого. Это тоже было известно. «Что может быть дороже здоровья?» — слышал он от кого-то. Дороже здоровья для него были деньги.
В наглом климате вседозволенности таксисты, он знал, на счетчик плевали — и драли за передвижение от одной улицы до другой, даже весьма близкой, больше, чем прежде за дорогу от одного города до другого (и к тому же далекого!).
Он втиснулся в автобус. Его мяли, толкали. Но он еще не до конца верил диагнозу. А деньги, если их можно было сберечь, он берег. «Деньги самостоятельной ценности собой не представляют, — прочитал он где-то. — Деньги есть трата денег». Прочитав, ухмыльнулся...
Он знал на свете лишь одного человека, который уверял его: «Я люблю тебя сильней собственной жизни. И, не задумавшись, отдам ее за тебя!» Даже мать вслух подобного не высказывала. А высказывала женщина, в родстве с ним не состоявшая. Но состоявшая с ним «в любви». Матери же, готовые умереть за детей своих, эту готовность не декларируют. Но той женщине он верил.
Мужские и женские чувства, как снаряды на войне, в одну и ту же цель, в одну воронку дважды не попадают. Почти никогда. Иной раз чудится: «Вот увижу... вот встречу — и все вернется!» И сам порой возвращаешься, а любовь — нет. Однако, возвращаясь к той воронке, к той цели, ощущаешь, как внутри что-то съеживается: «А если?.. А вдруг?» Он тоже надеялся всем, впервые заметавшимся нутром своим: «А если она простит и поможет?» Упреждать свое появление телефонным звонком он не стал: по телефону отказать легче.
Воспоминания не обжигали его, а обжигало лишь намерение: «Вернуть, непременно вернуть... если не любовь, то, по крайней мере, ее заботу». Он, как обычно, ждал лишь того, что ему практически было нужно. Он знал: забота в подобных случаях пролегает через страсть. Но все же... а вдруг?
Он не видел ее лет двадцать. Раньше она всякий раз готовилась к их свиданию, как актриса к дебюту, от которого зависит судьба. Но сейчас он застал ее врасплох, чего женщины в любом возрасте не выносят, что их ошеломляет и раздражает. Она же была всего-навсего удивлена:
— Это ты? Почти не изменился.
222
Он не изменился ни в чем — и поэтому, мобилизовав всю энергию своей неискренности, воскликнул:
— Катя, я ждал! Я так ждал...
— Чего ждал?
— И так рад!
— Чему ты рад? — с весьма безмятежным недоумением спросила она.
И тут только он заметил, что на руках у нее приютилась девочка примерно годовалого возраста. А в первый момент он вперился взглядом лишь в лицо Кати: «Обрадуется ли? Есть ли надежда?»
— Это моя третья внучка. Я, как сказали бы прежде (прости за банальность!), «трижды бабушка Советского Союза». Но Союза уже нет. Так что, просто трижды бабушка. И отчаянно рада. А ты чему рад?
— Что вижу тебя!
— Ну, ну... не заходись. Но заходи! Коль пришел...
Она вытерла фартуком лицо, на котором были микропуговки пота, а косметики никакой.
— Вот вышла на пенсию. Теперь уж только «бабуля».
Нет, она была не только «бабулей», но вдобавок и женщиной: по-прежнему белозубая, с непоблекшим, интригующим взглядом, с фигурой женственной, в меру полной, и, как в т е времена, привлекательной. В нем даже екнуло что-то мужское... Но цели всегда были для него выше, важнее чувств.
Она же проявляла чувства лишь к внучке — и, увы, не для вида:
— Солнышко ты мое! К нам пришел дядя... Не бойся его.
— Зачем же меня бояться?
То, что он стал неопасен — ничуть не опасен и для нее! — было очевидным. И это нежданно его покоробило.
Ну, как ты живешь? — не из приличия, а растерянно поинтересовался он.
— В общем смысле, вне дома, как все... Но внутри дома живу хорошо. Дети не просто выросли, а доросли до ученых. Насколько это возможно в их возрасте.
Она никогда не преувеличивала и не преуменьшала, а сообщала лишь то, что происходило в реальности.
— Обе дочери вышли замуж? — продолжал он анкетные, растерянные вопросы.
— У меня дочка и сын, — напомнила она. Но без малейшего упрека, что его вновь корябнуло.
Разумеется, он знал, что у нее дочка и сын, но спрашивал не разумом, не памятью, а лишь языком, который был во
223
власти смущенности, а, может, и потрясения. Неужели его приход ей безразличен? Никакого волнения, никакой ожесточенности и даже обиды! И ни одного возвращения к прошлому — ни в голосе, ни в глазах. А ведь он тогда... вторгся в ее, не знавший конфликтов, дом, разгромил, разрушил его. Разлучил с мужем, который фанатично ее обожал. Обещал жениться, воспитать и полюбить двух детей. Чего только не обещал! Каких только клятв не нарушил!.. А чего не выполнил? Не выполнил ничего. Она же была спокойна, довольна своим новым домом.
Муж ее не простил (именно потому, что обожал, как фанатик). Неужели и это не имеет значения? Или опять замужем? Нет, не похоже. Но, во всяком случае, она хладнокровна, ничуть не реагирует на него. Это оскорбляло очнувшееся мужское достоинство. Уж лучше бы упрекала, кляла! Неужели взрослые дети и внуки все для нее заменили? С ее-то темпераментом? Опять не похоже... Но темперамент этот не обращал на него ни малейшего внимания. Как же так? Ведь готова была отдать за него жизнь! А сына и дочку, значит, готова была оставить сиротами? Эта мысль посетила его впервые. И он подумал, что в разгаре, суматохе страстей она все же немного преувеличивала.
— А ты что... проходил мимо?
— Да, мимо.
«Сперва я прошел мимо сломанной мною — хоть и на время — ее судьбы, мною взваленных на нее несчастий. А теперь мимо проходит она. Даже уже прошла... И находится далеко!» — с подкашивающей безнадежностью понял он.
— Ты здоров? — не поинтересовалась, а спросила она, ни на миг не прекращая ласкать внучку.
— Я? Здоров...
Продолжая не верить в диагноз и сберегать капитал, он спустился в метро, а проехав четыре остановки, вышел на платформу и поднялся по лестнице, что ему было запрещено. Но эскалатор на той станции не оборудовали.
Левая лопатка резко напомнила о себе. И он торопливо, будто стараясь обмануть или опередить болезнь, направился к своему единственному продолжению на земле. К своей дочери... «Единственная дочь» — этот сентиментальный термин впервые возник у него в голове. Можно было сказать и «единственный ребенок», поскольку сыновей у него не было. «А если она у меня одна, почему я не был у нее так долго?» — этот вопрос тоже вонзился в него, как горестное открытие. Все
224
было в тот день мрачным открытием, потому что он первый раз стал в ком-то нуждаться... И нуждаться в помощи, а быть может, в спасении. Это не перевернуло, не переродило его психологию, но все же внесло коррективы в его восприятия и отношение ко всему окружающему... в кое он вынужден был вглядеться.
По дороге он подсчитал, что его «единственному ребенку» было уже тридцать два года. Однако назвать свое продолжение по возрастному признаку «единственной женщиной» он не мог: во-первых, это была дочь, а, во-вторых, слова «женщина» и «единственная» в его сознании как-то не совмещались.
В отличие от Кати, она не удивилась, а выпученно сотряслась:
— Ты?!
— Я, Лелечка... я!
— Помнишь, как меня зовут? Потрясающе!
Тут он спохватился, что неудобно было приходить к ней и Кате с «пустыми руками». Но подарки он все годы преподносил только себе.
Из коридора он увидел, что в комнате вытянулись длинные мужские ноги в кроссовках. Мужчина, видимо, окунулся в кресло, — и, кроме ног, ничего разглядеть было нельзя. На экране телевизора, в который тот, видимо, впился, гремел пальбой детектив.
— Ты замужем?
— А как же! — с вызовом ответила она. — Уже пять с половиной лет.
Стало быть, он не заходил к ней лет семь. И не звонил.
Цифры, цифры... Они укоряли, пригвождали его своей обнаженной определенностью: туда не заглядывал двадцать лет. Сюда — семь. И, быть может, вообще бы не заглянул, если бы...
Он заметил, что она до неестественности стала похожа на его мать, а значит, и на него.
— Я счастлив: ты ведь, прости... моя копия.
— Твоя? Ни в коем случае!
Она вела себя агрессивно. В комнату не пригласила, с мужем не познакомила, а провела на кухню.
— Мама по-прежнему живет отдельно? Как она?
— Слышать о тебе не желает.
Неужели дочь была похожа на него не только внешне, но и внутренне? Неужели он напоролся на свой собственный характер? Не Божья ли это кара? Нет, Бог не мог подсказать такое. Она мстила ему... И делала это бесцеремонно.
225
— За что... так уж жестоко? — пробормотал он. — Без всякого снисхождения?
— Не подумай только, что мама... из-за себя! Хотя в нашей ханжеской державе носить клеймо матери-одиночки — не подарок. Но это бы она стерпела. Тем более вышла замуж за достойного человека... — «Не тебе чета!» — прокомментировал ее взгляд. — А вот то, что меня сочувственно нарекли «без вины виноватой»... никогда не простит. И я не прощу тоже!
— Неужели вы готовы... приговорить меня? Старого и больного? С инфарктом...
— А неужели ты предлагал маме, еще не обретя меня, от меня избавиться? — оборвала она.
— То была лишь фраза: чего сгоряча не скажешь! Особенно в несмышленом возрасте. Ты пойми...
Она понимать не желала.
— А теперь явился к той, которую хотел уничтожить? Убить?.. Еще до ее рождения! К своей несостоявшейся жертве пришел? Мама не рассказывала об этом, щадила меня... Соседка мне донесла.
— А ты отца пощади: у меня инфаркт. «Микро» он опустил.
На мгновение — не более — в ее глаза пробилась блеклая, еле заметная жалость. И тут же угасла.
— Пощади отца... — повторил он, ухватившись за то мгновение.
— Где тут отец? Где? Я не вижу его.
В помиловании было отказано.
«Я виноват... — молча признавался он сам себе. — Виноват... Но и она, кажется, не лучше меня».
— Где тут отец? — будто желая затвердить его мысль, повторила она.
«Чем же она милосердней меня?»
— Где отец?!
Ее голос вновь перекрыл детективную пальбу на телевизионном экране.
— Леля, кто там? Что там такое? — раздался голос из комнаты.
— Не беспокойся: никого нет.
Он был для нее «никем». А она, выходит, не была его «единственной дочерью». Вообще никакой не была... Боль из-под лопатки стала расползаться по груди, по всему его телу.
Тогда он присел на скамейку, облезлую, заплеванную се-
226
мечками и загаженную птицами. С напряжением отдышавшись, поднялся и, будучи не в силах опять спускаться и подниматься в метро, все-таки взял такси. Астрономическая сумма, которую небрежно назвал таксист, не смутила его, не испугала. Потому что он испугался инфаркта, который открыто и, кажется, необоримо завладевал им.
Он повалился на полувылезшие пружины заднего сиденья и назвал адрес брата.
Осенний вечер промозглостью и дождем подгонял пешеходов. И его тоже, когда он расплатился с таксистом. В будто заброшенном, неосвещенном подъезде он нащупал дверь лифта, к которому относился теперь, как к лекарству. Поднялся на два этажа.
Брата он тоже не видел давно. Во тьме (лампочка и здесь, естественно, перегорела) позвонил сначала не в ту квартиру. И второй раз ткнулся не в ту. Постучал, не найдя звонка. К нужной двери его подвел интеллигентный пожилой человек, которого он побеспокоил ошибочным стуком.
— Петр Спиридонович... вот тут живет, — пояснил интеллигент любезным и даже соболезнующим тоном, от которого Станислав Спиридонович отвык в тот день.
— Это мой брат. — И, помолчав, добавил: — Родной... Ему понадобился этот эпитет.
— Брат? Родной? Мы столько лет общаемся семьями, но они никогда... Впрочем, о заветном люди нередко умалчивают.
Интеллигент не счел этичным присутствовать при встрече родных братьев — и заторопился обратно в свою квартиру.
Станислав Спиридонович обождал, пока дверь не захлопнулась. Поскольку «заветным» он для младшего брата и его семьи не был, ему не хотелось, чтобы кто-то стал свидетелем непредсказуемой встречи.
Младший брат Петя в детстве хорошо рисовал. И ему прочили... Вообще Петя был натурою творческой. Однако дарование его потонуло в атмосфере коллективизма и «всеобщего равенства», которую создал и затвердил "директор интерната, куда своего младшего брата «определил» брат старший.
Когда матери и отца не стало, он счел, что воспитание в интернате — как раз то, что нужно любому в юные годы. Кроме него самого, разумеется.
Художником Петя в результате, не сделался, — он сделался киномехаником, чем был, кстати, весьма доволен:
— Доставляю зрителям удовольствие: кручу фильмы. А заодно и сам смотрю... Надо быть либо Репиным, либо киноме-
227
хаником. Посредственный художник — это ужасно! — говорил он жене.
— В киноискусстве тоже лучше быть Феллини, чем киномехаником, — возражала жена. Она-то считала, что Петя вполне мог бы стать Репиным, если б старший брат позаботился.
Вот почему старший топтался возле двери, не решаясь нажать на кнопку. Он страшился не брата, сговорчивого и застенчивого, а его супруги, которая была непримиримым борцом за интересы и талант мужа. Кои сам он, по ее убеждению, защищать не умел. Петя именовал жену «Жанной д'Арк с Пролетарской улицы». Старший брат проторчал возле двери не меньше минут десяти. Но у него уже больше никого не осталось... Это был последний шанс. И он, наконец, на кнопку нажал.
— Посмотри, Петя: блудный брат заявился! — приветствовала его из прихожей «Жанна д'Арк с Пролетарской улицы».
Всюду, куда он устремлялся в тот день за спасением, его встречали очень похоже. «Потому что очень похоже со всеми ними поступал я, — толкнуло очередное открытие. — Но они-то должны были доказать... свою несхожесть со мной. А сами... Чем их жестокость лучше моего эгоизма?»
— Ты, блудный, не заблудился? И адрес наш вспомнил? Фантастика! Мы-то тебя навестить не смеем. У кого-то были донжуанские списки, а у тебя — «донжуанские графики». Боимся нарушить! — продолжала наступать «Жанна», которую на самом-то деле звали Галиной Тарасовной.
— Ну, зачем ты так? — проговорил Петя, появляясь в прихожей с кистью, свежеобмокнутой в природно-мирную зеленую краску («для дома, для семьи» он рисовать продолжал).
Две комнаты, кухня и прихожая были щедро увешаны Петиными полотнами. Жена давно требовала, чтобы Петя отправился с ней вместе в Союз художников и попытался устроить там выставку, но он, во всем сговорчивый, робкий, тут даже Жанне д'Арк отважился не уступить. Тогда она, словно для компенсации, стремглав устроила в художественную школу двух сыновей, утверждая, что они-то уж станут Репиными наверняка. В «худшколе», как называл ее Петя, сыновья приобщались к искусству и в тот вечер. Это развязало «Жанне д'Арк» руки и голос.
— Пришел! А сколько лет находился в бегах? Петя из-за тебя в кинобудке вкалывает! А мог бы... Ведь мог бы! Его, когда он был еще в третьем классе, академик живописи талантом назвал. Скажи, Петя, это было?
— Не помню, — ответил муж.
228
— А я не помню, но знаю! Обнаружил дар в совсем еще детских рисунках. Угадал вундеркинда... Хотел открыть ребенку зеленую улицу! — Она взглянула на свежезеленый цвет кисти, которую Петя по-прежнему держал в руке. — Так нет же! Старший брат эту улицу перекрыл. И загнал младшего в интернат. Сдал, так сказать. Чтоб не заботиться, не отвечать... И это Петю-то с его ангельским характером! Если у него вообще есть характер... Загубил талант! А потом навещал только по большим праздникам. Правду говорю, Петя?
— Я не помню.
— А что ты помнишь? Об этом весь интернат перешептывался. — Она повелительно, словно легендарная Жанна, указала на дверь. — Пойди к матери, Станислав: покайся. Вымоли прощение за младшего брата, которого она тебе завещала. А чего к нам-то явился?
— Просто так...
Просить о чем-либо было бессмысленно.
Он всегда считал, что жизнь холостяка — все на одного, для одного! — самая удобная жизнь на свете. Никто ему был не нужен. Но он не догадывался, что в ответ и сам не нужен никому на земле. Не подозревал, что и о нем позаботиться никто не захочет. Он был один-одинешенек. Один перед лицом своей болезни, своего возраста, которые подкрались незаметно, будто в ночи. Или в тумане комфортного, но не вечного, как и все на земле, благополучия. «Пойди к матери...» — выкрикнула «Жанна д'Арк с Пролетарской улицы». Не было уже ни брата, ни дочери, ни женщины, которая когда-то готова была за него умереть. Даже кошки у него уже не было.
«Но мама никогда не покинет меня, — внезапно подумал он. — Ни на этом свете и ни на том. Только она осталась. Только она...»
И он сам, а не по чужому совету, решил отправиться к ней.
Кладбище было неблизко. И он опять взял такси.
— Поздно небось... На кладбище-то! — сказал водитель, более совестливый, чем первый. Он и сумму не заломил, а спокойно назвал. И запросил по-божески: дорога-то все же на кладбище. Может, поэтому...
Выйдя из машины и миновав полуразрушенные ворота, он неожиданно обнаружил, что не помнит, где именно похоронена мать. Прах отца родственники, выполняя завещание, по-
229
гребли в городке, где тот появился на свет и где захоронены были все его предки. «А где мама?» — вновь ужаснулся он тому, что был у нее на могиле лишь в тот траурный день. Боль привычно поползла от левой лопатки в разные стороны.
— Я найду ее... Я найду... — стал без конца повторять он — сперва еле слышно, а после все громче, маниакальнее. — Я найду...
Он заглядывал в лица всем, кто в ответ смотрел на него из-под стекла, или с фотографий, ничем не прикрытых, или из глубины гранита, из мрамора.
Наконец, он упал на колени, поверженный безнадежностью.
— Я виноват, мама... Перед тобою... И перед всеми! Казалось, что тени с разных могил приближаются к нему — и обвиняют его, обвиняют. И тычут в него костлявыми пальцами.
— Я виноват... Виноват! Виноват...
Он упирался коленями в мокрую, размякшую землю, которая не хотела быть для него опорой, держать его на себе. А со всех сторон наступали.
— Виноват...
Наутро его обнаружили. Он по-прежнему стоял на коленях. Глаза и рот его были раскрыты. На губах застыло какое-то слово. Какое? Никто не слышал, не знал. Это было последнее слово, которое он произнес.
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ГОРКОМА КПСС, ГРЕЙС КЕЛЛИ
И ВЕЛИКИЕ РЕЖИССЕРЫ
Из блокнота
Великий режиссер Георгий Александрович Товстоногов как-то сказал мне:
— Вы знаете, что такое полный провал спектакля? И как он порою определяется? Вот сижу я в ложе с автором пьесы... Ему спектакль нравится, а публика как-то не проявляет эмоций. Но это еще не свидетельство провала. После премьеры мы выходим в вестибюль, чтобы уж никто не мог проскочить, проскользнуть мимо. Так сказать, перекрываем дорогу в гардероб! Кто-то из друзей драматурга бросает ему на ходу: «Масса мыслей! Масса мыслей... Я тебе позвоню». Но и это еще не провал. Другой приятель автора, будто не замечая нас, поверх голов кричит спутнице: «Номерок у тебя?!» И это еще не сви-
230
детельство... Но вдруг самый верный и самоотверженный друг, не увиливая, направляется к нам и громко провозглашает: «А мне нравится!» Вот это и есть полный провал.
В Москве и в «провинциальных» театрах (более чем в двухстах!) поставили одиннадцать моих пьес. Не похваляюсь, а просто сообщаю цифры, подвожу итог... И всякий раз, выходя в фойе после премьеры, я вспоминал Георгия Александровича, с тревогой ждал «самого самоотверженного» приятеля. Неужели появится и продемонстрирует свою верность?!
Более всего из своих спектаклей мне дороги те, главные роли в которых исполняла народная артистка СССР Валентина Сперантова — лучшая, на мой взгляд, актриса детского и юношеского театра (может, и в международном масштабе!). В трех моих пьесах она играла трех бабушек — и ни одна из них не была похожа на другую. Кстати, за тех бабушек она была удостоена Государственной премии России.
Характером Валентина Александровна обладала властным, самолюбивым, но, так как была к тому же и умна, критические замечания воспринимала без раздражения, а даже с большим вниманием. Как-то я сказал ей, что в спектакле «Обратный адрес» она кое-где упускает комедийные возможности, не доносит до зрителей юмор. Эти потери весьма ощутимы, поскольку образ ее в пьесе трагичен. «Смех и слезы не должны жить на разных улицах, — отважился я ей сказать. — Юмор амортизирует трагизм — и не дает ему стать сентиментальностью». Она не обиделась. А вечером приехала ко мне домой.
— Автор хоть не актер, — сказала Валентина Александровна, — но ударения и акценты расставляет безошибочно. Пожалуйста, прочтите мне пьесу...
Я прочел, а она вслушивалась в каждую реплику и даже расставила в своем экземпляре пьесы все мои «акценты и ударения». Потом после каждого спектакля народная артистка рапортовала:
— В субботу было пятьдесят смеховых реакций... А сегодня всего только тридцать три.
По ее просьбе кто-то точно подсчитывал количество тех «смеховых реакций»...
В другом моем спектакле фактически родилась как актриса Ирина Муравьева. Тоже приятно... Но триумф — да не сочтется это нескромностью! — выпал на долю спектакля «Мой брат играет на кларнете». В том заслуга прекрасного, изобретательного постановщика Павла Хомского, вот уже пятнадцать лет возглавляющего театр имени Моссовета, и блистательной
231
Лии Ахеджаковой, которую кинорежиссеры впервые заметили именно в «Кларнете».
Георгий Товстоногов тоже хотел поставить ту пьесу, но, приехав в Москву и увидев Ахеджакову, сказал: «Такой Женьки я не найду. И никто не найдет!»
«Лишние билетики» спрашивали от метро Маяковская, а от него до Московского ТЮЗа было квартала три. Когда мне позвонил Константин Симонов и попросил достать билеты для членов семьи («Мы с женой смотрели уже два раза!»), мне стало ясно, что это успех. А сколько было подобных звонков! Просил билеты для своей труппы даже Юрий Завадский...
Никогда не забуду, как принимали спектакль (был такой «демократический» термин). Честь принимать или не принимать принадлежала членам комиссии Московского управления культуры. В связи с этим пошутили: «По Станиславскому, театр начинается с вешалки, а у нас — с приемной комиссии». И действительно, дела обстояли именно так: не примут спектакль — и никакого «театра» не будет.
Пришел я тем сентябрьским утром шестьдесят восьмого года в любимый мною Московский ТЮЗ и увидел нечто, очень напоминавшее пародию на детектив: каждый член комиссии держал в руках, словно некий условный знак, распахнутый номер газеты «Правда». И все уткнулись в одну и ту же статью. Уткнулись сосредоточенно, точно вызубривали ее...
— Похоже, спектаклю — хана, — с натужной улыбкой сказал Павел Хомский.
А директор театра Илья Коган — человек многоопытный, не привыкший сдаваться — сунул и мне номер «Правды», уже не свежий, а нервно зачитанный. Я уселся рядом с комиссией и, как бы демонстрируя солидарность с ней, тоже уткнулся...
Вызубривали они статью самого авторитетного хореографа народных танцев, лауреата всех премий и обладателя всех почетных званий Игоря Моисеева. В той статье он обрушивался на «антинародные» танцы, которые, естественно, «извращают, портят зрителям вкус»... Я тоже не был поклонником рок-музыки и вообще «массовой культуры», а поклонником Моисеева был. Но мне вмиг стало ясно, что члены комиссии воспримут статью как набат, как сверхуказание — и все молодежные танцы, которые отнюдь не были общепринятыми, традиционными, но дарили спектаклю то жизнерадостную возбужденность, то лирическую задумчивость, будут объявлены «антинародными». Так и случилось. Ладони ни одного члена комиссии не соприкоснулись друг с другом... Какие там аплодисменты! Лица были каменно-отре-
232
шенными. «Обсуждать сегодня не будем», — сообщил председатель комиссии. И все убыли: он — на персональной машине, а остальные — на служебном микроавтобусе.
Что было делать? Лев Кассиль не раз убеждал меня в том, что за собственное реноме можно и не сражаться, но за судьбу своих произведений, если уверен, что они того стоят, сражаться необходимо. Как за судьбы детей... Эти слова моего друга напомнили мне, что в редакции той самой газеты «Правда» над «театральным разделом» властвует Галина Кожухова — человек своенравный, но тонкий ценитель искусства и лихой правдоборец. Я позвонил и — о, радость! — застал Галю в редакции. Рассказал обо всем, что случилось.
— Я отзвоню тебе минут через пятнадцать, — сказала Кожухова. — По какому номеру?
Все в директорском кабинете с мольбой и надеждой впились взглядами в телефонный аппарат. Через четверть часа он затрезвонил.
— Вы можете показать спектакль завтра утром?
Еще бы!.. Мы готовы были — во имя спасения — показывать его даже ночью.
На следующее утро Галина Кожухова явилась в театр с... самим Игорем Моисеевым.
Главный хореограф народных танцев всего государства был от спектакля в восторге. По ходу действия Галя время от времени что-то ему нашептывала. Это было признаком того, что и ей «Мой брат играет на кларнете» пришелся по вкусу: своей взыскательности она не изменяла ни разу!
После последнего бурного канкана всей молодежной труппы, которая от старания чуть не вылетела в зрительный зал, Игорь Моисеев заявил, что в своей статье он выступал против пошлости, а не против талантливой хореографии. Он именно за нее!
Многоопытный директор театра как бы невзначай подсунул Книгу отзывов и попросил воспроизвести все сказанное на бумаге. Игорь Моисеев выполнил просьбу с видимым удовольствием. А через день в «Правде» появилась восторженная рецензия Галины Кожуховой.
Руководители управления культуры немедленно сообщили, что подписываются под каждым словом Игоря Моисеева и руководящего органа партии. А обсуждение они отменили-де лишь для того, чтобы провести его в более торжественной обстановке, непосредственно у себя в управлении и в присутствии других режиссеров: пусть знают, каких спектаклей от них ждут зритель и Время! Высказываться от имени народа и эпохи было тогда очень модно.
233
Позже оказалось, что комиссию прежде всего смущали вовсе не танцы... Пьеса моя восставала против тиранского вмешательства в «чужие дела», а наши войска недавно вторглись в Чехословакию, дабы превратить «Пражскую весну» в холодную и промерзлую осень. Комиссия немедленно трансформировала личную историю в политический намек... Но статья «Правды» была для чиновников от искусства приказом. Спектакль «проскочил»...
Нет, театр не может начинаться с комиссий... При виде их мне каждый раз хотелось воскликнуть словами Фамусова: «Что за комиссия, Создатель?!»
Увы, я был свидетелем не только театральных праздников, но и театральных драм, даже трагедий, происходивших в самой жизни. Одна из них случилась с режиссером, которого тоже считаю выдающимся: с Анатолием Васильевичем Эфросом.
Вновь опасаюсь, что меня могут счесть нескромным, но все же повторюсь: хоть моим спектаклям и фильмам посвящено немало хвалебных статей и рецензий, более всего ценю я то эссе, которое с присущим ему изяществом написал Анатолий Эфрос о телефильме «Поздний ребенок», поначалу не оцененном мной самим по достоинству.
Помню пору расцвета Центрального детского театра, когда главным режиссером его был Анатолий Васильевич. Люди — юные и взрослые — долгими часами стояли в длинных, но отнюдь не угнетавших взгляд очередях за билетами. Не угнетавших, ибо то была жажда приобщиться к искусству редкостному и своеобычному. Каждая премьера — каждая! — становилась событием. Именно там, в Центральном детском, родились Олег Ефремов, Табаков, Дмитриева... Для детей, подростков и молодежи эфросовские сценические творения были витаминами духовного и нравственного взросления.
А потом Анатолий Васильевич ушел в Театр Ленинского комсомола. И в Ленкоме, как ныне называют тот театр, каждый спектакль тоже оказывался событием. Но для идеологического отдела горкома КПСС событиями были не литературные произведения и не полотна художников, не оперы и балеты, не открытия уникальных режиссеров драматических театров, а проработочные собрания и совещания, кои начальница отдела Алла Петровна Шапошникова собирала и режиссировала регулярно. Репертуар Ленкома ее тревожил: он не соответствовал идеям вождя революции и целям коммунистического союза молодежи, из чьих имен слагалось имя «аполитичного
234
театра». За безыдейность и политическую аморфность театр и собирались прорабатывать на очередном совещании в утренние часы. Но как раз в те часы у Эфроса была репетиция... А репетиция — это святое дело! И он «на ковер» не явился.
— Игнорирует нас, — пожаловалась первому секретарю горкома КПСС Николаю Григорьевичу Егорычеву Алла Петровна.
— А мы давайте разок проигнорируем его самого. Как главного режиссера!
Такими или похожими словами ответствовал первый партийный секретарь. Самый первый во всем городе, во всей Москве! И Анатолия Эфроса незамедлительно переместили не главным, а «очередным», то есть, по сути, рядовым режиссером в театр на Малой Бронной.
Марк Захаров и его талант пришли в Ленком вслед за Эфросом не сразу — был и период безвременья. А вся жизнь Анатолия Васильевича пошла «наперекосяк»... Ведь по призванию он, на мой взгляд, был прежде всего режиссером детского, юношеского, молодежного театра. Но что до того Николаю Григорьевичу и Алле Петровне!
Минуло много лет... И вот я встретился с Николаем Григорьевичем Егорычевым, уже опальным, уже не первым партийным секретарем, а «ссыльным послом» в Копенгагене. «Посол ты на фиг!» — называли таких в Советском Союзе.
В загородную резиденцию меня пригласила супруга посла, которая показалась мне женщиной интеллигентной, даже начитанной. И я все время молча и недоуменно размышлял: «Неужели она знала о том, что муж ее одной фразой, словно ударом ножа, как бы прикончил и вышвырнул большого режиссера из театра, который духовно принадлежал этому режиссеру, а вовсе не ее супругу? Неужели была «в курсе дела»?
Меня подвезли к вилле — и я, несколько оторопев, увидел, как Николай Григорьевич с нескрываемым наслаждением срезает в саду розы, слагая из них букет. Очень ему нравилось это занятие... И думал он, представлялось мне: как хорошо и даже великолепно быть вдали от райкомов, горкомов, обкомов, быть в этом пышном саду, среди цветов и неумолкающих птичьих арий!
Он меня еще не узрел, а я наблюдал за ним и расшифровывал выражения его лица, его взоры, которые нежно общались не с казенными бумагами, не с официальным звонком, следившим за соблюдением регламента, а с букетом, источавшим чудодейственные запахи и красу.
235
Потом мы ужинали... Николай Григорьевич бескомпромиссно и за очень многое осуждал руководство сверхдержавы (опальное начальство, я заметил, всегда начинает мыслить критически, а то и дерзко!).
— Они ведь такую обстановку создают, что иногда действуешь помимо собственной воли.
Поскольку он от них как бы отрекся, я счел момент подходящим и сказал:
— Да... я заметил, что приходится. Вот с Анатолием Эфросом, например...
Жена встрепенулась — и я понял: это было предметом семейных обсуждений, разногласий, а, может, и резких конфликтов.
Бывший первый секретарь метнул в меня колючее недовольство — не хотел касаться той давней истории, а в присутствии супруги — особенно.
— Было... Было такое. Шапошникова меня сбила с толку. Мне ведь надо было отвечать за десятимиллионный город: накормить его, обеспечить теплом, транспортом. В такой горячке можно в чем-то не разобраться...
Человек он был амбициозный и оплошностей своих признавать не привык.
Виноваты были все: высшее руководство, Шапошникова, десятимиллионный город, но только не он.
— А неужели Алла Петровна не понимала, что таких режиссеров, как Эфрос, беречь надо?
Он сообразил, что я назвал Шапошникову, а в виду имел его самого.
— Вот видишь! — сказала жена. — Интеллигенция подобных промахов не прощает.
В тот момент на экране огромного телевизора, похожего скорее на киноэкран, появились какие-то сенсационные кадры — и Николай Григорьевич, уже давно умевший быть дипломатом в жизни, ловко переориентировал мое внимание и внимание супруги на какую-то чрезвычайность, далекую от нашей беседы.
Там, на экране... С циничной и равнодушной деловитостью исследовали разные версии трагической гибели Грейс Келли.
Мы с Агнией Барто и Львом Кассилем были однажды ее гостями в Монако. Супруга главы государства (пусть маленького, но столь экзотичного!) соединяла в себе дар кинозвезды с очарованием красивейшей, как многие утверждали, женщины мира. Очень любимая жена (это я наблюдал!), счастливая мать (и это я видел!), всесветная знаменитость... И вдруг!
236
Оказалось, что в машине ее одновременно сразили инсульт и инфаркт. Этим поначалу и объяснили автомобильную катастрофу. Но позже было установлено, что мозг и сердце не выдержали ужаса падения в пропасть. За рулем же, оказывается, была не она, а ее младшая дочь, которую Грейс Келли задумала учить автовождению в почти экстремальных условиях: на виляющей горной дороге. Так, по крайней мере, с бесчувственной обстоятельностью докладывал телеэкран. И вновь подтвердилось, что расстоянием между взлетом и падением бывает лишь один шаг...
Николай Григорьевич принялся вздыхать по поводу несправедливых несчастных случаев и беспричинных ударов «в результате одного неверного поворота руля».
Мне хотелось сказать, что чаще такие удары наносят люди. И вновь вспомнить историю с Эфросом... Но он и так чувствовал, что я думаю об этом. И жена его напряженно ощущала как бы присутствие той давней драмы.
Слова были уже не нужны.
— Вы слышали, дочь Егорычева живет в Америке! Кажется, даже стала гражданкою США, — огорошили меня в Нью-Йорке.
— Какого Егорычева?
— Того... того самого!
Вот уж политическая фантасмагория: дочь Сталина доживает в каком-то швейцарском монастыре, дочь Егорычева — в Америке... А отцы-то их не то что людям и мыслям, а и, повторюсь, птицам пытались перекрывать пути в зарубежье...
ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТ — СЕРЫЙ
Из блокнота
Полагаю, никаких закадычных друзей у Михаила Сергеевича Горбачева не было.
Время от времени появлялись «верные единомышленники». Но оказывалось, что президент и генсек «едино мыслил» с ними лишь до поры.
Однако нашлись в конце концов и такие, которым Горбачев доверился полностью: Янаев, Крючков, Болдин, Язов, Павлов, Лукьянов...
Чем заслужили абсолютное доверие эти пятеро? Исходя из чего подбирал генсек и президент «приближенных», по какому принципу формировал он свое окружение? По тому же, что и предыдущие вожди коммунистической партии и советского государства.
237
Надо было неукоснительно соответствовать определенным условиям... Во-первых, быть (или казаться!) глупей и неприглядней вождя. Во-вторых, не иметь ни своего, ни чужого мнения, кроме замыслов своего хозяина и фанатично, с закрытыми глазами следовать им: перестройка — пожалуйста, антиперестройка — будьте добры...
Валерия Болдина я знал по редакции газеты «Правда», где он руководил сельскохозяйственным отделом. Что-то пописывал... В частности, речи и доклады для секретаря ЦК КПСС по сельскому хозяйству Михаила Сергеевича. На этой почве — не скажу «плодородной», но, безусловно, сельскохозяйственной — они и сошлись. Болдинские недоброжелатели злонамеренно утверждают, что фамилия Болдин происходит от ругательного «балда». Намекают на что-то обидное... Но Болдин «балдой», то есть отпетым дураком, никогда не был. И умным не слыл... Как большинство ближайших помощников Горби, он был никаким. Хотя в любознательности Валерию Болдину не откажешь: у него обнаружили магнитофонные записи не только государственных акций правительственного уровня, но и акций интимных, постельных того же самого ранга. Руководитель секретариата, а по сути — всего аппарата генсека и президента, желал быть в курсе всех проявлений и возможностей коммунистических лидеров.
И Язов был никаким... Разве что лицо выделялось красно-бурым цветом. Какая-то краска, значит, все же была, и свидетельствовала она о том, что Язов тоже был не дурак... выпить. С ним я лично знаком не был: писатели с маршалами редко общаются. А вот с Янаевым приходилось встречаться... Он долгие годы возглавлял комитет молодежных организаций ЦК комсомола. Что за комитет? Что обязаны уметь его лидеры? Многозначительно опрокидывать себе в рот бокалы на приемах многочисленных зарубежных делегаций. Естественно, за мир и дружбу между народами. Провозглашать тосты за то же самое и вдали от отечества, представляя «авторитетные советские делегации». На такой вот почве — не сельскохозяйственной, как с Болдиным, а на бокало-рюмочной — сошлись Миша и Гена. Спиртное очень сближает... А Михаил Сергеевич, рассказывают, выпить в ту пору любил! Потому-то и принял несколько позже оглашенный антиалкогольный закон, положив начало мощной индустрии самогоноварения и процессу тотального ограбления советской казны и личных бюджетов советских граждан.
Одним словом, и Янаев ярких примет не имел, чем, мне кажется, и добился высочайшего доверия президента, который
238
сумел-таки (не без усилий, с третьего или четвертого захода) продвинуть его аж в вице-президенты. Янаев стал «вторым человеком» в стране. Примитивный бабник и выпивоха... Другими достоинствами он не блистал. На выборах будущий вице-президент, правда, поразил даже видавших виды депутатов своей безыскусной доверительностью. На вопрос по поводу состояния его физических сил Геннадий Иванович ответил: «Спросите у моей жены!» Впрочем, может быть, это было приступом юмора? Или на нервной почве... Сколько на свете самых разнообразных почв!
Безграничное доверие к Павлову возникло, вероятно, благодаря тому, что его неказистая антипатичность себя даже и не скрывала, а, наоборот, всячески выпячивала: не лицо, а ряшка (как говорят в народе, «не оплюешь»); лоб в отличие от раздутых щек узкий, почти незаметный, волосы — колким, иглистым, боксерским бобриком. Одним словом, как сказал сатирик: «Лицо, не обезображенное интеллектом». На фоне Витте и Столыпина, которые тоже были премьерами на Руси, этот премьер внешне, как видим, проигрывал. Ну, а внутренне? Что у него было внутри и было ли там вообще что-нибудь? Никто точно не знал. Скрывал Валентин Павлов, усиленно скрывал все, чему внутри быть положено: ум, душу, сердце... Когда он служил министром финансов, один из его заместителей, человек бесстрашно-принципиальный, мне сказал:
— Представляете, в министерстве я числюсь героем: захожу в кабинет к министру, не записываясь за неделю.
Он считал очереди явлением до того естественным, что даже своих заместителей в очередь выстроил.
— Бюрократ?
— Король бюрократов!
Бывшая сотрудница Госплана так отозвалась о Павлове, которого наблюдала в начале его карьеры:
— Валентин? Полный был очень, неповоротливый. Неуклюжий... А больше ничего о нем сказать не могу. Не запомнилось как-то...
Еще один из ближайшего окружения, Владимир Крючков, в иносказательном смысле краску имел: он был забрызган кровью венгров, восставших против «социалистического рая» в 1956 году.
Сотрудник советского посольства в Будапеште, Крючков собственноручно, быть может, не вешал и не расстреливал. Но провоцировал то и другое.
Сделавшись председателем КГБ, Крючков официально произнес про кого-то фразу, которая заставила меня содрогнуться:
239
«Мы его даже не расстреляли». Значит, расстрел, уничтожение людей были для него делом привычным. Он упрямо пытался вернуть страну в эпоху шпиономании, запугивал всеми на свете спецслужбами, кроме своей. Внешность у него была вызывающе иезуитская... И несмотря на все это, Крючков заслужил абсолютное доверие главы государства.
Представители ближайшего окружения однажды окружили Михаила Сергеевича... окружили тем враждебным, хоть и загадочным, кольцом, которое именуют «августовским путчем».
Таких вот — бесцветных, безликих — Горби почему-то не остерегался... Он упорно не постигал (не желал постичь!), что личности истинные, выдающиеся — подобные Сахарову — переворотов не замышляют, брезгливо отвергают закулисные интриги и тем более — заговоры. Людей столь глобального уровня Горби боялся, а ничтожества казались ему своими, понятными и надежными. Это горчайшее заблуждение, традиционное для коммунистических лидеров, дорого обошлось Горбачеву. Впрочем, я убежден: вернись он сейчас на прежние посты, все пошло бы так же, по-старому. Ну, не близки ему люди высокого стиля, и не в состоянии он понять, что «низкий» уровень умственного развития и общения сопряжен и с другой — всяческой! — низостью.
Что поделаешь, патологическая боязнь личностей — непременная и неизлечимая болезнь коммунистических вождей. Даже Хрущев, который (повторюсь!), хоть и не до конца, но первым разоблачил Сталина, поднял «железный занавес» и, при всех своих шараханиях от «оттепели» к политическим заморозкам, свершил много доброго и хорошего, даже он опасался не Полянского с Брежневым и Подгорным, которые его и предали, а испугался великого полководца, маршала Жукова, который бы, думаю, его защитил.
Не терпели руководящие большевики личностей. Их преследовало необъяснимое желание опираться на... пустоту.
Почему я так много слов и даже глав уделил Горбачеву? Потому что и надежд с ним было связано очень много. Кое-какие сбылись... Бесспорно сбылись!
Да, Горбачев был первым генсеком, пытавшимся не только провозглашать, но и воплощать идеалы свободы.
Но отчего осталось столько разочарований? Отчего? Чтобы убедительно ответить, нужны многотомные исследования.
Я же хотел хоть в чем-то разобраться, обращаясь к фактам, порою вроде второстепенным, но, на мой взгляд, весьма показательным. А кроме того... Когда речь идет о главе государства, ничего второстепенного нет.
240
«А КСТАТИ...»
Из блокнота
«Ты — мне, я — тебе», — это крайне, до отвратительности цинично выраженная формула взаимоотношений. Хотя она могла бы таить в себе и совсем не постыдную суть: разве не на фундаменте взаимопонимания, взаимозаботы только и может взрасти благородное человеческое братство? А семья, если она семья? Один приходит на выручку другому, один другому протягивает руку... И это лишено отталкивающей блатнерской окраски. Слово многое определяет: оно может, увы, придать и естественным, вполне закономерным чувствам и отношениям между людьми совершенно противоположное значение. Способно опошлить, очернить (как в других случаях способно возвысить!)
«Ты — мне, я — тебе», — это формула, которую уже не отмыть, потому что она олицетворяет собою не бескорыстную взаимоподдержку, а блатнерскую круговую поруку. Или же отношения этакого «взаимоплатежа». Чтобы показать, как это почти на каждом шагу происходило в бывшем Советском Союзе, расскажу об одной истории, едва ли не главным действующим лицом которой стал, по воле настырных обстоятельств, я сам. Основные события того полукомедийного спектакля произошли в течение одного дня. А день, как известно, начинается с рассвета...
Рассвет, к тому же очень ранний, был буквально оглушен настойчивым телефонным трезвоном: первых звонков я во сне не расслышал, последующих в полусне отчетливо не разобрал... Но телефон не отступал, пока я не снял трубку. Звонил ответственный секретарь одного из «средств массовой информации»:
— Анатолий Георгиевич, простите, что я спозаранку: боялся, как бы вы не ушли из дома! — Было шесть часов тридцать минут. — Хорошо, что застал. Вы понимаете, мой сын Сережа поступает в один технический институт. Не хочу по телефону конкретизировать... Но в том институте есть особый факультет, где на одно место десять претендентов. Сережа хочет именно туда. Я прошу... умоляю вас: поговорите с ректором. Объясните, что Сережа тяготеет именно к этой научной сфере. И буквально с детских лет!
— Но какое отношение я-то имею к тому институту?
— Я уже выяснил: ректор вас любит! Это точные сведения. Если бы вы сегодня смогли к нему съездить! Я бы, как говорится, до конца своих дней... Конечно, заеду за вами на маши-
241
не! В любое время... Но лучше бы пораньше. Он приходит на работу в девять утра!
Ровно в девять я был у ректора. Он принял меня весьма радушно. Сомнений, по какому именно поводу я вдруг явился в технический вуз, у него не возникало.
— На какое отделение? И кого рекомендуете? — с благожелательным юморком поинтересовался сухонький старичок — член-корреспондент Академии наук, известный ученый — с непоблекшими и все понимающими глазами.
Я сказал то, что следовало, о Сережином страстном призвании и недюжинных способностях. И, как полагалось, добавил:
— Никаких привилегий не надо, конечно. Но просто приглядитесь к нему повнимательнее, если можно...
— Пригляжусь.
Он записал необходимые «анкетные данные» абитуриента на календарном листке.
Когда я, уходя, уже прикоснулся к дверной ручке, сзади меня настиг надтреснутый, но и как бы смазанный юморком профессорский голос:
— А кстати... Знаете, у меня есть любимый племянник. Очень талантливый юноша! Сочиняет стихи. Когда мы всей семьей собираемся, читает их вслух. Я, конечно, не специалист в области поэзии и вообще не гуманитарий. Но все же как любитель стихов могу оценить. И представьте себе, послал он в журнал подборку самых лучших своих стихотворений, а оттуда — ни звука. Ну, ни гугу... Вот уже полгода прошло, а они все не печатают...
— Может, у них «рукописи не возвращаются»?
— А зачем возвращать? Надо напечатать. Поверьте, они того заслуживают. Вот если бы вы...
На машине папы абитуриента я незамедлительно отправился в редакцию того журнала, который не оценил по достоинству произведений «племянника».
Заведующего отделом поэзии не оказалось. А заместитель очень мне почему-то обрадовался.
— Стихи этого юноши, к сожалению, слабоваты. Он целую папку приволок! Разве что опубликовать два-три коротких стишка... Они из разряда «можно печатать, а можно — и нет». Но раз вы рекомендуете, мы напечатаем. Я как раз замещаю заведующего: он в отпуске. Так что твердо вам обещаю.
Старательно поблагодарив, я направился к выходу. Но меня догнал голос заместителя:
— А кстати... У меня к вам огромная просьба! Личного характера... — Вот почему он мне так обрадовался. — Я давно
242
толкусь в очереди на квартиру. И вот, наконец, предложили... Соизволили! Но на первом этаже. Почему?! Я столько лет состою в Союзе писателей. Много книг. И тут вот ишачу, в редакции. Отбиваюсь от графоманов. Это же «вредное производство»! К тому же я — инвалид. И вдруг... первый этаж, окнами на проезжую дорогу. Столько лет добивался! Деваться было некуда.
— Ладно... Попробую. Поговорю в Союзе писателей. Как раз завтра там буду.
— Нет, нет... Завтра может быть уже поздно. Именно сегодня окончательно утверждается список. Может быть, даже в эту минуту... Вас послала сама судьба!
Вновь погружаюсь в «Жигули» Сережиного родителя — и отправляюсь прямиком в Союз писателей.
Управляющим делами в ту пору — правда, очень недолго — был лихой, изрядно выпивавший кутила немолодого возраста, который со всеми держался запанибрата. Полушепотом всем сообщал, что он генерал в отставке, но генерал «по секретной части». Я в этом весьма сомневался.
Увидев меня, он прежде всего полез в сейф.
— Коньячку? Или чего попроще?
Я изложил просьбу, напирая на инвалидность. Он встрепенулся:
— Подумаешь, инвалид! А кто нынче не инвалид? Я, что ли, здоров? Но на новую квартиру не претендую.
— У вас, может, и старая неплоха?
Мою фразу он пропустил мимо ушей и потому, наверное, что «пропустил» до того свою «заветную дозу».
— А стихи он сочиняет разве какие-нибудь там... потрясающие?
— У нас же союз не потрясающих писателей, а просто профессиональных, — продолжал я полуотшучиваться.
Полагаю, его никакие произведения не потрясали, поскольку произведений он вообще не читал. Но и сдаваться не торопился:
— Кто-то же должен и на первом этаже жить! Инвалиду как раз удобно: не надо добираться наверх.
— А в доме разве нет лифта?
— Тебя не переговоришь! — он с ходу всем «тыкал». — Что делать? Придется пойти навстречу. — Он набрал телефонный номер и стал распоряжаться в трубку: — Там у нас что-то есть в заначке на третьем этаже... Перебросим туда с первого!
Когда я, исполненный благодарности, поднялся со стула,
243
так и не отведав ни одного напитка из тех, что прятались в сейфе, управляющий размашисто схватил меня за рукав:
— А кстати! Моя дочь учится в музыкальной школе. То есть, это дочь моей жены от первого брака: люблю военную точность! Замечательная дивчина! Тут, видишь, какое дело... Я давно хотел к тебе обратиться. Директор школы сказала, что если б ты провел читательскую конференцию, она бы пригласила районное начальство, — и им бы... произвели капитальный ремонт.
Думаю, ремонт с конференцией он увязал сам, по ходу нашей беседы: требовалось любым способом привлечь внимание районного начальства к музыкальной школе, где пребывала его падчерица.
— Школа, к сожалению, находится фактически за городом. Люблю военную точность! Но у меня — «мерседес»: туда и обратно. Так что не беспокойся!
Я согласился.
А месяца через полтора мне позвонил тот самый ответственный секретарь одного из «средств массовой информации»:
— Благодарю вас! Сережа поступил... Так что спасибо! Правда, он вас не подвел: все экзамены сдал на «пятерки». Оказался на высоте. Но вы все же ездили, хлопотали... Поэтому благодарю. Но он, молодец, не подвел!
Стало быть, все мои унизительные поездки были ни к чему: Сережа сам по себе — и без посторонней помощи! — оказался большим молодцом.
По наивности своей я позвонил ректору института, тому самому милейшему старичку-ученому с непоблекшими очами, но надтреснутым голосом:
— Спасибо вам! Правда, Сережа не подвел нас с вами: экзамены сдал на сплошные «пятерки».
Ироничный хохоток был мне ответом. Стало совсем уж не по себе:
— Извините, пожалуйста.
МЕРТВОЕ МОРЕ
С голоса
Передо мной было Мертвое море. Совсем мертвое: без подводных растений, без рыбьей суеты, без малейшего внутреннего движения. Засоленная, словно забальзамированная жизнь...
244
Такою была и моя. Или, точней, стала. Я пытался — в который уж раз! — представить себе, как и почему это произошло.
— Ты слишком часто отсутствуешь на земле, — усмешливо предупредил меня как-то приятель не ради заботы, а ради забавы. — Но именно на ней, на земле, все грешное и случается.
«В мое отсутствие?» — молча спросил я себя самого. И сам себе не ответил.
Жанна не терпела ничего, казавшегося ей банальным: ни одежды, ни фраз. Ни поступков... Потому мы и не вступили в законный брак: это бы выглядело ветхой обычностью.
Она работала гидом в московском музее — и привыкла к прекрасному. Коим я не являлся... Она была из тех женщин, для которых внутренние качества решающего значения не имеют, поскольку их способны прикрыть качества внешние. Но я все же, преодолев фасад и витрину, разглядел: Жанну одолевала страсть приобщаться к чему-нибудь сверхъестественному. В том числе к полотнам и скульптурам, которые по размеру иногда умещались на скромном и даже ничтожном пространстве, но не умещались в восторженном сознании человечества. Со временем я приметил, что Жанну больше потрясали не сами творения и не те, что их воспаленно оценивали, а те, что приценивались. И на аукционах шедевры приобретали...
Именем своим — Жанна! — она тоже приобщилась... к исторической личности, которая одной, определенной стране вроде уже не принадлежала, так как символы не имеют гражданства. Поначалу и профессия моя тоже ее потрясала. Та профессия представлялась Жанне не романтичной, как многим другим, а загадочной.
— Это просто работа, — привычно не согласился я.
Я не стал объяснять, что шоферу вести переполненный автобус гораздо опаснее. В отличие от меня он окружен и стиснут другими машинами. Так, как и всегда в жизни: одни сзади, другие же — впереди. Те, что сзади, следуя человеческим нравам, пытаются обогнать. Но прежде, чем обогнать, приходится поравняться. И некое время противоборствовать, находясь рядом. Это тоже, как в человеческих отношениях: самая рискованная ситуация. Ее не доверишь автопилоту, а вернее, «авторулю». Я не стал огорчать Жанну: «Пусть думает, что гигантское воздушное чудище, смахивающее на доисторических земных обитателей, отрывается от взлетной полосы не могуществом техники, а лишь могуществом моей смелости и моего искусства. Они чудились ей таинственными. Пусть заблуждается... мне на пользу!»
245
— Мир состоит из пассажиров, которые с твоей помощью могут взмыть! — восторгалась она. — Если слово «пассажир» произошло от «пассажа», то главный их пассаж — всего лишь пристегнуться ремнями.
— Я тоже пристегиваюсь.
— Но ты — к небу! А они — к пронумерованным креслам. Тогда она любила... Меня или мою «исключительность»?
Кто знает?
Людей чаще всего восхищает то, на что они неспособны. Жанна боялась высоты: воздушным лайнерам она предпочитала морские, а еще более — обыкновенный наземный транспорт. Она опасалась лифтов, которые могли застрять, повиснув над пустотой.
Мы, кстати, и познакомились с ней, застряв между двумя этажами. Деваться было некуда. Волею судьбы мы сразу, без подготовки, оказались наедине. Сперва она лишилась голоса. Но я понемногу хладнокровием своим вернул ей дар речи... и возможность вновь сделаться женщиной.
— Мне с вами спокойно, — сказала она. И неспокойно прильнула, как бы продолжая искать спасения. А потом, также вдруг, принялась целовать меня... в знак благодарности.
— Я полюбила тебя за то, что ты лишил меня страха, — впоследствии не раз говорила она.
Иные любят за то, что их «лишают невинности». А она любила за то, что я лишил ее ужаса.
— Ты освободил меня от неприятия высоты!
Я знал, что любовь «за что-нибудь» ненадежна и кратковременна. Только необъяснимая страсть неподвластна времени.
— Я оценила тебя «в подвешенном состоянии», — полушутливо утверждала она. «Лучше бы уж оценила в лежачем!»
Цинично эпатирую я сейчас, через годы: чтобы даже памятью не возвращаться в ту пору всерьез.
...Ее чувство, я знал, могло испариться, исчезнуть столь же непредсказуемо, как и наша подвешенность в лифте. А сам я застрял в том лифте надолго.
Как все не склонные к верности женщины, Жанна была подозрительна и ревнива: ей не хотелось, чтобы ее муж поступал с чужими женами так, как с ней поступали чужие мужья. Дотошная аккуратность в бытовых мелочах призвана была доказать, что Жанна неукоснительно чистоплотна и во всем остальном. Нарочитая опрятность сопровождается обычно нарочитой брезгливостью. «Все, что естественно, то не смешно и не стыд-
246
но», — так говорила моя мудрая бабушка. О чем я и сообщил Жанне.
— В своем музее я привыкла к мудрости гениев. А ты пользуйся мудростью бабушки!
С бабушкой она согласиться никак не могла, потому что, поклоняясь сверхъестественному, естественность начисто отвергала. Она преувеличенно восхищалась и преувеличенно разочаровывалась...
Неестественность восприятий и болезненная брезгливость порождаются характером резкоконтинентальным. Такой именно у Жанны и был: тепло могло в любой момент смениться холодом или стужей.
Охлаждение, думал я, возникло в те мгновения, когда она брезгливо рассмотрела «на свет» разные части моего скелета: позвоночник, грудную клетку, в которой сердце и легкие, как во всякой клетке, выглядели узниками. Рентген сделал загадку моего существа прямолинейно разгаданной.
Авиакомпании хотят знать, что происходит у их пилотов внутри. Знакомый с характером Жанны, я изобретательно прятал рентгены. Но она, вычищая и словно бы обыскивая квартиру с гигиенической целью, обнаружила снимки того... что было моим остовом, на чем все во мне держалось, крепилось.
— Это и есть ты? — спросила она.
— Да, это я...
Она огорченно опустила снимки обратно в конверт.
Может, то не было началом ее разочарования в моей обыкновенности, а финалом беды, пришедшей гораздо раньше, давно, но мной не замеченной? Может, и так...
Меня, отвечавшего в воздухе за сотни неведомых мне, но человеческих судеб, регулярно проверяли «на прочность». И я выдерживал испытания. Прочность, увы, распространилась и на мое обожание. А ее страсть, возникшая над пустотой, пустотою и обернулась. Вскоре это окончательно обнаружилось... и без рентгена.
Жанна проявляла предельную (порой даже казалось, что запредельную!) компетентность на интеллектуальном музейном пространстве. Меня же она числила в отважных, но слаборазвитых... И потому, не задумываясь, ознакомила с любительскими фотографиями — нет, не рентгенами! — сделанными во время туристской поездки «по местам, обессмерченным левитановской кистью». Так возвышенно и даже высокопарно
247
обозначила она те места. Впрочем, для меня, пилота, «высокопарно» — не слово со знаком минус: разве «высоко парить» это скверно?
Дело, однако, было не в гениальных полотнах, а в любительских фотографиях...
Судя по ним, главную достопримечательность при посещении исторических мест представляла сама Жанна. На всех снимках она была вне общения с туристами, а также с природой, запечатленной левитановским мастерством. Жанна была одна... То на прибрежном песке, то в прибрежных кустах, то в густоте первозданного леса. Песок, лес и кусты виделись смутным фоном. Зато старательно были отображены талия Жанны, ее ноги и плечи, ее не слишком старательно прикрытая грудь. И непременно, везде — многозначительная затаенность полуулыбок...
— Видишь, я всюду одна! — зачем-то сочла нужным сообщить мне, слаборазвитому, Жанна.
— Но кому-то ты все-таки улыбаешься? И кто-то тебя снимал...
— Какая мелочность! Какая приземленность и примитивная практичность мышления! При твоей-то профессии.
Моя профессия требовала мгновенной реакции на все, что я видел и слышал. Но на сей раз глаза оказались даже прозорливее, чем я ожидал.
— При твоих кровях быть пилотом?.. Это такая редкость. Это почти анекдот! — констатировала она в другой раз. — Приземленность, мелочность — вот твоя суть. Которую ты и обнажил, разглядывая мои фотографии...
Я не очень уверенно обвинил ее в шовинизме. А она пустилась в истерику. К чему прибегала в тех случаях, если была слишком уж не права или чересчур виновата.
— Это не точка с запятой и не многоточие! Это точка. Это конец! — бушевал резко континентальный характер. Бушевал неестественно, ухватившись громко за мои тихие фразы, которые Жанне давно уж были нужны.
Ну, а я, подобно Чацкому, ринулся «искать по свету» успокоения... и мужской судьбы. И внезапно обрел надежду на жизнь... возле Мертвого моря.
Передо мной было оно, Мертвое море. Летчики, как и профессиональные шоферы, часто страдают болезнью тазобедренных суставов и позвоночника: слишком часто, с опромет-
248
чивой напряженностью на них опираются. Морская же соль, как мне объяснили, словно клин клином вышибает другую соль, вцепившуюся в суставы. Она благотворно действует на позвоночник и тазобедренный остов... которые Жанна так придирчиво разглядела вместе со всем моим остальным скелетом. Последнее уже не имело значения...
Я не успел еще окунуться в целительно омертвевшую воду и для начала окунулся в пластмассовый лежак под защитным тентом. Сзади, под другим тентом, утаивали себя от солнечной навязчивости две женщины. Их присутствие я обнаружил только по голосам. Они же меня, судя по откровенности разговора, вовсе не обнаружили.
Собственно, исповедовалась одна из них... Другая же, не смея, согласно интеллигентности своей, прерывать и вторгаться, ограничивалась лишь комментариями вздохов — то сочувственных, то обнадеживающих.
Но у той, которая исповедовалась, голос был удивительно ароматным. Он обволакивал не парфюмерными запахами, а ароматом женственности и обаяния. От него трудно было оторваться, он завлекал, — и я боялся, что он вдруг умолкнет. Фразы она не произносила и тем паче не восклицала, а будто выдыхала их из души.
— Только Господь мог подобное сотворить и мне ниспослать. Чтобы ты с другого конца земли приехала именно в эту страну, на это побережье. И в этот отель. Согласись, само собой так не могло получиться. Совпадения многое решали не только в личных историях, но и в историях целых империй. Но столько совпадений одновременно?
Собеседница разом, единым вздохом одобрила все совпадения.
— А теперь о самом главном... И самом неутешном в моей жизни. Это ужасно, когда самое неутешное, самое драматичное становится самым главным. Я потеряла е г о... которого нельзя заменить. Все случилось так непредвиденно и «преждевременно»! Хотя в любое время его уход был бы «прежде времени».
Собеседница вздохнула шумно и горестно.
— Ты знаешь, как мы были верны друг другу. Сколько бы не предстояло лет... я той преданности не изменю.
Собеседница вздохнула не очень определенно: то ли ей посочувствовала, то ли одобрила, то ли нет. Во мне же внезапно взыграл протест: «Какие измены? Если его уже нет?!»
— Ты помнишь, что он верил в необоримость добра. И никакие подвохи жизни не считал безысходными. Он и меня
249
приучил верить: спасительный выход найдется! И вот появилась ты...
«А я?!» — с той же необъяснимой внезапностью возник у меня вопрос.
— Полтора года он был прикован к постели. Привычные слова... Но действительно был прикован. И ко мне тоже. Только раньше цепи были счастливые и желанные, а тут... Но поверь, его беззащитность пробуждала во мне не одни сострадания, но и неизъяснимую нежность. Ее, и правда, нельзя было «изъяснить» словами. Он стеснялся... А я готова была принять на себя все его тяготы. Лишь стеснительность его принять не могла. Он не должен был по этой причине еще более растравлять себя. Разве у меня могло вызвать брезгливость хоть что-то, исходящее от него? У нас не было детей... И он стал моим сыном. Единственный сын и единственный муж.
«Почему единственный?» — не унимался во мне бесцеремонный протест.
— Во всех случаях жизни он, ты знаешь, обращался к своему божеству... И за спасением тоже. Перед смертным часом сказал: «Александр Сергеевич завещал Натали выйти замуж через два года... Я сокращаю этот срок ровно на два года». Шутил на пороге кончины: сравнил меня с Натали.
— Он не шутил... Ты на нее похожа.
Это была первая фраза, которую негромко, но внятно промолвила собеседница.
— Помилуй, всякому преувеличению есть предел!
— Похожа... — не смогла промолчать молчаливая собеседница. — Тебя даже называли ее двойником.
— Перестань... — махнула если не рукой, то голосом «копия» Натали.
«Неужели судьба, смилостивившись, решила компенсировать мои потери? Мое разочарование?» Я слышал... ловил голос антипода (совершенного антипода!) той, что стала истоком всех мытарств моих. Я упивался тем голосом, цеплялся за него. «Неужели нашел? Неужели то самое? И еще похожа на Натали!..»
Но голос пока не желал отвлекаться от недавней утраты:
— Потом он сказал: «Я буду считать неверностью не твое замужество... а твое одиночество!» Значит, я впервые окажусь ему неверна. Невзирая...
И замолчала.
«На что она может или должна взирать? — опять встрепенулся я. — На что? Или, не дай Бог, на кого?» Мне показалось, что в ее судьбе... может произойти еще одно внезапное
250
совпадение: мое появление тоже именно в этом месте и именно в это время.
— Невзирая на то, что я создана для семьи, — продолжала она, словно бы меня успокаивая. — Но помилуй...
Она опять просила помилования. Почему? А если действительно в нем нуждалась, я готов был немедленно то помилование провозгласить. Она, чудилось мне, — нет, я был уверен! — могла обрести во мне хотя бы схожесть с тем, что утратила. И одновременно мог обрести я... Больше того, что утратил, гораздо больше! Ее характер, так определенно выраженный ее голосом, который не мог обмануть, обещал искренность. И понимание, и терпимость... Ей достаточно было лишь приобщиться к самой себе. И ко мне... «Да еще и похожа на Натали!» — непроизвольно повторялось в моем сознании.
— Мне пора. А ты посиди, подыши... Вокруг столько цветов! Ты не забыла, что я в триста тридцать первом номере? На третьем этаже.
— Как я могла забыть? Но пойду с тобой.
«Триста тридцать первый!.. — затвердил я в памяти. — На третьем этаже!» Будто этот гостиничный номер мог располагаться на седьмом или десятом. Я вновь повторил про себя заветную трехзначную цифру: она представилась мне ключом к пиршеству нового (столь долгожданного!) бытия.
Я слышал, как они поднялись. Направились к отелю по тропе, что была, я знал, щедро окаймлена цветами и ароматами.
Я отважился... и обернулся.
Ковыляя, прихрамывая на четыре ноги, от меня удалялась старость. Она пыталась не быть явной, согбенной. Но оттого лишь беспощадней себя обнажала.
Удалялись моя фантазия и моя надежда.
А передо мной было Мертвое море. Без подводных растений, без рыбьей суеты... Совсем мертвое.
ДИРИЖЕРСКАЯ ПАЛОЧКА
Из блокнота
В смысле буквальном это — полуволшебная (то метущаяся, то воспаряющая, то совершающая плавный полет) палочка в руках дирижера, повелителя смычковых, духовых и иных инструментов, объединенных в «музыкальное братство», именуемое оркестром... Словосочетание «дирижерская палочка» употребляется и в совсем ином смысле, иногда даже с оттенком по-
251
литическим: чьей-то дирижерской палочке подчиняются уже не оркестры, а верноподданные граждане, даже целые народы, тоталитарные государства... Одним словом, в разных значениях употребляются эти соединенные друг с другом слова. Но я имею в виду «дирижерскую палочку» в значении самом прямом, изначальном.
Ее магическую и прекрасную «власть» я узрел еще в детском возрасте.
На первом этаже старого московского четырехэтажного здания, которое более всех других строений на земле будет до конца дней ассоциироваться у меня со светлым понятием «дом», жила гардеробщица Большого зала Консерватории. Она была женщиной доброй, стремившейся всем на свете не угождать, а помогать и дарить утешение. Может, это музыка настроила ее характер на такую мелодию, на такую струну? Может быть...
Три раза проводила она меня, мальчишку, через служебный вход на репетицию главного симфонического оркестра страны... Но главным героем в те дни был не оркестр, а его легендарный дирижер Отто Клемперер. Конечно, выстраивать великих деятелей науки и культуры «по номерам» — занятие сомнительное, но все же Клемперера, так сказать, официально называли вторым дирижером мира. Первым столь же официально числили итальянца Артуро Тосканини. Ну, а Отто Клемперер был евреем...
Он приехал в Москву на гастроли. Ценители искусства делали все возможное и невозможное, чтобы попасть, увидеть, услышать... Некоторые стремились на те концерты ради престижа. А я проник даже на репетиции, да еще со «служебного входа»!..
Меня поразило то, что знаменитый дирижер был в рубашке с распахнутым воротом, как бы прочерченной двумя линиями подтяжек. Так как Отто, хоть и был евреем, но дирижером считался немецким, он на немецком и изъяснялся с музыкантами. Многие его не понимали... Тогда он сердился, стучал палочкой по пюпитру — и повторял свои «указания» все на том же языке, которым пол-оркестра не владело. Помню, что в первый день репетиция была посвящена Девятой симфонии Бетховена. В следующий раз репетировали Пятую симфонию Чайковского...
Я с изумлением наблюдал, как дирижер бесцеремонно прерывал исполнение, гневался на немецком языке, заставлял повторять одно и то же по семь, а то и по десять раз. Позже я понял, что в этом и было его преклонение перед классикой,
252
что он стремился к идеальному ее воплощению. И добивался своего!
На последней репетиции я услышал «Фантазию на темы итальянских опер». Этакое изысканное попурри...
Звучали, тоже бесконечно прерываемые дирижерской палочкой, мелодии Верди, Пуччини... Особенно, помню, Клемперер сосредоточился на «Богеме».
На тех репетициях я не только восторженно слушал, но и восторженно взирал на Наталию Сац. На Клемперера и на нее... Она присутствовала в зале все три раза. А когда репетиции завершались, Клемперер спускался вниз все в тех же подтяжках и долго беседовал с «тетей Наташей», как мы, дети, называли руководительницу своего любимого детского театра.
Перед началом спектаклей она выходила на сцену, чтобы побеседовать со зрительным залом, а мы, приветствуя ее, орали что было сил: «Тетя Наташа!..» Она была молодой, красивой, — и мы, мальчишки, все поголовно были в нее влюблены. И не только как в художественную руководительницу театра...
А потом я узнал, что «тетя Наташа» отправилась по приглашению Отто Клемперера в Берлин ставить какую-то итальянскую оперу.
— Он влюбился в ваш талант? — спросил я через многие десятилетия «тетю Наташу», ставшую уже Натальей Ильиничной и дважды вдовой: обоих ее мужей сгубил сталинизм.
— Он влюбился не в талант... а в меня, — ответила она. И рассказала, что когда в ежовскую пору ее арестовали, та поездка в Берлин стала одним из «аргументов» обвинения.
Восемнадцать лет провела «тетя Наташа» в лагерях и в ссылке.
А Отто Клемперер накануне захвата власти нацистами, предугадав мрачные события, эмигрировал из Германии.
Минули долгие годы. И вот я вернулся памятью к тем давним репетициям Государственного оркестра, слушая оперу Пуччини «Богема» в филиале Большого театра. Вернее, филиал был представлен своей сценой и зрительным залом, а спектакль принадлежал знаменитому миланскому театру «Ла Скала»...
За пультом был, как считалось, лучший в то время дирижер фон Кароян (Тосканини и Клемперер уже покинули землю). Дирижерская палочка Карояна повелевала не только оркестром, но и всем действом, происходившим на сцене. Я впервые ощутил, что оперный спектакль может быть «спек-
253
таклем дирижера». Сцену и зал заполнили звуки тех мелодий Пуччини, которые давно, в детскую пору, донес до моего слуха и моей души другой оркестр... тот, симфонический, под управлением еврея Отто Клемперера. Теперь же они звучали, завладевали душой прежде всего благодаря волшебному искусству фон Карояна... отнюдь не еврея, а даже наоборот, — человека, известного своими симпатиями к нацистам и их «идеям». Слушая музыку, которая двух выдающихся дирижеров в моем воображении как бы объединяла, я подумал, что Кароян, вероятно, от своих воззрений уже отказался: не мог же он, столь тонко и сострадательно проникавший в несчастья, в душевные переживания людей, сочувствовать одновременно нацистам! Не мог же... У меня возникли странные, неожиданные вопросы: «Если бы вдруг, сейчас встретились столь разные по настроениям своим «земляки» — Отто Клемперер и фон Кароян, как бы они общались? Протянули бы друг другу руки? Или их сближали бы только дирижерские палочки и обожание музыки, а остальное непримиримо разделяло?» Ответов невозможно было найти, отыскать, поскольку одного из дирижеров в живых уже не было.
Знал я — и весьма близко! — еще одного мага палочки: Юрия Файера. Он в своем дирижерском искусстве тоже был неподражаем. Во-первых, дирижировал только балетами (но всеми, абсолютно всеми балетами, шедшими на сцене Большого театра!). А во-вторых... Кажется, лишь он один, дирижируя балетными спектаклями, никогда не пользовался нотами. Это объяснялось тем, что Юрий Федорович почти ничего не видел, и тем, что он обладал фантастической музыкальной памятью. На пюпитре перед ним всегда лежал чистый белый лист... И больше ничего не было! Никто из оперных и балетных дирижеров, как утверждали музыкальные знатоки, подобным похвастаться не мог.
До мягкотелости добрый, Юрий Федорович не властвовал балетными чудодействами тех лет, в которых участвовали кудесницы танца (Галина Уланова, Майя Плисецкая, Раиса Стучкова, уже начавшая свой мастерский путь Екатерина Максимова — всех не назовешь!), нет, он не повелевал, а одержимо служил балетному искусству и стал как бы одним из соавторов многих (очень многих!) спектаклей-шедевров.
Когда я рассказывал Юрию Файеру о том, что в детстве побывал на репетициях Отто Клемперера и не преминул, разумеется, сообщить о его подтяжках, Файер негромко воскликнул:
254
— Вы счастливчик! Вам повезло! А у Клемперера, думаю, и подтяжки были неповторимые...
Мне кажется, и теперь, вот в эти мгновения, «перелистывая годы», я вижу неостановимо взлетающие, воспаряющие или по-лебединому плывущие дирижерские палочки тех музыкальных чародеев. Они словно бы увлекают за собой целые оркестры, и певцов, и балерин... и каждого, кому повезло, в высшей степени посчастливилось приобщиться к магии их художества.
Двое были гуманистами в самом подлинном значении этого слова. А третий?.. Хочу верить, что искусство, в конце концов, все же победило его заблуждения. Хочу верить... потому что верю в целительную силу искусства.
«УМЕРЕТЬ НА СЦЕНЕ...»
Из блокнота
Наталья Петровна Кончаловская, о которой я уже не раз писал, была внучкой Сурикова, дочерью выдающегося живописца Петра Кончаловского, матерью Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского, женой Сергея Михалкова... Но и сама по себе являла личность редчайшую! Мне кажется, она способна была мастерски овладеть всем, за что бралась. В самом деле: сочиняла веселые и мудрые стихи, порой соединяя их с историческими изысканиями и открытиями (ее книга о Москве — не только поэзия, но и отгадка многих исторических «тайн»), создала роман о своем гениальном деде, потом увлеклась переводами французских поэтов, а заодно и биографическую повесть об Эдит Пиаф сотворила; ей принадлежит авторство «русских текстов» многих итальянских — и не только итальянских! — опер. Неповторимая Наташенька — русская интеллектуалка, одержимо посвящавшая свое перо, свою образованность отечественной культуре, но и французской, и итальянской — она презирала шовинистов, никогда не подчеркивала, какую национальность кто из ее друзей «представлял», ибо оценивала людей по их истинным достоинствам, а не согласно одиозному «пятому пункту». Но к тем, кто подвергался гонениям, проявляла особую сердечность, коя была протестом.
Любая картина состоит из деталей — и картина жизни, бытия человеческого, и полотно, созданное художником. Наталья Петровна рассказала мне о таком случае... Завершив свое бессмертное творение «Утро стрелецкой казни», Суриков решил показать его Репину. Илья Ефимович, высоко оценив
255
полотно, позволил себе дерзкое предложение: хоть магическая сила картины — в ожидании казни обреченными стрельцами... одного стрельца надо бы все-таки уже «вздернуть». Это, по мнению Репина, производило бы еще большее впечатление.
Суриков прислушался: одного стрельца «повесил» — и картина... почти умерла. Оказалось, что ожидание беды страшнее самой беды. Суриков это понял — и повешенного «замазал» белой краской. Потом реставраторы, разглядывая шедевр, обнаружили: что-то художник сокрыл. Но что? Наталья Кончаловская раскрыла этот секрет. «Вот что такое — деталь!»— сказала она мне однажды и вновь вернулась к «Утру стрелецкой казни». И добавила, помню: «Едва ли не главная «деталь» в образе каждого настоящего художника — поэт ли он, или артист, или живописец — это стремление, так сказать, «умереть на сцене». То есть творить до последнего дыхания, до смертного часа...» Я запомнил те слова на всю жизнь.
Наталья Петровна и сама «умерла на сцене», не расставаясь с писательским пером, с замыслами и всеми другими «затеями», неотторжимыми от музыки, да и от других искусств, коим она тоже служила неустанно, поскольку уставала лишь вне творчества.
Я знал многих творцов, которые «умерли на сцене» (в том символическом смысле!): Константин Паустовский, Самуил Маршак, Лев Кассиль, Сергей Образцов, Аркадий Райкин, Василий Меркурьев, Валентина Сперантова...
Но знал и трех, которые умерли на сцене в смысле буквальном.
Начну рассказывать об этом как бы издалека. Школьником я был в литературном кружке, которым руководила еще одна истинная интеллектуалка Вера Ивановна Кудряшова. Она не просто исследовала литературную классику, любила ее, но и, казалось, исключительно ею дышала. И знала о великих писателях всё! Даже помнила наизусть не только годы, но и дни их рождений... Так вот, она, кроме литературы, старательно приобщала нас и к спектаклям, созданным по пьесам русских классиков или «по мотивам» их творений. Прежде всего, к спектаклям Московского Художественного театра... В довоенную пору почти каждое из тех сценических произведений было пиршеством искусства. Мы видели «Вишневый сад», где в роли Гаева выступал Василий Качалов, в роли Раневской — Ольга Книппер-Чехова, в роли Фирса — Михаил Тарханов, а в роли Яши — молодой Яншин... Потом наш литературный кружок, в который входили и Юра Трифонов, и Сережа Ба-
256
руздин, дважды посетил «Царя Федора Иоаныча» с Николаем Хмелевым и Борисом Добронравовым в главной роли (тоже были актеры великие!). После каждого из двух посещений мы, юные дарования, встречались с «участниками спектакля». Неуемная Вера Ивановна и это организовала...
И Хмелев и Добронравов перед встречами специально не разгримировывались, чтоб оставаться «в образе». Оба раза «царь-страдалец» неожиданно начинал шутить, похохатывать.
Помню, Хмелев сказал:
— У вас, конечно, может возникнуть удивление: на занавесе — чеховская чайка, а театр «имени Горького»! По этому поводу даже придумали анекдот... «Алексей Максимович получает телеграмму от Антона Павловича: «Поздравляю с присвоением моему театру вашего имени!»
Я, сын «врага народа», честно говоря, удивился смелости подобного анекдота. Времена-то были какие!..
И оба раза «царь», не расставшись с короной, просил нас почитать ему свои стихи (мы все готовились тогда в поэты).
Потом, в других спектаклях, Хмелев потрясал нас, преобразившись в Каренина и Алешу Турбина из булгаковских «Дней Турбиных», а Добронравов, став Лопахиным, чем-то напоминающим нынешних «новых русских», рубил на наших глазах вишневый сад... Напоминал-то напоминал, но только был застенчивей и нравственней нынешних «новых». Очень сочувствовали вишневому саду мы, жившие в столь не похожих на сад сталинских дебрях.
В том «не саду» обычно сдержанная Вера Ивановна, которая была в курсе всех мхатовских ситуаций, однажды с возмущением поведала нам, что какой-то артист или просто работник театра (уж точно не помню) оскорбил музыкального руководителя МХАТа Израилевского (фамилию я не забыл!), «имея в виду его национальность». Так, кипя протестом, сформулировала Вера Ивановна... В театре собрался по этому поводу весь коллектив. Он кипел столь же непримиримо, как благородная руководительница нашего литкружка. Иван Михайлович Москвин заявил: «Антисемитизма мы у себя не потерпим!» То же самое заявили и наши потрясающие знакомцы Хмелев и Добронравов. В предвоенные времена антиюдофобский «бунт» был еще возможен...
Довольно скоро Николай Хмелев, которому и сорока, кажется, в ту пору не исполнилось, стал художественным руководителем Художественного театра. Непосредственно после Станиславского и Немировича-Данченко и вроде бы по их завещанию... Как же удивителен был его дар!
257
А после... оба великих актера — и Хмелев и Добронравов — умерли прямо на сцене, с той самой царской короной на голове. Одному было едва за сорок, а другому — едва за пятьдесят. Да, прямо на сцене...
В одной из глав своих воспоминаний я процитировал слова Александра Менакера о том, что счастливой бывает либо первая половина жизни, либо вторая. Это, разумеется, не закон, но наблюдение артиста и мудреца было весьма точным... Он словно провидел и судьбу своей собственной семьи.
Сотрясши горем буквально всю страну, прямо на сцене скончался Андрей Миронов. И он... прямо на сцене. Сразу после того, как в спектакле отзвучали и отсверкали его пленительное изящество, его редкостно обаятельные темперамент и остроумие. Тоже был выдающийся мастер. И тоже неповторимый! И было ему тоже всего лишь за сорок...
Недавно, в результате как бы всенародного опроса, звание самого любимого актера от имени всех бесчисленных поклонников театра и кино было присвоено Андрею Миронову, а свидетельствующий об этом «Золотой билет» вручили Андрюшиной маме...
ЛЁВЧИК ШЕЙНИН И ДРУГИЕ...
Из блокнота
Когда Лёвчика приглашали в гости, его прибытие назначали на более позднее время, чем остальным. Поскольку остальные считали хорошим тоном чуть-чуть опаздывать, забывая, что точность — это «вежливость королей», а он, тоже нарушая королевские принципы, являлся на полчаса раньше.
Толстенький, кругленький, как колобок, он сразу же из прихожей, минуя гостиную, вкатывался туда, где был накрыт стол. И принимался его разрушать... Он обожал поесть. До появления других гостей его пухлые сарделькообразные пальчики успевали пройтись по всем блюдам.
Позже я узнал, что одной из причин неуемного аппетита был диабет: это уж не вина, а беда.
Внешне он выглядел столь зазывно приветливым и улыбчивым, что его и прозвали Лёвчиком. Но в прошлом он был для всей страны Львом Романовичем Шейниным — начальником следственного управления по особо важным делам прокуратуры СССР.
258
Его нарекли Лёвчиком, а он в ответ звал знакомых Вовчиками, Борьчиками. Меня же, соответственно, Тольчиком...
— Ну, Тольчик, что обо мне говорят?
Подобный вопрос он при встрече задавал всем. И ласкательно, но и со следовательской пристальностью заглядывал в глаза собеседникам. Ему важно было знать, что говорят и что думают не столько о его настоящем, сколько о его прошлом. В настоящем-то у него были весьма мирные чин и профессия: заместитель главного редактора журнала «Октябрь», драматург. Но в былые годы...
Когда собеседники впадали в воспоминания о минувшей, но незабываемо-ужасающей поре, Лев Романович, забегая вперед, как бы превентивно оборонялся:
— Прокуратура Союза занималась только уголовными делами. Исключительно уголовными!
При всей сговорчивости (не считаю это достоинством) своего нрава я однажды не вытерпел:
— Но ведь обвинительные речи на политических процессах произносил Вышинский... а он, помнится, был генеральным прокурором. Вы-то занимались уголовниками... А он?
— Во всех этих прискорбных случаях Андрей Януарьевич не представлял прокуратуру, а выполнял задания политбюро и лично Сталина.
Не в силах отделаться от застарелой, въевшейся привычки, он произносил имя-отчество генерального прокурора с оттенком подобострастия.
Однако в дни еще не начавшей холодеть «оттепели» на экраны телевизоров проскочили кадры кинохроники, неосмотрительно увековечившие те самые политические процессы. Те самые, в которых судьбы недавних лидеров государства, маршалов, наркомов предопределялись многочасовыми речами Вышинского. Суть же речей-приговоров сводилась к одному: «Собаке — собачья смерть!»
Как рассказывал один из вовремя ушедших на покой прокурорских деятелей, кто-то не побоялся напомнить Андрею Януарьевичу, что «собака — лучший друг человека», что собаками были милые и беззащитные Муму и Каштанка... Тогда главный обвинитель начал провозглашать с трибуны Октябрьского зала Дома союзов, который можно было бы считать удручающим памятником самых громких сталинских судилищ: «Смерть фашистским убийцам!», «Смерть фашистским наймитам!». Не догадывался, быть может, что сам был эсэсовцем во плоти...
Так вот, кинохроника, к содроганию Льва Шейнина, проде-
259
монстрировала на всю страну, как он то и дело услужливо подбегал, подкатывался к сатанинской трибуне и подкладывал, подсовывал Андрею Януарьевичу листки, папочки — одним словом, шпаргалки.
Случилось так, что я и всерьез столкнулся с Лёвчиком... Очень уважаемая газета по его инициативе развернула на своих страницах обсуждение: брать или не брать предприятиям и учреждениям «на поруки» уголовных преступников, ручаясь за их перевоспитание и одновременно освобождая их, таким образом, от возмездия.
Между прочим, Лев Романович, предварявший вместе с Вышинским гибель «политических преступников», обычно гордился тем, что его уважают и даже любят уголовные преступники и что они нежно именуют его «Романычем». Отец рассказывал мне, что в сталинских казематах, где он томился, уголовникам неизменно отдавалось предпочтение: они считались «своими». Так вот... На беседе с Аджубеем, подводившей итог газетной дискуссии, я непримиримо высказался против «гуманной инициативы» Льва Романовича, сказал, что жалеть можно либо того, кто убивает, либо того, кого убивают, — совместить эти сострадания невозможно. И еще напомнил слова выдающегося политика: «Либерализм к уголовникам есть худший вид пренебрежения к своему народу». Не ведал я, разумеется, что «мирная инициатива» бывшего сподвижника Вышинского уже одобрена Никитой Сергеевичем и что редакционное обсуждение носит формальный характер. Это дало возможность Лёвчику обвинить меня в «интеллигентской панике».
Вообще эпитеты, происходящие от слова «интеллигенция», Романыч, я заметил, употреблял только в значении негативном. Потому, должно быть, что истинные интеллигенты относились к нему гораздо хуже, чем уголовники.
После обсуждения Алексей Аджубей обнял меня и шепнул:
— Пойми: надо попробовать... Вдруг перевоспитаются!
Затея с «поруками» рухнула даже быстрее, чем я предполагал. Ужасающая волна убийств, насилий, грабежей смыла шейнинскую идею и вынесла на поверхность хрущевское постановление «Об усилении борьбы с преступностью». В день публикации того документа Аджубей, которого я глубоко почитал и почитать продолжаю, уже более крепко обнял меня и извинительно произнес:
— А твоя «интеллигентская паника», выходит, была гонгом... который мы не услышали.
Когда Льву Романовичу ненароком напомнили о том, что в Большом терроре прокуратура играла роль одного из главных
260
сценаристов, он, как к беспроигрышному защитительному аргументу, прибегал к факту своего ареста в финальный период сталинского правления. Шейнин был трусоват: боялся собак, молний, неожиданного скрипа дверей...
Вспомню очерк Василия Гроссмана «Треблинский ад». Очерк и тогда уже наводил на мысль, что ад сталинских лагерей вполне сопоставим с адом Треблинки. Процитирую строки о том, как в день восстания узников вели себя их лагерные палачи:
«Они, существа, столь уверенные в своем могуществе, когда речь шла о казни миллионов... оказались презренными трусами, жалкими, молящими пощады, пресмыкающимися, чуть дело дошло до настоящей смертной драки».
Нет, я не ставлю все-таки знака равенства между убийцами гиммлеровской Треблинки и советниками, помощниками главного официального обвинителя ни в чем не повинных, голос которого предрешал приговоры в Октябрьском зале. Хотя... Они, старательно изобретавшие «обоснования» и «оправдания» сталинских зверств, вполне могут быть названы соучастниками.
Романыч физической боли даже в ничтожных количествах не выносил. От страха он стал заикаться... Его бывший шеф Андрей Януарьевич, тоже не желая страданий, которые столь глобально обрушивал на другие судьбы, сразу после разоблачительного XX съезда либо застрелился в Нью-Йорке, на посту советского представителя в ООН, либо, как было объявлено, скончался от сердечного приступа. Такое извещение не устроило многих, потому что сердечный приступ подразумевал, что у Вышинского было сердце.
Лёвчик нередко и словно бы мимоходом пытался преуменьшить масштаб отечественных злодеяний: «Все-таки в основном Сталин уничтожал своих же собственных ставленников и сподвижников».
Мне не раз приходилось напоминать ему то, о чем, «перелистывая годы», я уже писал... В соседней с отцом камере был заточен целый десятый класс — дети, школьники...
В своем собственном — беспредельно далеком, но и недавнем — детстве я дружил с Витей Радзивиловским. Именитые польские паны Радзивилы к евреям, как известно, отношения не имели. А Виктор тем не менее был евреем. А кроме того — очень компанейским и милым парнем. Милым представлялось мне и все его семейство. Бабушка, искусная ку-
261
линарка, постоянно звала нас к столу: «Я приготовила блынчики... Такие блынчики со сметаной!..»
Бушевала вторая — черная! — половина тридцатых годов. Отец мой был арестован. «Блынчики» со сметаной выглядели для меня недоступным деликатесом — и от приглашений гостеприимной Витиной бабушки я не отказывался. Витина мама — пышная рыжеволосая красавица Софа — смотрела на меня сострадательно и незаметно засовывала мне в карманы пальто бутерброды: то с черной икрой, то с красной. Обилие той и другой в доме Радзивиловских удивляло меня. Как и то, что жили они в особняке... Одноэтажном, но все же особняке! До войны это представлялось нереальностью, сказочным «исключением из правил».
Папа Витин был малорослым, щупловатым, тоже рыжеволосо-кудрявым, но, в отличие от мамы, красой не блистал. Лицо было неприметным. По утрам он обычно оказывался дома, что тоже меня удивляло. Он трогательно следил, чтобы мы, учившиеся во «вторую смену», выполняли все домашние задания, сытно заправлялись обедом перед школой, а на пути к ней аккуратно пересекали улицы. Он напутствовал нас всякими заботливыми пожеланиями: «Если проголодаетесь, сходите в буфет! Вот вам деньги. Если вызовут к доске, не теряйтесь...»
Однажды Витин папа пришел домой вечером. Это было необычностью. Но еще большей неожиданностью было то, что я узрел на нем привилегированно скроенную гимнастерку защитного цвета, на воротничках — по четыре ромба, а на рукаве — по-фашистски паучий знак, но изображавший щит и меч.
— Витя, а кто твой папа? — еле слышно спросил я, когда тот скрылся в своем кабинете.
— А он... руководит управлением НКВД по Москве и Московской области, — на миг запнувшись, но без особого замешательства сообщил Виктор.
Один из самых главных в Москве чекистов? Значит, это он арестовал и расстрелял всех (всех без исключения!) ближайших друзей моего отца? Самого отца, по «счастливому» стечению обстоятельств, посадили в Челябинске, в провинции, где к стенке приставляли не столь скоропалительно. Выходит, это он, заботливый Витин папа отправил на тот свет (разумеется, по приказу!) высших руководителей, знаменитых ученых и деятелей культуры, да и тысячи «рядовых» москвичей? Это он — щупловатый, рыжеволосый, беспокоившийся о наших школьных отметках и завтраках, о нашей безопасности на московских улицах? Все это он?!
262
МОЙ БЛОКНОТ И МОИ ЧИТАТЕЛИ
Из блокнота
Писатель живет ради них, своих читателей и зрителей. В романах, повестях и рассказах, в пьесах и сценариях фильмов, автор непременно — и порою даже непроизвольно — делится своим жизненным опытом, своими размышлениями, страданиями и надеждами.
В театре, в зрительном зале сразу видишь, чувствуешь, каждое мгновение ощущаешь, каково восприятие твоего произведения (простите за громкий термин!). Если что-то не так, на следующем представлении можно исправить, улучшить, либо обострить, либо смягчить... Но книга, коль она уже явилась к читателям, такой и останется. До ближайшего переиздания, если оно состоится... С книгой, с журнальными и газетными публикациями читатель общается наедине. Автор при сем не присутствует. Позже, однако, письма и читательские конференции (тоже высокопарное слово) могут донести до автора мнение тех, ради кого все его неусыпные думы, смятения, его беззащитная откровенность, его труд.
Передо мной — письма читателей. Письма, письма... Вспоминаю и многочисленные устные высказывания на литературных встречах. Они, те письма и высказывания, как бы пополняют мой писательский блокнот новыми абзацами и страницами.
Владимир Соловей в своем письме вспоминает, как однажды в московском Центральном Доме литераторов он услышал от меня строки стихотворения, автора которого я и сейчас с уверенностью назвать не могу:
А люди ищут
счастье,
Как будто
счастье есть...
Многие, очень многие вопросы читателей можно свести к такому общему смысловому знаменателю: что являет собой в реальности понятие «счастье»? Интересуются и тем, бывал ли я когда-нибудь абсолютно счастлив. Отвечаю сразу и не задумываясь: «абсолютно» не бывал никогда. Аркадий Исаакович Райкин мне говорил:
— Самый бессмысленный вопрос звучит так: «У вас все хорошо?» Разве хоть у кого-нибудь и когда-нибудь бывает все хорошо?!
263
А если бы вдруг и было... Ощущать этакое безграничное, бездумное и беспечное счастье — это, на мой взгляд, безнравственно и грешно. Ведь если даже у тебя все вроде бы сложилось благополучно, кто-то в это самое время испытывает душевные и физические муки, а кто-то горько оплакивает кончину близкого человека, а кто-то сам прощается с жизнью...
Классики русской литературы проникли в глубочайшие глубины общечеловеческих ситуаций, общечеловеческих конфликтов и психологических катаклизмов. Они постигли непостижимые сложности бытия людского.
Что же они думают о столь желанном для каждого счастье? Пушкин, как известно, писал: «На свете счастья нет, но есть покой и воля». Под волей он разумел свободу. Лермонтов искал «свободы и покоя» — и это было едва ли не самым сокровенным его стремлением. Правда, противоречивость мечтаний и действий была свойственна порой и великим. Искал-то Лермонтов «покоя», а в реальности уподоблялся тому парусу, который «ищет бури, как будто в бурях есть покой!».
«Покой нам только снится...» — через много лет печально констатировал Александр Блок. Быть может, во второй половине двадцатого века покой людям уже и не снится. Но все же мы жаждем душевного покоя, в котором только и возможен творческий непокой и благотворный непокой в любой другой деятельности, необходимой людям.
Есенин, столетие которого недавно отмечала Россия, писал: «Не жаль мне лет, растраченных напрасно...»
Вряд ли можно согласиться с поэтом, что годы свои он «растратил» попусту. Думаю, он один из первых поразительно осознал, предвидел, в какой непроглядный мрак погрузят разного рода коллективизации российское крестьянство, а, стало быть, и всю Россию, которая страной-то в ту пору была крестьянской.
Недолгие годы свои Сергей Александрович прожил далеко не напрасно, но и далеко не счастливо:
Любимая!
Меня вы не любили.
Не знали вы, что в сонмище людском
Я был как лошадь загнанная в мыле,
Пришпоренная смелым ездоком.
Бессмертных житейское благоденствие посещало не часто. Принято считать Гёте баловнем судьбы. А вот Ираклий Андроников показал мне гётевское письмо, в котором «баловнем» сказано, что, если бы в его жизни был хоть один совершенно
264
счастливый месяц, он бы и всю жизнь свою почитал счастливой. Вот вам и «абсолютно»!
На памятнике отца Лермонтова в Тарханах читаю:
Ты жизнь мне дал,
Но счастья не дал.
Ты сам на свете был гоним,
Ты в жизни только зло изведал...
Тяжко приходилось бессмертным. «В жизни только зло изведал...» Это относилось и к самому гению. Но сколько мудрости и света подарил людям он?
В письмах и высказываниях, которые я после литературных встреч внимательно «изучаю», содержатся не одни лишь благодарности и вопросы. Есть и замечания, касающиеся досадных неточностей, допущенных мною в числах и датах. Приношу свои извинения. Есть и возражения — их очень немного — которых я принять не могу.
Но одно письмо резко отличается от всех остальных. Намерения у автора самые добрые, — и это не те добрые намерения, которыми «дорога в ад вымощена». Они тоже продиктованы честностью, порядочностью, желанием восстановить истину. Читая его, я припомнил слова одного из крупнейших критиков — исследователей литературы. Он утверждал, что если хвалишь, можешь и не быть подробным и дотошно доказательным, но если ругаешь или, тем паче, обличаешь, тогда уж будь добр проявить внимание к каждой детали. Негативно оценивая в своих выступлениях фигуру бывшего начальника следственного управления по особо важным делам прокуратуры СССР Льва Шейнина, я должен был, как считает автор письма, отметить, что фигура та была не вполне однозначной. Согласно тому же мнению, надо было отметить, что человек он был одаренный. Одаренность его значимо проявлялась в те времена, когда он раскрывал главным образом тяжкие уголовные преступления, проявляя порой уникальную следовательскую находчивость, отменный профессионализм и дар психолога. Мери Берфельд пишет, что Шейнин нередко приходил на помощь, если речь шла о защите от уголовного произвола. О наиболее сложных и, казалось, нераскрываемых делах, которые он. тем не менее раскрыл, сам Лев Шейнин рассказал в книге «Записки следователя».
Что ж, согласен: личностью Шейнин является, несомненно, яркой. Мери Берфельд справедливо напоминает о том, что когда он читал лекции в юридическом институте, аудитории были переполнены, студенты, да и зрелые, опытные юристы сидели на подоконниках, на ступеньках. Не отрекаясь от фак-
265
тов, приведенных в моем блокноте, я, читая письмо, все же мучительно ощущаю одну свою (едва ли не решающую!) недоговоренность: Лев Шейнин тоже был жертвой... Жертвой ужасающего сталинского режима, которому, в силу своей юридической профессии и своей высокой должности, он так или иначе вынужден был служить. На одном из самых страшных направлений, да еще в годы Большого террора...
А ведь при других условиях и обстоятельствах, порожденных иным временем, Лев Романович мог прославиться своими достоинствами. Знаний и дарований у него бы хватило!
Одним словом, повествуя о человеке и его судьбе, какими бы ни были (по твоему мнению!) минусы и даже пороки, нельзя игнорировать плюсы. Коль они тоже существовали...
Читательница, близко зная и за многое ценя Льва Шейнина, выполнила свой долг. А я выполняю свой, рассказывая о ее письме и о выводах, мыслях, которые оно мне подсказало.
Голоса читателей... Хотел бы, очень хотел слышать их до конца своих дней. Они, эти голоса справедливости, совести, всегда направляли, а иногда и «подправляли» меня. Ныне они настойчиво уверяют, что мой жизненный опыт может принести людям пользу, пригодиться не только мне самому. А если так, я продолжаю «перелистывать годы»...
«ЮНОСТЬ» И МОЯ ЮНОСТЬ
Из блокнота
Валентин Петрович Катаев вольготно делился с молодыми своим искусством, своими художническими тайнами. Потому, наверное, «Юность» при нем стала для них взлетным, стартовым полем.
И многим помогла сделаться популярными, известными, знаменитыми...
Спасибо Мастеру за то, что и меня он не только пригласил в журнал, но и создал у меня счастливое ощущение, что каждую мою новую повесть и новый рассказ в «Юности» ждут. Это он, как и Константин Паустовский, убеждал меня, что надо писать не главами и не абзацами, а строчками. Спасибо за уроки.
Одна из лучших (самых потрясающих!) новелл Валентина Катаева — «Отче наш»... Трагический сюжет ее таков. Нацисты объявляют в Одессе о том, что евреи должны явиться с ве-
266
щами на «сборный пункт». И вот мечется в кромешном ужасе мать, русская женщина, муж которой — еврей, очень известный в городе человек — ушел на фронт. Мечется, панически стараясь спрятать сына... в городе, скованном холодом и фашистским зверством. Психологические и изобразительные средства Катаева поразительны! Назавтра, рассветным утром, грузовик с крытым верхом объезжает зимний город, приморскую набережную... И обнаруживает на заиндевевшей скамейке две заледенело прижавшиеся друг к другу фигурки: сына и мать. Солдаты швыряют их в кузов — и «фигурки» подпрыгивают, словно куклы...
«Все юдофобы — ничтожества», — сказал мне Катаев. Я привел в опровержение несколько отнюдь не ничтожных имен. «А сие исключение, как обычно, лишь подтверждающее правило!» — не сдался Валентин Петрович.
Именно благодаря Катаеву «Юность» стала властительницей дум. И благодаря ему люди не считали напрасным ночами стоять в «почтовых отделениях», чтобы на нее подписаться. «Союзпечать» запросила невиданный для литературного журнала тираж: десять миллионов. Но бумаги конечно же не хватало...
Не забуду, как мы на редколлегии — уже при Борисе Полевом — в приподнятом настроении обсуждали просьбу писателя Анатолия Кузнецова о творческой командировке в Англию. Кузнецов — автор честных, мастерски написанных и даже, по тому времени, дерзко-отважных романов и повестей «Бабий яр», «Продолжение легенды», «Огонь» — собрался в Лондон, чтобы написать «очень важное для него и для всех читателей» произведение об английском периоде революционной деятельности Владимира Ильича. Под его пером должны были «ожить» еще не ожившие страницы истории партии.
Командировали мы его единогласно, не подозревая, конечно, что командируем Анатолия Кузнецова... в эмиграцию. Обратно он не вернулся.
Обсуждая просьбу, все принялись обращаться к бессмертному образу вождя. Я, например, вспомнил о двух беседах моего отца с Лениным... Однажды, это было в двадцатом году, отец, пламенный революционер-идеалист, — тогда редактор (и тоже главный!), но журнала «Спутник коммуниста», — дежурил в московском комитете партии. Зазвонил телефон... Отец снял трубку — и сразу узнал Ленина. Владимир Ильич разыскивал
267
секретаря московского комитета Яковлеву, которую потом, уже в сталинскую эпоху, естественно, расстреляли. Отец, извинившись, будто отвечал за рабочий график Яковлевой, сообщил, что она уехала «по заводам», общаться с рабочим классом.
— Разыщите ее, пожалуйста, — попросил Владимир Ильич. — И простите за беспокойство.
Да, текст был именно таким: «пожалуйста», «простите»... Отец принялся судорожно разыскивать: была и уехала, была и уехала...
Вновь зазвонил телефон.
— Это дежурный по московскому комитету? Вас зовут Георгием Платоновичем? Простите, опять Ленин... Я хочу сказать, что уже сам нашел Яковлеву. Чтобы вы ее не искали и не волновались.
Вот так. Все доподлинно. В другой раз отец имел беседу с глазу на глаз... Приближалось пятидесятилетие вождя. Редакция обнаружила редкую фотографию, которую и вознамерилась опубликовать на обложке юбилейного номера: Ленин с кошкой. Он нежно гладит ее... Впрочем, это сентиментальное зрелище потом стало известно всем. Но тогда на публикацию фотографий Владимира Ильича требовалось его личное разрешение.
Фотиева пропустила отца в кабинет... И Ленин, не дав ему опомниться, заговорил о великой роли женщин в революционном государстве и о том, что газеты и журналы — «Спутник коммуниста» в том числе! — этой роли недооценивают. Владимир Ильич вспомнил о своей матери, которую, по его словам, очень любил, а последний раз видел в стокгольмском порту. Она стояла на набережной, а он, конспиратор, не имея возможности покинуть корабль (шпики, сыщики!), посылал ей с палубы воздушные поцелуи. Кстати, Стокгольм был в какой-то степени родным городом для Марии Александровны и ее «великого» сына — там до переезда в Петербург и крещения жила семья Бланк: дедушка вождя (он же папа его мамы). Все это мне подтвердили шведы, когда я оказался в Стокгольме. Причина моего приезда туда была далека от биографии ленинских предков (вручал Международную премию талантливейшей детской писательнице Астрид Линдгрен), но о родословной Марии Александровны, а стало быть, и Владимира Ильича не без гордости повествовали всем гостям из России.
Отклонился немного... Вернусь к той «исторической» беседе отца. Предписывая ему, то есть главному редактору, ценить женщин, а главное, их «роль», Ленин даже процитировал стихи своего самого любимого поэта (им оказался Некрасов),
268
который, в отличие от средств массовой информации, как раз воспевал русскую женщину: «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Отец записывал мысли-указания и совсем забыл, по какому поводу он явился. Так и вышел в приемную с фотографией в руках, но без резолюции.
Фотиева, которая сочетала должность секретаря Ленина с неофициальной должностью сотрудницы ЧК, объяснила, что возвращаться в кабинет неудобно. Пошла с фотографией сама, а минуты через три, вернувшись, сказала, что Владимир Ильич против публикации своих снимков, и в юбилейные дни тоже (скромный был вождь, даже застенчивый!), но если уж отец хочет отметить его юбилей, пусть, так сказать, «сосредоточится на нерешенных задачах», об одной из которых юбиляр ему и поведал.
Разумеется, Ленин создавал о себе легенды... Сталин и тут был его достойным выучеником (об этом я «с фактами в руках» уже рассказал). Но легендам о «дедушке Ленине», о его скромности и непостижимом бескорыстии мы долго верили. Даже о его сердечности. Это уж после (значительно позднее!) нашим сногсшибательным достоянием стали письма, приказы, телеграммы «доброго дедушки», подобные, к примеру, телеграмме, адресованной главе губернской администрации Евгении Бош, в которой предписывалось расстрелять всех без исключения дворян, офицеров и священников. Всех до единого! Скромник-гуманист предлагал осуществлять казни «без идиотской волокиты».
О телеграммах и приказах я, выступая на той давней редколлегии «Юности», еще не знал, а о беседах отца с объектом якобы предстоявшего кузнецовского изучения говорил подробно и с воодушевленьем. Не скрою...
Когда Анатолия Кузнецова стали клеймить «паном Анатолем», «невозвращенцем», а то и «предателем», Борис Полевой в доверительном разговоре высказал мне свою точку зрения:
— Кто где живет — это, поверьте, только наша проблема. В любой цивилизованной стране человек может перемещаться как пожелает. Да и в Декларации прав человека четко сказано об этом праве. Оно определено как одно из первых! И мы ведь ту Декларацию подписали... Чего только не подписали! Подписывать — это не выполнять...
Борис Николаевич обладал бесценным в наш суетный и забывчивый век качеством: безукоризненной обязательностью. Если обещал прочитать рукопись за воскресенье, на понедель-
269
ник не откладывал. И непременно откликался письмом... Сколько у меня таких откликов, написанных зеленым фломастером и не очень внятным, словно бы торопящимся к адресату почерком!
Уважаю людей, которые доказали верность родной земле (будь то Россия, или Америка, или Израиль, или другая страна!) не одними лишь пылкими признаниями, но прежде всего — поступками. В годы Отечественной войны Борис Полевой, будучи корреспондентом, сражался с гитлеровцами не только пером и в атаки ходил не только иносказательно, но и в самом буквальном смысле.
Повести и романы Бориса Полевого могут нравиться, а могут — нет. Но публицистом и редактором Борис Николаевич был отменным. Главное же, отменным был человеком! Ни перед кем не гнул шею и холуйски не скидывал шапку. Он вообще ходил без шапки. Всегда... В любой мороз, под любым ливнем! Кто-то объяснил ему, что таким образом можно уберечься от склероза, которого он больше всего опасался. От него и умер.
Я вообще заметил, что человека часто настигает болезнь, которой он боится, с которой мысленно не расстается. Возможно, думой своей и боязнью он в реальности притягивает недуг. Вот Алексей Николаевич Арбузов... При каждой встрече с ним я слышал об ужасе и коварстве инсульта: «Кроме этого, ничего не страшусь!» Инсульт его и настиг, парализовал... Не надо отыскивать беды заранее, накликать их. Не надо! Говорю это и самому себе.
Лет девять назад мы с женой были в Англии. Женщина-гид сообщала нам и всей писательской группе лишь про самое-самое. Но и традиционная лондонская непогода не остановила ее от того, чтобы направить автобус в сторону от установленного маршрута, к одному из загородных кладбищ. Не знаю, сколько там покоится известных людей. Но сказала она лишь об одном:
— Здесь похоронен Анатолий Кузнецов. Он написал «Бабий яр»...
Не раз к нам в гости приезжал давний мой друг Андрей Дементьев. Он тоже был главным редактором «Юности» в течение долгих (и очень счастливых для журнала!) лет. Отвергаю несправедливую попытку иных литераторов оценивать Дементьева исключительно как «главу» журнала: он стал глав-
270
ным редактором прежде всего потому, что замечательный — и очень любимый читателями! — поэт. Не политические, не идеологические «заслуги», а заслуги литературные вручили ему штурвал популярнейшего журнала. Это при Дементьеве реальный тираж «Юности» перешагнул за три миллиона экземпляров.
Иногда подчеркивают, что Андрей Дементьев «продолжал лучшие традиции». Не только продолжал, но и первым начал регулярно — из номера в номер — публиковать мастеров, насильственно отторгнутых от русской земли и русской культуры: Василия Аксенова, Владимира Максимова, Владимира Войновича, Фридриха Горенштейна... Помню, как в доперестроечные времена бесстрашно противостоял он цензуре. А, во-вторых, традиции он продолжал самые святые, являвшие собой лицо журнала: ярость и неотступность в битве — именно в битве! — с черносотенцами, гонителями прогресса... Утверждал неспособность журнала предавать тех своих авторов, которые подвергались идеологическому террору. Уверен: за убеждения свои Андрей Дементьев не побоится вступить в любую схватку, а то и взойти на эшафот. И за верность друзьям — тоже!
«Мой близкий друг Анатолий Алексин...» — только что, в марте 1997 года, написал Андрей в «Комсомольской правде». «Родной мой Андрей Дементьев!..» — говорю я.
«МАЛЫШ»
Тоже из жизни
Генка очень любил смотреть фильмы, на которые дети до шестнадцати лет не допускались. Он любил читать книги, на которых не было обозначено, для какого они возраста: значит, для взрослых!
И когда однажды по радио объявили лекцию для родителей, Генка решил, что эту лекцию ему непременно надо послушать.
Зазвучал скучный голос, к которому диктор прикрепил длинное звание — «доктор педагогических наук». Генка старался представить себе людей, голоса которых слышал по радио. Сейчас ему представилась сухопарая женщина в пенсне и в белом халате. Слово «доктор» очень подходило к ней, потому что каждая ее фраза звучала как рецепт.
Первый рецепт был такой: «Чем больше ребенок читает, тем лучше он учится!» Генка даже испугался: он рос явно не
271
по правилам. Если изредка и получал плохие отметки, так, пожалуй, исключительно из-за книг. До недавнего времени Генка читал и за завтраком, и за обедом, и за ужином, используя в качестве подставки пузатую сахарницу, которая важно подбоченивалась двумя тонкими ручками, потом — одной ручкой и, наконец, при Генкиной помощи стала вовсе безрукой.
Не подходил и другой рецепт: «Ребенок должен уважать родителей, но не бояться их!..»
А вот Генка своего отца одновременно и уважал и побаивался.
Это отец первый объявил войну Генкиному «книгоглотательству». Он повел наступление по всем правилам военной науки.
Сперва произвел разведку... И тут оказалось, что даже названия книг и фамилии авторов безнадежно перемешались в Генкиной голове. Он путал Купера с Куприным, а Станюковича с Григоровичем. Затем отец перешел в атаку: он стал высмеивать сына, иногда даже в присутствии посторонних. Генка растерялся... И тогда в образовавшийся прорыв отец устремил главные силы.
Он тяжело опустил на стол руку, такую огромную, что вилки и ложки казались в ней игрушечными:
— Теперь мы будем читать вместе!
— Как — вместе? — удивился Генка. — Вслух, что ли?
— Не вслух... Но и не слишком «про себя». Брать книги ты станешь по моему совету, а потом будем устраивать дискуссии.
На первом этаже расположилась детская библиотека. Библиотекарша по прозвищу «Смотри не разорви!» доставала Генке книги, которые советовал прочитать отец. А за ужином начинался экзамен.
— Ты опять пропускаешь описания природы? — спрашивал отец.
— Я ничего не пропускаю, — оправдывался Генка.
— Хуже всего, когда ты говоришь неправду. Ну с чем, например, здесь сравнивается запах первого снега?
Генка ерзал на стуле. Ему хотелось сбегать на улицу и понюхать снег: может, он угадает, о каком именно сравнении спрашивает отец.
— Писатель сравнивает запах первого снега с запахом арбуза! Это очень образно и очень точно. А ты пропустил...
Иногда в спор вмешивалась и мама. Отец сразу же с ней соглашался. А мама начинала сердиться:
272
— Женщине только в трамвае положено уступать место. А в спорах эта вежливость ни к чему!..
Мама была машинисткой. Работу она брала на дом. Ей казалось, что, отлучись она из квартиры лишь на день, — случится что-то ужасное, произойдет какая-нибудь непоправимая катастрофа.
По утрам маме некуда было спешить, но вставала она раньше всех. Готовила завтрак отцу и Генке. Прощаясь, отец целовал ее в голову и произносил всякий раз одни и те же слова:
— До свиданья, малыш мой родной!
А мама менялась в лице... И Генке начинало казаться, что она вставала так рано лишь для того, чтобы услышать ту фразу.
Слово «малыш» не подходило к маме: она вовсе не была маленькой. Может, она казалась такой с высоты ста девяноста пяти сантиметров могучего отцовского роста?
Эти сантиметры были предметом особой Генкиной гордости. Но ведь сына, мальчишку, отец именовал строго и просто — Геннадием...
Они вместе выходили на улицу, вместе шли до угла.
Это было очень приятно: мама осталась дома, а они, мужчины, деловые люди, спешат, торопятся...
На углу они прощались — коротко, по-мужски.
— Ну, иди, — говорил отец.
А вечером Генка с нетерпением ждал возвращения отца. Он сразу узнавал его шаги: отец поднимался так не спеша, словно, сделав шаг, раздумывал, идти ли ему дальше или, может, вернуться вниз. Один неторопливый, будто тоже задумавшийся, звонок... Генке очень хотелось открыть отцу дверь. Но он знал, что еще больше этого хочет мама. И уступал ей дорогу... Отец вновь целовал мать в голову и говорил почти те же слова, что и утром: «Здравствуй, малыш мой родной!» Но звучали эти слова еще ласковее, потому что отец, видно, успевал сильно соскучиться за день.
Генка терпеть не мог нежностей. Но от слов, которые отец говорил маме, ему становилось как-то уверенно и спокойно...
Отец заглядывал маме в лицо:
— Какие у тебя глаза воспаленные! И зачем нам нужна эта трещотка? — Так он называл пишущую машинку.
— Это не она, а враги мои виноваты, — полушутливо оправдывалась мать. Своими «врагами» она называла неразборчивые почерки. Мама говорила, что даже по ночам ей снятся
273
разные нечеткие буквы и особенно часто буква «т», которая гонится за ней по пятам на трех тонких ножках. У Генки отец как бы мимоходом спрашивал:
— Ну, как дела с науками?
Он не заглядывал в дневник, чтобы проверить, правду ли говорит сын. И именно поэтому Генка не мог солгать. Если он приходил домой со скверной отметкой, то так прямо и говорил. Отец не поднимал шума. Генка не слышал упреков, но не слышал он в такие вечера и размышлений отца о «новейших новостях» и новейших машинах, которых отец, как и людей, делил на «толковых» и «нетолковых».
Мама поступала совсем иначе. Она раскрывала дневник и глядела на злосчастную отметку так, словно читала трагическое известие. Потом она шла к соседке, у которой дочь тоже училась в шестом классе. Начинался разговор, в котором имена Генки и соседкиной дочери ни разу не назывались: о нем говорили «наш», о ней — «моя».
— Наш-то сегодня опять троечку принес. А отец говорит, что это хуже двойки: ни Богу свечка, ни черту кочерга, — жаловалась мать. Она любила повторять слова отца: они казались ей самыми верными и убедительными.
— Ну уж не будьте слишком строги: ваш-то зато сколько книг проглотил! А мою не усадишь за книжку.
— Нет-нет, вы нашего не защищайте — он мог бы прекрасно учиться: у него ведь такие способности!
— Так ведь и моя очень способная!..
«И почему это все родители воображают, что их дети такие способные?» — недоумевал Генка. Мама еще долго кручинилась... Но молчание отца было для Генки куда неприятнее ее причитаний.
И только с одной Генкиной слабостью отец никак не мог справиться. Этой слабостью была его неистребимая страсть к кино. Кажется, если 6 существовали фильмы, на которые почему-либо не допускались люди моложе шестидесяти лет, Генка бы и на них попадал. Немного денег давала мама, а остальные он добывал в результате строжайшего режима экономии: в школе завтракал через день, в трамвае и троллейбусе ездил без билетов.
Когда Генка приходил домой с «отсутствующими глазами», отец взглядом предупреждал его: «Не вздумай что-нибудь сочинять. Я прекрасно вижу, что ты был в кино».
А за ужином он, ни к кому определенно не обращаясь, произносил:
274
— Сегодня вышла новая картина. Любопытно, о чем она? И Генке приходилось пересказывать содержание. Иногда мама говорила отцу:
— Может, вечером сами сходим в кино? Генка достал бы билеты: он ведь специалист по этой части.
Отец разводил руками.
— Я бы с удовольствием, ты же знаешь. Но как раз сегодня...
Отец называл фамилию одного из «толковых» инженеров, с которым ему необходимо посоветоваться. Или из «нетолковых», с которым надо поспорить...
Генка сердито взирал на маму: неужели она не понимает, как занят отец?
Однажды Генка узнал, что за три квартала от их дома идет старый фильм, о котором приятели отзывались коротко, но выразительно: «Мировой!»
Картину эту Генка раньше посмотреть не успел по той причине, что в дни ее первого выхода на экран он еще не родился.
Генка не решился бы пойти на вечерний сеанс. Но знал, что отец должен вернуться поздно: у него важный и торжественный день — испытание новой машины. Отец говорил, что еще возможны всякие неожиданности, что кое-кто из «нетолковых» инженеров может выступить против... Отец тревожился! А как же тогда волновалась мама, ожидая его возвращения? Она места себе не находила: то садилась за машинку, то при каждом звуке шагов выбегала на лестницу.
И Генке хотелось пойти в кино еще и для того, чтобы скорей пролетели часы ожидания. Чтобы вернуться домой, увидеть отца и по лицу мамы (именно мамы!) понять, что все в порядке, все в полном порядке...
Генка захватил с собой долговязого семиклассника Жору, которому беспрепятственно продавали билеты на любой сеанс. Жора доставал билеты всем мальчишкам во дворе, за что собирал с них немалый оброк: редкие книги и треугольные марки.
Они заторопились по вечерним улицам, толкая прохожих и шепча себе под нос извинения, которые слышали только сами. Когда добрались до кинотеатра, оказалось, что уже поздно: билеты проданы. Кончился предыдущий сеанс... Из кинозала выходили люди, щурясь от света, на ходу натягивая пальто и так же на ходу обмениваясь впечатлениями. Генка глядел на них с завистью...
И вдруг он услышал знакомый голос:
275
— Тебе не холодно, малыш?
Генка повернул голову — и увидел отца. Отец, пригнувшись, помогал какой-то молодой женщине («Моложе мамы...» — сразу приметил Генка) погрузиться в нарядный платок и каракулевую шубку.
Генка хотел шмыгнуть в сторону: ему ведь было строго запрещено ходить на вечерние сеансы. Но глаза его сами собой, помимо воли поднялись, встретились с глазами отца — и Генка изумленно отступил на шаг: он увидел, что отец сам его испугался. Да, да, отец испугался! Он, всегда такой сдержанный, степенный в движениях, засуетился, стал неловко вытаскивать свою руку из-под руки женщины и даже, как показалось Генке, хотел спрятаться за колонну, которая никак не могла скрыть его, потому что она была тонкая, узкая, а отец — огромный и широкоплечий.
И Генка помог отцу: он выскочил на улицу и побежал так, что даже длинноногий Жора не поспевал за ним.
Но где-то на перекрестке Генка остановился — в его ушах звучали слова: «Тебе не холодно, малыш?» Молодая женщина, которую отец закутывал в нарядный платок, была и в самом деле невысока ростом... Но Генке казалось диким, что и к ней тоже могут относиться слова, которые всегда принадлежали маме, одной только маме. Или настоящим «малышом» та женщина и была?
А как же испытание машины? Значит, это неправда? А, может, никакой машины вовсе и нет? Отец сказал неправду... Генка не мог понять этого, это не умещалось в его сознании. Тогда, может быть, все неправда: и разговоры о книгах, и отцовские новости, и споры за ужином? Все, все неправда?!
Библиотекарша по прозвищу «Смотри не разорви!» крикнула:
— Зайди, Гена! Я достала книгу, которую ты просил...
Но Генка махнул рукой: он не хотел брать книгу, которую советовал ему прочитать отец. Он почему-то не верил этой книге.
Вернувшись домой, Генка сразу нырнул в постель.
— Что с тобой? Ты такой горячий. Нет ли у тебя температуры?
Больше всего мама волновалась, когда отцу или Генке нездоровилось — тогда всякая, даже самая пустяковая болезнь казалась ей неизлечимой.
— Не беспокойся, мамочка... Я очень устал, и все! — как никогда ласково ответил Генка.
А на самом деле он просто не хотел, он не мог слышать, что сегодня скажет отец, когда мама откроет ему дверь.
276
ДИАЛОГ С ПРЕЗИДЕНТОМ
Из блокнота
Недавно в Израиль приезжали с гастролями актеры «старшего поколения» — Мария Миронова и Михаил Глузский. Здесь отмечалось и 85-летие Марии Владимировны. Все говорили, какая она талантливая, неутомимая, высокопорядочная... А я мысленно добавил: и отважная!
В смелости ее я убедился четыре года назад: шестнадцатого апреля 1993 года. В Бетховенском зале Большого театра... Меня пригласили на встречу президента России с творческой интеллигенцией. Я твердо решил в полный голос выступить против бесцеремонных проявлений фашизма молодчиками «Памяти» и «Фронта национального спасения».
Собрались весьма уважаемые мною люди: Булат Окуджава, Белла Ахмадулина, Михаил Ульянов, Галина Волчек, Марк Захаров, Нонна Мордюкова, Фазиль Искандер, Владимир Васильев, Екатерина Максимова... Кажется, точно припоминаю. Но всех, разумеется, не могу перечислить. Скажу только, что ни одного реакционера в Бетховенском зале не обнаружил. Председательствовал мой любимый писатель и друг Борис Васильев (его повести «А зори здесь тихие...», «Не стреляйте в белых лебедей», «В списках не значился», «Завтра была война» украшали страницы журнала «Юность», в редколлегии которого, о чем уже вспоминал, мне довелось состоять почти четверть века). Поскольку встречу открыл Боря Васильев, я отважился первым попросить слова. И он мне его немедленно предоставил. Но как бы предугадав тему моего выступления, Мария Миронова резко поднялась с места и, словно прокладывая путь мне и моей речи, произнесла несколько фраз. Всего несколько, но каких! Она ударила в гонг: реакционерам спуску давать нельзя. Коль они агрессивно объединяются, должны объединиться и мы! Получилось, что она поддержала меня... еще до того, как я взобрался на трибуну. А с трибуны, обращаясь к президенту России, я сказал вот что: «Борис Николаевич, вы должны гораздо более решительно, нетерпимо относиться к сборищам молодых людей, которые, быть может, внуки тех, кто разгромил фашизм, но у них на лацканах фашистские значки. И в этом участвуют депутаты нашего парламента... Фашизму в любой форме, даже если он только зарождается, при первом же его проявлении мы должны давать бой самый непримиримый».
Пусть это не покажется нескромностью, но вспомню и о том, что Геннадий Хазанов с места воскликнул: «Алексин за-
277
мечательно сказал...» И эта фраза была в тот момент очень важна. Хазанов, тоже обращаясь к президенту, «продолжил тему»: «Сегодня целый ряд изданий занимается антисемитской пропагандой, прикрывая это словом «сионизм». Фашизм вненационален, а сионизм имеет точные национальные корни...»
Президент нас троих искренне поддержал. «Литературная газета» опубликовала тот «диалог с президентом», а телевидение продемонстрировало его всей стране и всему миру.
На следующий день бывший глава парламента Руслан Хасбулатов обозвал нас всех «безродными деятелями культуры» и созвал встречу с деятелями, так сказать, сталинского направления, а то и откровенно нацистских воззрений.
Я вспомнил обо всем этом еще раз сегодня, когда взялся за новую главу воспоминаний... Потому что ранним утром меру терпения взорвал еще один террористический акт в Иерусалиме. Давая в связи с этим интервью телеграфному агентству, я назвал терроризм фашизмом. И даже одной из подлейших его форм.
«Мы, я уверен, обязаны свершить все возможное и невозможное, чтобы терроризм был обезглавлен, разгромлен, — сказал я в том интервью. — А одно из первых условий победы над терроризмом — это единство. Пусть все матери погибших, все их родные и близкие знают: мы скорбим вместе с ними... И нет предела нашему горю и нашему гневу».
Сегодня я обращаю эти слова к матерям тех, кто погиб от террористов-фашистов на улицах российских городов, в Нью-Йоркском торговом центре и в тель-авивских автобусах, в Париже и Лондоне, в парке Атланты, в Оклахоме и в токийском метро, при встречах с «тамильскими тиграми» и наймитами разного рода шейхов, кои сами-то предпочитают жить в роскоши, а психически неуравновешенным юношам внушили, что за убийство детей и женщин можно попасть в Рай. В Рай за убийство невинных и беззащитных? Вот уж беспредел нравственной патологии... Если агрессия средневековья не будет остановлена, остановится не только прогресс человечества, но и его сердцебиение.
В годы войны погибли почти все мои школьные друзья. Они не успели порадоваться жизни, получить профессию, обрести свою семью, даже поцеловаться... Я видел и рассказал уже в своих воспоминаниях, как на одной из главных оборонных строек страны не щадили себя люди, пренебрегая беспощадностью мороза и дистрофии, не боясь круглосуточного, изнурительного труда в тех цехах и на тех «строительных объектах», где по мирным медицинским законам можно было рабо-
278
тать не более четырех-пяти часов в сутки. Они сражались с фашизмом.
Обязана закипеть и битва с фашистами, которые действуют под омерзительным псевдонимом «террористы». Но что-то долго не закипает... Они действуют на разных широтах, в разных странах, на разных континентах — и всюду у них один и тот же кровавый почерк. Хочется верить, что цивилизованное людское сообщество объединится в этом новом сражении, как оно объединилось в смертельном сражении с Гитлером.
В небольшом немецком городке Ландау разместился крупнейший педагогический университет. В этом городе жил когда-то дедушка Анны Франк... И вот в его доме был создан музей, где сами немцы воспроизвели в фотографиях жуткие злодеяния, совершенные гитлеровцами. Каждое воскресенье мэр со своей семьей посещал тот музей ужасов, подавая всему городу пример покаяния. Я это видел... Быть может, когда-нибудь и потомки нынешних террористов будут приходить с непокрытой головой в другой музей ужасов, который поведает о преступлениях их предков. То будет гигантский музей, если прогрессивное человечество не заставит терроризм покончить с собой, как заставило это сделать Гитлера. ..
Фашизм не вправе, не смеет ощущать себя безнаказанным. На благородное миролюбие он отвечает кровью. В этой связи вновь вспоминаю: после моего выступления в Большом театре некоторые принялись успокаивать: «Не надо беспокоиться. Ну какие это фашисты? Балуются ребята... Вот и все. Фашистские значки? Ну и что? Молодые люди очень любят значки...»
— А я не люблю тех, которые любят фашистские значки! — ответил я благодушным покровителям молодчиков со свастикой на рукавах и на лацканах. — Я даже их ненавижу!..
Но оказалось, что и молодчики меня в ответ возненавидели. По ночам — неизменно в четыре часа! — они стали врываться ко мне в дом телефонными звонками:
— Ты решил с нами помериться силами? Смотри... Вздернем на фонаре!
Помню звонки (но дверные!), которые словно бы вспарывали ночную тишину нашего дома в тридцать седьмом году, когда арестовали отца, а потом в пятидесятом, когда в нашей же квартире арестовали дядю. Можно было уже привыкнуть к ночным вторжениям эсэсовцев... Но привыкнуть к этому труд-
279
но. Почти невозможно... И греховно! Привыкая ко злу, мы его поощряем.
Я пожаловался влиятельному чиновнику той поры, ныне уже, к счастью, смещенному. «Не придавайте значения... — советовал он. — Ну, звонят! Хулиганят, балуются. Постараемся установить их номера. Постараемся!» Никто ничего, естественно, не установил.
Фашизму нет места на белом свете. Если мы хотим, чтобы он оставался белым... А не стал черным.
НЕВОЛЬНИК ЧЕСТИ
Из блокнота
Сегодня, 18 июня 1997 года, Россия прощается с Булатом Окуджавой.
Слово «бард» вовсе не всегда эстрадно и, уж во всяком случае, не унизительно: оно обозначает почитаемый жанр. И все-таки называть Окуджаву бардом мне не хочетоя. Он был человеком эпохи Возрождения. И во всем, чему отдавал себя, — в поэзии, музыке, исполнительском искусстве, в гражданских борениях — он был великим.
Мы познакомились в сорок седьмом: на «первом совещании молодых писателей». Канцелярское слово «совещание» как-то не сочетается с тем, что «начинающими авторами», дожидавшимися суда Мастеров, были Булат Окуджава, Юрий Трифонов, Семен Гудзенко, Давид Самойлов, Юрий Бондарев, Григорий Бакланов, Юрий Левитанский, Сергей Орлов, Расул Гамзатов, Владимир Солоухин, Александр Межиров, Владимир Тендряков, Алексей Недогонов, Михаил Луконин, Сергей Наровчатов, Алексей Фатьянов... Почти все были в солдатских гимнастерках без погон. Помню, как в вестибюле и коридоре, встречая Мастеров, к стене застенчиво прижималось будущее российской литературы.
«Ах, Арбат, мой Арбат...» Мы с Булатом оба были арбатскими мальчиками — и это нас сразу сблизило. Помню, как мы с ним отправились в путешествие по Крайнему Северу и Заполярью. Наступила белая полярная ночь. Времена суток перепутались, перемешались... После встречи с читателями командующий Северным флотом умыкнул нас к себе домой. А там собралась интеллигенция Североморска: главный архитектор города, главный хирург, главный художник... Советская власть тяготела к эпитетам, определявшим чины. Но главным в ту, как бы сокрывшую себя, ночь был Окуджава. До утра, тоже себя не обнаружив-
280
шего, он пел, и читал стихи, и рассказывал анекдоты. Ему внимали, аплодировали, признавались в любви.
А сегодня с ним прощаются в театре имени Вахтангова.
— Мы наверняка там с тобою встречались! — говорил мне Булат. — На «Принцессе Турандот» или на «Интервенции»...
Как сыновья «врагов народа», мы небось и сидели-то где-нибудь рядом: на дешевых приставных стульях или ступеньках. И вот с ним в том театре прощаются. Слышу об этом по радио, вижу на телеэкране.
Умирают друзья, умирают,
Словно лампу с окна убирают...
Все чаще мысленно, про себя повторяю эти межировские строки. И все чаще в записной книжке своей обвожу черной рамкой имена, фамилии, номера телефонов.
А ведь совсем недавно нам с Таней выпало счастье обнять моего давнего друга. Великого Окуджаву... Именно таким предстал он и в тот вечер, на своем концерте, в антракте мы встретились за кулисами. Булат был усталым, даже измученным. И все же мы бурно возрадовались короткому своему общению. Прогнозировали, что расстаемся не надолго. Но оказалось, что навсегда.
Не могу вообразить, что испытывает ныне Оля, жена Булата, по-матерински заботливая сподвижница его. Что испытывает его, столь одаренный, сын, привыкший с отцом не разлучаться. Да и для всех, кто не мыслит себя без русской поэзии, прозы, музыки, кончина Булата — трагедия непереносимая.
«Погиб поэт — невольник чести». Невольник чести... Мы подчас как бы автоматически повторяем этот нравственный лермонтовский «термин», не очень вдумываясь в его суть. А утверждает он, что истинный творец — в «плену» у совести, у чести. В желанной неволе!.. В той святой неволе был и Булат Окуджава. В ней навечно останутся и его творения.
Прощай, Булат! Мы более никогда не обнимем друг друга!.. Трудно себе представить...
1997 г.
НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ, ЦЕЛИТЕЛИ...
Из блокнота
Мама не обременяла своими страданиями других. Пока это было возможно... Но вот 17 июня 1953 года ее настиг инфаркт, который врач «скорой помощи» назвал «бронебойным».
281
Воспоминание об этом есть в «блокнотной» главе «Прости меня, мама...» Позволю себе дополнить ее деталями.
Я позвонил Фриде Вигдоровой... Есть люди, к которым в тяжкий час припадаешь, словно к источнику спасения: они воспринимают твою беду, как свою личную. Фрида была таким человеком... Атаку дебилов от идеологии на Иосифа Бродского она ощутила, как наступление варваров на культуру вообще. Она была убеждена: те, которые объявили «тунеядцем» будущего лауреата Нобелевской премии (о премии Фрида, увы, не узнала!), могут объявить «тунеядкой» и всю талантливую интеллигенцию, всех творцов и интеллектуалов. Фрида отважилась вести дневник судебных заседаний, измывавшихся над поэтом. Это было категорически запрещено, но она умела переступать через запреты. А потом сделала свой «судебный дневник» достоянием мировой общественности. Думаю, тот подвиг стоил Фриде Абрамовне жизни... Спровоцированный нервным перенапряжением хронический недуг оборвал ее жизнь. Жизнь праведницы и защитницы праведных идеалов...
Фрида была безотказной и скорой «скорой помощью»: она, немедленно откликнувшись на мой звонок, связала меня с крупнейшим терапевтом Борисом Евгеньевичем Вотчалом (он в ту пору был удостоен золотого аппарата для измерения давления, который вручался Международной организацией целителей «кардиологу номер один»). Вновь вспоминаю...
Хоть он и был главным терапевтом министерства здравоохранения, да к тому же еще и советской армии, на груди у него, поскольку ворот рубахи был вольготно распахнут, я увидел крест.
— Отчего сердце останавливается? — спросил я затаенно и еле слышно.
— Сначала надо выяснить отчего оно бьется. Я лично понятия не имею, — ответил лучший терапевт мира. — Мои студенты знают и охотно вам объяснят. А я не смогу. Но маму вашу спасу.
Он выполнил обещание — и подарил мне четверть века маминой жизни.
Низкий вам поклон, великий целитель... Самого себя вы сберечь не смогли — и ушли из жизни задолго до срока. Впрочем, кому, кроме Господа, те сроки известны?
Дружил я с нейрохирургом Эдуардом Канделем — никогда не унывающим Эдиком, который имел основания и приуныть, почти ежедневно идя «на вы», то бишь в наступление
282
на болезни головного мозга. Он, едва ли не один в стране, умел находить ту «спайку» в мозгу, в которую нужно было безошибочно попасть, чтобы «распаять» ее — и спасти человека от «болезни Паркинсона». Простите, нейрохирурги, если я что-то с медицинской точки зрения излагаю неточно. Многих избавлял Эдуард от послеинсультных бедствий, от опухолей мозга. Но себя от одного из подобных же мозговых недугов спасти не сумел... «Эдик и смерть — две вещи несовместные», — думал я. Но ошибся.
В Советском Союзе с дуболомным упрямством действовали необъяснимые «правила»: членов политбюро — допустим, Фурцеву и Полянского — бдительно охраняли, оберегали, а вот Льва Ландау — нет. И он стал жертвой банальной автомобильной катастрофы... Банальной, потому что подобных аварий было много, но уникальной, поскольку пострадал в результате гений. И не просто пострадал, а оказался на самом рубеже, на тончайшей грани между жизнью и гибелью. Но произошло, пожалуй, единственное в истории медицины событие: спасать гения с разных концов земного шара слетелись в Москву самые прославленные хирурги. Плацдарм же для их и своей спасательной деятельности заранее подготовили российские нейрохирурги — молодой Эдуард Кандель и его учитель профессор Егоров. Череп великого физика собрали буквально «по кусочкам». Звучит это не очень изысканно, но именно та фраза гуляла по страницами мировой прессы: «собрали по кусочкам» .
Сколько раз я просил Эдуарда Канделя — благожелательного и безотказного Эдика — помочь жертвам инсультов, злокачественных мозговых опухолей, «болезни Паркинсона». И он помогал, помогал, помогал... Его хирургическое искусство отменяло «смертные приговоры», самые пессимистические прогнозы. А сам погиб от болезни мозга.
Низкий поклон тебе, целитель...
В гостях у нас побывал и мой дорогой друг Аркадий Вайнер — один из двух знаменитых братьев Вайнеров. Прибыл Аркадий на Обетованную землю с женой... Вспомню, что Агния Барто терпеть не могла, когда, представляя ее мужа, видного ученого-энергетика, члена Академии наук, говорили: «А это — муж Барто!» «Он, конечно, мой муж, но в той же мере я — его жена. Чем и горжусь!» — ставила Агния Львовна «на место» поклонников ее поэтического дара.
Тут противоположная ситуация, но фактически та же самая.
Доктор медицинских наук, профессор Софья Дарьялова,
283
как говорится, у меня на глазах спасала людей не только тем, что вовремя обнаруживала у них «рак» (и сражалась с ним, нередко его побеждая!), но и тем, что не обнаруживала... Я знаю десятки (а значит, их были тысячи!) людей, направлявшихся к Софье Дарьяловой в убийственном настроении и с диагнозом-приговором (правда, иногда в скобках стоял успокоительный знак вопроса, который больного не успокаивал), да, знал таких, которые шли к ней обреченными, а возвращались освобожденными от приговора. Врачебный и человеческий дар Сони состоит и в том, что она умеет вовремя не дать больному свихнуться, от отчаяния сойти с ума (случается, что и в буквальном смысле). Почти так было со мной... Я знал, что судьба обрекла меня на «высшую меру наказания»: от рака лимфатических желез спасения в те времена не было. «За что мне такая «мера»? — смятенно размышлял я. — За что?»
Его, тот диагноз, начертала открыто, предоставив мне возможность, так сказать, ознакомиться, хирург-онколог, тоже обладавшая врачебным талантом, но не обладавшая, мне кажется, в должной мере талантом человечности. Вопросительный знак был в скобках выведен ею так, что показался мне знаком восклицательным. Не ставившим диагноз под вопрос, а его утверждавшим...
Жена Таня была в те дни неотторжима от меня и моего горя. Я был еще относительно молод: столько надежд, столько, простите за казенное слово, «замыслов»! Таня убеждала, что все они сбудутся. Она всегда была для меня первым другом в тяжких жизненных ситуациях, в литературных моих бдениях, во всех метаниях моего тревожно-мнительного характера (об этом я расскажу в особой главе!).
Но из медицинских светил только Соня Дарьялова — всеми почитаемая в онкологическом институте Софья Львовна — тайком (вопреки желанию «лечащего врача»!), как изобретательная, хитроумная школьница, умудрялась проникать в мою отдельную палату: «Все будет хорошо!» Она утешала, но не жалостливыми, неаргументированными обещаниями, а своим авторитетом, который был в институте непререкаем. Изобретенная Дарьяловой барокамера (лишь одно из ее открытий!) схватывалась один на один с раком легких и заставляла его отступать.
Отдельная палата... Она вроде бы привилегия, но панические раздумья обреченного наедине с самим собой превращают привилегированную палату в палату номер шесть. Если бы не Соня и не жена моя Таня, не оставлявшие меня в одиноче-
284
стве ни на мгновенье (присутствуя в палате или отсутствуя в ней!), боюсь, было бы скверно...
Искусно располосовав меня от живота до позвоночника, лечащий врач при встречах со мной не расставалась со своей драматичной многозначительностью. Я знал, что через десять дней утром должна явиться та, что с помощью микроскопа снайперски точно определит: «быть» мне на свете или «не быть».
Наступил тот день... Ни в девять, ни в десять никого не было. «Значит, конец... — думал я. — Если б все было хорошо, как обещала Соня, даже мой лечащий врач взбежала бы наверх, ворвалась бы в палату со спасительным сообщением».
И ко мне ворвались... Но записки от Сони и от жены Тани. Их тайно всучила мне, опасливо оглядываясь по сторонам, больничная нянечка. «Толенька, все хорошо...» — писала мне Соня. Она выполнила свое обещание. Злокачественного образования у меня не оказалось... Но психику-то могла сразить какая-нибудь другая болезнь «злого качества». Если бы не Соня Дарьялова. Профессор, доктор наук... Но прежде всего — целительница организма и души человеческой!
Здесь, в Тель-Авиве, я показал ей записку, которую она прислала мне двадцать четыре года назад тем печально памятным утром. Записку, которую я храню. И буду хранить до конца своих дней...
Давно уж я болен. Недуг мой не связан с онкологией, но и неизлечим, последствия его необратимы — болезнь можно лишь попридержать. Здоровье Татьяны куда дороже для меня, чем свое собственное. К несчастью, необратимы и последствия разрушительных злодеяний ее болезней. Однако и ее недуги можно взять под уздцы, тоже приостановить.
Целители, исцеления... Жизнь веками доказывает, что лечение физических недугов почти всегда неотделимо от лечения недугов душевных. Нет, я имею в виду не психические болезни, а заболевания психологические, которые мы часто именуем «нервными расстройствами» и которые, к несчастью, редко покидают человека. Тут на помощь приходят и музыка, и литература. Они тоже искусные врачеватели. Как часто на встречах с читателями — а их, возрадуюсь, очень много! — я слышу: «Когда нападает депрессия, перечитываю классику и вообще любимые книги, припадаю к музыке. И становится легче». Примерно так говорят люди здесь. И в России, и в Америке... Так что создатели произведений, способных лечить
285
и излечивать, в какой-то степени коллеги тех, что врачуют в прямом смысле.
Врачеватели и те, что приносят, рекомендуют, словно доктора, прописывают «литературные лекарства», могущие спасти от тоски, от ощущения безысходности. Я говорю в том числе и о вернейших друзьях писателей — библиотекарях. И напомню об одном из главных таких целителей в Израиле — о директоре библиотеки Сионистского форума Кларе Эльберт. Честное слово, памятник бы поставил при жизни! И считал бы, что в данном случае культ — от слова «культура».
Ну, а завершу главу благодарением целителям (в понятии буквальном!). Спасибо вам, русские врачи-маги, спасавшие моих родителей, меня и моих близких — хирурги Бурденко, Спасокукоцкий, Борис Розанов, Владимир Виноградов, Топчиашвили, Очкин, Борис Григорьевич (простите, запамятовал фамилию!), и вам, кардиологи-маги Борис Вотчал, Долгоплоск, Евгения Физдель, и вам, Семен Файн, Геннадий Поволоцкий, и вам, онкологи-маги Сергей Сергеев и Софья Дарьялова.
А здесь, на Святой земле, мы встретили спасателей и спасителей, которым тоже высокие благодарения и низкий поклон! Кланяемся вам, нейрохирург Иоанна Шифер, и вам, многоопытные врачеватели Зинаида Вайнштейн, Борис Шаргородский и Александр Фельдман, и вам, офтальмологи, благодаря которым я еще вижу мир, — профессор Марк Иоффе, Александр Вайншток, Рапопорт, Савий Давидов...
Слишком длинен перечень имен и фамилий? Но разве может быть «слишком», когда речь идет о спасителях? Перечень имен героев, спасших планету от Гитлера, тоже длинен. Но и короток... Потому что должны быть названы все. До единого!
«УЖЕЛЬ ТА САМАЯ ТАТЬЯНА?..»
Это единственная глава моих воспоминаний, жанр которой не определен. Написать «Из блокнота» не могу, потому что вернее было бы написать: «Из души». Обозначить главу словами «С голоса»? Надо было бы уточнить: «С голоса сердца».
«Тоже из жизни»? Вновь неточно. Потому что не просто «из жизни», а из самых значительных и прекрасных ее лет. Эти годы я не «перелистываю», а погружаюсь в каждую их строку. В воспоминаниях моих Татьяна не может быть среди других, я не могу писать о ней в том же жанровом стиле, в той же форме, как о других и о другом. Войдя в жизнь мою, она преобразила весь ее внешний и внутренний облик, а войдя
286
в книгу об этой жизни, изменила форму и стиль: жена никогда не была для меня ни обычностью, ни чьим-то повторением. И останется таинственной и счастливой неповторимостью до последнего моего мига...
«Счастливой» — сказал я. И не оговорился. Хоть классик, в какой уж раз вспомню, утверждал: «На свете счастья нет...» В этом единственном (для меня!) случае позволю себе дерзость оспорить гения: счастье на свете все-таки есть. Или, напротив, моя ситуация лишь исключение, которое подтверждает «правило». Счастье не пригрезилось мне, а и по сию пору посещает меня наяву. Посещает... Поскольку постоянно пребывать в объятиях счастья нельзя, невозможно, — оно перестанет быть потрясением. Счастье не может быть окрашено в будничные тона. Его цвет трудно определить, он не имеет названия. Так, может быть, написать в подзаголовке «Признание в любви»? Но это и признание в любви, и признание в благодарности. И преклонение... Нет, не найти жанра. Пусть остается только — «Ужель та самая Татьяна?» Тут уж сомнений нет: та, та... Та самая!
«Любимый! Я верю, что ты еще много доброго скажешь людям... Твоя Таня». Для писателя «сказать» — значит, сделать. В этих строках Таниного письма все самое для меня бесценное: и «любимый», и «верю», и «твоя»... Эти слова (или высшие для меня дарения!) вот уже почти тридцать лет, не покидая меня, не разлучают и с томительным, тревожным стремлением соответствовать тому, что жена от меня ждет, что хочет во мне видеть. Это — главный двигатель и внутреннего одухотворения (да простится громкое слово!), а может, и «внутреннего сгорания». Но сгорая и возрождаясь «для слез, для жизни, для любви», только и смеет существовать писатель.
Моря, океаны... Они неотделимы от моего душевного состояния не потому, что необъятны, безбрежны, а и потому, что загадочно определяют «место действия» моего счастья (тут уж да извинятся мне слова приземленные, но океаны и моря не просто соприкасаются с землей, но вечно прибиваются к ней и ее омывают).
Черное море, которое всегда было для меня светлым... Атлантический океан и Тихий... Средиземное море, Красное, Мертвое (хотя и живое, целительное)... Они стали свидетелями самых незабываемых в моей жизни событий.
Вот мы с Таней — на берегу моря Черного... За нами — гостиница с чересчур роскошным, но и символичным именем
287
«Жемчужина» (она стала для нас и написанных там повестей, новелл, пьес моих в самом деле жемчужно драгоценной). Гостиница та возникала, подымалась, достигала своего четырнадцатого этажа, как говорится, у нас на глазах. Частая обитель наша потом и была на том, четырнадцатом, где оживали, разворачивались застолья, веселья... И еще таилось, тоже оживало, звучало то самое заветное, что слышали, ощущали мы двое и что останется только нашим.
А на берегу мы с Таней трудились. «Что люди? Что их жизнь и труд? Они прошли, они пройдут...» Тот наш труд — и ему вряд ли суждено бессмертие! — все же, если для меня и пройдет, уйдет, так только вместе со мной.
А при моей жизни душа и вся суть моя не бросят его, не покинут... Не предадут. И забвению — тоже.
Таня вязала (как все, за что она берется, делала и это художественно, с безупречным вкусом), а я сочинял... И каждый абзац, каждую строку читал Тане. И почти каждый абзац ей поначалу не нравился. А я, поскольку мечтал (болезненно мечтал!) ей во всем нравиться, каждую строчку переписывал, переделывал, переиначивал. И снова читал, стараясь актерскими ужимками улучшить свой текст. «Читай нормально!» — прерывала Таня, которую сбить с толку нельзя ни в чем. Я снова правил и снова читал, но «нормально»... Позже — гораздо позже! — я осознавал, что это необходимо было не только моей страсти, но и моим повестям, новеллам и пьесам... Так было не только возле Черного моря, но и на берегах Волги, и под ласковое шептание или под гневный, бушующий говор других морей-океанов. Вновь напомню себе самому: двадцать одна моя повесть была напечатана в «Юности» с ее тиражом, перешагнувшим за три миллиона, десять пьес шли по всей стране (более чем в двухстах театрах), рассказы, повести публиковались и в других «толстых» и «тонких» журналах, газетах. А двести книг на разных языках? Я не даю оценку своим вещам (ни в коем случае!), а как бы подвожу итог: почти все это было написано на тех морских и речных берегах. И рядом неизменно была Татьяна... И ни одна глава, ни один абзац, ни одна сцена не миновали ее эстетического фильтра, который был и остается поныне жестко взыскательным, справедливо придирчивым, а потому — и беспредельно добрым ко мне. К тому, во имя чего я живу... Впрочем, каждое мое дело неизменно было и делом Татьяны. Все лучшее, что я написал (если, разумеется, есть такое!), обязано и ее советам, и ее, не устану твердить, заботливой бескомпромиссности.
«Если моя жена все умеет, зачем и мне уметь то же
288
самое?» — так, похоже, иногда рассуждаю я. И в результате не научился владеть не только современным компьютером, но и допотопной пишущей машинкой. Тем более что Константин Георгиевич Паустовский мне внушал: «Писатель не должен печатать — он обязан писать. Пером... Лучше всего гусиным! Но так как гусиных перьев, увы, уже нет, то хотя бы пером металлическим. Возникает естественное «сопротивление материала». Как бы сказать, бумажный «сопромат»: фразы медленнее рождаются, а голова их лучше обдумывает».
Одним словом, я пишу шариковой ручкой, чутко вслушиваясь при этом в мудрые советы и коррективы жены. Затем я диктую, а Таня печатает на компьютере. Она, конечно, умеет... Но вдруг останавливается:
— Этого я печатать не буду.
— Почему?
— Потому что это никуда не годится. К тому же в сюжете выпирает бессмыслица.
— Но ведь раньше... ты одобряла?
— Что поделаешь, не доглядела. А теперь вижу и слышу, что получилась несуразица. И печатать не буду... пока ты от нее не избавишься.
Я усердно избавляюсь.
— Кстати, еще... Такая фраза у тебя была уже.
— Где?
Таня помнит все, что я сотворил, гораздо точней, чем я сам. Она напоминает забывчивому автору, из какой повести тот повтор.
Спасибо, жена, за твою непримиримость! И за твои умения... Представляешь, что было бы, если б я умел печатать сам!
Сколько достойнейших и редчайших кровей перемешалось в Татьяне: и русская дворянская кровь древнего рода Елчаниновых (польские шляхтичи пришли на службу ко двору Василия Темного), и еврейская кровь немецкого банкирского дома Фейнбергов, который подарил русской земле талант отца Таниного, растоптанный сталинским режимом... Такие гены не могли не создать Таню личностью. И вот подхожу к самому главному, что хотел сказать в этой главе... Ни разу в жизни не довелось мне встречать такого единения женской обворожительности (к сожалению, это замечаю не я один!) и какой-то почти всеохватывающей одаренности. Это и определяет ту личность, что являет собою моя жена. И самые дорогие, близкие мне героини моих рассказов, повестей, пьес и фильмов как бы вобрали в себя ее достоинства. «Почему у вас женщи-
289
ны столь часто лучше мужчин?» — спрашивают читатели. — Взять, к примеру, «Безумную Евдокию», или трилогию «В тылу как в тылу», или повести про Алика Деткина, или «Позднего ребенка», «Действующих лиц и исполнителей», «Чехарду», романы «Сага о Певзнерах» и «Смертный грех», или новеллы московского и тель-авивского циклов... Женщины почти везде лучше!»
— Не везде, конечно. Но если их прообраз — Татьяна или если в женщинах хотя бы проглядываются ее черты, то, безусловно, лучше!
Уже улавливаю за спиной и другое: «В своих воспоминаниях вы ни о ком не пишете с такой восторженностью, как о жене. Ни об ученых, ни о поэтах... Это что, по родственным соображениям?»
Соображений, уверяю, никаких нет... Татьяну я в книге о своей жизни выделяю потому, что она и есть моя жизнь. Но при этом — ни единого преувеличения... Поверьте мне: ни единого! Я обязан был сказать все по совести.
Однако думать, что быть женой — единственное Танино предназначение или словно бы единственная ее «профессия», значит несправедливо заблуждаться. Когда бы я ни бывал в тех местах — не хочу сказать «учреждениях», — где работала Таня, о ней помнили все: от уборщиц и гардеробщиков до видных «персон». Кстати, среди тех «персон» немало людей заслуженно известных, интеллигентных не по «принадлежности», а по сути: люди науки, издатели, деятели всех видов искусства — литературы, музыки, живописи, театра, кинематографа... Говоря о Тане, все как-то взбадривались, точно даже воспоминания о ней дарили людям энергию. Прежде всего — энергию доброты... и чего-то еще. Честно говоря, мне казалось, что все в нее были хоть немножко да влюблены... Даже женщины, кроме тех, которые пытаются приписать неуспехи своей личной жизни чьему-то чужому успеху. Таня за успехом никогда не гналась — он сам преследовал ее. Разве она была в том повинна?
Деятельность жены нигде не оставалась бесследной: в издательстве «Мир» («Иностранная литература»), где она была редактором, как о чуде, рассказывали о том, что в «ее книгах» по ее настоянию авторами оттачивалась каждая фраза (ну, это я по себе знаю). Поскольку книги были научными, она, разумеется, требовала от переводчиков не художественности, а почтения к русскому языку. В Союзе обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами, где Таня была ответственным секретарем Ассоциации деятелей литературы и искус-
290
ства для детей, она сумела распахнуть перед бывшим Советским Союзом двери во все международные организации, занимавшиеся проблемами эстетического воспитания юных, так сказать, на самом высоком (всемирном!) уровне. Это, как и очень, очень многое другое, она свершила не ради тоталитарного режима, а во имя детей, которые всюду дети...
В Союзе писателей СССР Татьяна семнадцать лет фактически возглавляла Совет по детской и юношеской литературе (председателем был мэтр первой величины, а потому был главою как бы почетным). И там все, что рождала ее азартная инициатива, было не службою, а служением. Ничего формального — все тоже во имя детства, отрочества, юности и тех, кто талантливо посвящает им свою жизнь. «Скажи, как ты относишься к детям, и я скажу, кто ты...» Перефразировав так известную русскую поговорку, я мысленно даю оценку Таниной неуемности. Ведь не всякая же неуемность достойна восхищения... Она — «Ветеран труда», заслуженный работник культуры России и Грузии. Да, никто и нигде не забыл Таню. Потому что, если встретил, увидел, — забыть не удастся. Если даже захочешь... Это все тридцать лет преподносило мне гордость. Но одновременно и непокой... Что скрывать!
«Если ты когда-нибудь разойдешься с Таней, я останусь не с тобою, а с ней...» — как-то сказала мне мама. Конечно, она — незабвенная моя мама! — никогда бы не рассталась со мной, но и с Таней бы ни за что не рассталась. А слова те произнесла потому, что умнейшим своим сердцем понимала: не встречу я более на свете такую личность. И хотела, чтобы я об этом не смел забывать. Тревожилась мама напрасно: если бы даже непредсказуемая судьба вдруг и расшвыряла нас с Таней в разные стороны, я бы все равно жил и творил (опять громкое слово!) во имя нее. И под ее — пусть незримым — оком. Взгляд и заботливейшую взыскательность которого я не ощущать уже не смогу.
«Чувство прекрасного»... Это словосочетание до того замусолено, что, произнося его, как-то невольно стыдишься. Но нет плохих слов (если они из нормального лексикона!). И если люди иные слова девальвировали, то это вина людей, а не слов. «Любовь». Это слово менее бесценным не стало для каждого, кто способен любовь испытать, хоть его, это слово, запроизносили посредственные стихотворцы, пытающиеся прикрыть им, как привлекательной вывеской, свою посредственность. И перезапели безголосые и бездушные эстрадные пошляки...
291
«Чувство прекрасного» — это понятие возвращает себе свое возвышенное значение, когда я отношу его к вкусу жены своей, ни разу, кажется, не изменившему себе — высокочеловечному, хоть и изысканному. Наши семейные коллекции Хохломы и других произведений русских народных умельцев — это и ее творения, на которые (не просто «собранные», а как бы изобретательно, с безупречной органичностью друг с другом соединенные!) чем больше взираешь, тем сильнее тянет взирать. И душа расправляется, и повседневная суета бессильно сторонится, отступает, и нежность, добросердечие завладевают тобою... Татьяна и чайник-то на плиту так поставит, что это затормозит взор, потому что будет изящно. И уж тем паче так подберет букет, будто букетов до того вообще не было. И так именно расставит книги и так осенит картинами не стены только, а все окружающее пространство, а прежде всего — разум и душу... Но об этом повествовать трудно — это надо увидеть, чтобы оценить и понять.
Ни разу, кажется, ей не изменил вкус. Разве что когда выходила за меня замуж?
Преодоление боли и даже мук — физических и душевных — это не только мужество, но и особое героическое искусство, которым Таня владеет в совершенстве. В пятилетнем возрасте — «дочь врага», и не какого-нибудь, а «врага народа». А еще до того, прямо с рождения, — дочь дворянки из гордого и отвергнутого властью племени «лишенцев», лишенных всего: имущества, прав на высшее образование, на обретение малейшего успеха в жизни, прав на защиту прав... Ребенок, вынесший увертюру, канонадную прелюдию к ленинградской блокаде и первые ее кошмары, а после — эвакуацию в железнодорожном составе, ставшем мишенью для фашистских асов детоубийства. А затем — детский дом, где и полевая трава становилась одним из ежедневных блюд. А еще позже — после возвращения в родной Питер — «переселение» первым секретарем райкома ВКП(б) дворянской семьи, да еще побратавшейся с «изменниками родины» (дедушка, отец и дядя Тани), — из давней фамильной квартиры в подвал, затоплявшийся не только разливами Невы, но и ливневыми потоками. А еще позднее — туберкулез из-за подвального климата и куда более тяжкие человеческие недуги из-за климата политического. Таня все вынесла, преодолела, не унижая себя прошениями, жалкостью внешнего вида и внутренней неполноценности — с достоинством победительницы извращений режима, напастей судьбы, нездоровья... и безус-
292
ловно, победительницы сильного пола, который в общении с ней повелительную силу терял и становился обреченно зависимым. Что в полной мере относится и ко мне...
Добавлю: Татьяна не только победительница собственных тягот, но и самоотверженная целительница чужих бед. Она умеет страдать страданием других или ликовать по поводу чужих ликований (качество особенно редкое!). Вот почему она, как нравственный магнит, притягивает людей. О том, в частности, свидетельствуют и фотографии. В этой главе я годы не «перелистываю», а пристально вчитываюсь в них, но семейный фотоальбом позволил себе перелистать — и лишь некоторые снимки, воссоздавшие моменты бытия нашего, переселил в книгу.
«При счастье все дружатся с нами, при горе — нету тех друзей» — эти слова Беранже чаще всего, увы, совпадают с реальностью. Но с реальностью Таниного характера — никогда. Именно «при горе» она неудержимей всего устремляется и устремлялась к страждущим. А уж ко мне и моим родителям...
Правда, я неустанно отвечал тем же ей и ее прекрасной маме-дворянке. Это — не бахвальство, а необходимая для воспоминаний дань истине. Умолчание же было бы в этом случае не данью скромности, а искажением правды. Детей Таниных от первого брака воспринимал, как детей своих. Быть может, более всего сил (именно сил!) отдал я, как и Таня, сыну Диме. Он окончил Высшее военное училище, академию. Стал морским офицером. Живет своей жизнью. И дай Бог ему счастья... А дочерью Аленой горжусь!
Но тут, чувствую, в главу о Татьяне закономерно не вторгается, а как бы вплетается «подглавка».
ПРО АЛЕНУ
К сожалению, бывшие дети, сделавшись взрослыми, нередко забывают о ранней поре своего земного существования. Хочу им напомнить...
Ребенок, вновь утверждаю, отличается от взрослого лишь меньшим житейским опытом да меньшими физическими возможностями (все же ребенок!). Но у детей такая же, как у нас, способность кого-то любить, а кого-то и не любить, спо-
293
собность восторгаться и разочаровываться, отчаиваться и ликовать. Эмоционально же они многое воспринимают куда острее, чем мы. Они понимают или, по крайней мере, чувствуют все, что происходит между мамой и папой, кто в семье прав, а кто — нет. Дети почти безошибочно отличают хорошего человека от скверного, щедрого на добро — от скаредного.
К Алене дети приникают душой. Их всегда притягивает к себе красота. Но прежде всего они, в отличие от весьма многих взрослых, на сердечность отвечают сердечностью. Весной 1989 года я вновь убедился в этом...
В те дни я был свидетелем и участником битвы, которую праздник жизни объявил неотвратимости горя. Я видел краткую, но незабываемую победу радости над бедой. Будучи одним из руководителей (извините за это жесткое, словно бы костлявое слово!) Международной ассоциации фондов мира, я возглавил (снова из устаревшего лексикона!) группу представителей фонда, которые в том случае были представителями Добра. Они опекали неизлечимо больных детей в путешествии необычайном... Дочерей, сыновей и их мам миллионер Генри Лэндвирт пригласил в город Орландо (штат Флорида), а конкретней — в «детский городок» или «детскую деревню», что ближе к точному переводу. «Деревня» состояла из роскошных вилл на фоне не менее роскошного пейзажа. Перед приговоренными детьми и их матерями Генри Лэндвирт на две недели распахнул не только двери вилл и богатство окружающей природы, но, мне кажется, и все самое завораживающее, самое счастливое, с чем может повстречаться на белом свете ребенок. В том и заключался святой замысел, для этого и построил Генри деревню: чтобы страдающие смертельными недугами дети, приезжая с матерями своими из разных стран, успели при жизни на земле погрузиться в торжество, в уникальнейший праздник.
Первыми он пригласил девочек и мальчиков с мамами из Советского Союза, потому что фашистский лагерь, в котором он ребенком томился, освобожден был Советской Армией.
Когда Генри повествовал о кошмарах своего концлагерного детства, мне вспоминался фашистский лагерь Равенсбрюк, тоже освобожденный советскими войсками и ставший ныне музеем... При входе нас, помню, встретили нарисованные на стене маленькое детское сердце с аккуратной дырочкой посредине и надпись, коя гласила, что, если эсэсовец, расстреливая ребенка, сумеет вот так точно, с первого раза попадать в детское сердце, ему будет причитаться внеочередной день отдыха (от этой работы!).
294
Генри Лэндвирт хотел, чтобы дети, приговоренные в мирное время, успели хоть ненадолго погрузиться в сказку... прежде чем окончательно погрузятся в беспощадность болезни.
Не буду описывать то недолгое, но потрясшее меня пиршество жизни. И то богоугоднейшее нравственное изобретение гуманиста... Сейчас мне хочется вспомнить о том, что дети, ставшие для меня будто своими, из всех неусыпно опекавших их взрослых более всего привязались к Алене. Официально она считалась переводчицей, так как блестяще владела английским. А выглядела обожаемой ребятами старшей сестрой. И главным их другом... Тут уж не английский был связующим языком, а язык взаимного душевного согласия и понимания. Никогда не покинет память мою заботливый голос девочки, страдавшей неизлечимой «мышечной дистрофией», девочки, которую уже навсегда покидали ноги:
— Тетя Алена, не прыгайте так со ступенек... Ведь ножки — это самое главное! Самое главное — ножки...
Жива ли ты сейчас, милая?
Алена не только красива, как мать (не пишу «как мать была в молодости», поскольку молодость Татьяну категорически не оставляет), но и очень схоже с матерью многообразно одарена. В Москве она, с отличием окончив университет, в короткий и даже кратчайший срок завоевала авторитет журналистки. Не оповещающей о литературе и искусстве, не информирующей о них, а в них без поверхностной дилетантской лихости проникающей. Не случайно же ее наставником и «руководителем» дипломного сочинения был наичестнейший Лев Эммануилович Разгон. Уважаемые журналы и газеты не просто предоставляли Алене свои страницы, — на эти страницы ее приглашали...
Думаю, к дочери можно отнести слова Толстого, сказанные про Наташу Ростову: она более чем красива, — она обворожительна (мне кажется, фотографии неопровержимо о том свидетельствуют). С самого начала, однако, она не допускала, чтобы ее журналистский, искусствоведческий дар путали с ее женским очарованием. Он, этот дар, представлял собой ценность самостоятельную, ни от кого и ни от чего, кроме себя самого, не зависящую. А потому я не только горжусь своей дочерью — я ее уважаю... «Ты даровита — и не должна быть зависимой, — втолковывал я ей с детства. — Ни от кого... А прежде всего — от мужчин! И даже от своей внешности. Она пусть принадлежит лишь тому, для чего и сотворена Богом: любви. А у нее должна быть своя дорога, не переплетающаяся
295
с дорогой твоего призвания». Похоже, Алена ко мне прислушалась. И к матери... Или сама дошла до этого убеждения: Господь ее и разумом не обделил.
Пишу это все раскованно, потому что, хоть и не просто называю, а и ощущаю Аленку своей дочерью, но все же она дочь Татьяны от первого брака — и восторгаюсь я произведением, кое не создавал. Совершенствовал, разумеется, но не сотворил... А стало быть, в объективности моей можно не сомневаться.
В Нью-Йорке, будучи по воле судьбы замужем за американцем, дочь тоже — в кратчайший срок и без чьей-либо родственной помощи — сотворила телепрограммы «Звезды Америки» и «Звезды мирового экрана», которые более четырех лет были в числе «рейтинговых» передач Российского телевидения. Создавались программы в Нью-Йорке и Голливуде, кассетами переправлялись в Москву, а уж оттуда завоевывали внимание российских, некоторых восточноевропейских и даже израильских телезрителей. Видели их и на русском телеканале в США... Ныне, когда киноиндустрия беспардонно заполонила своими стандартными изделиями мировые экраны, заражая вирусами безвкусицы, передача Алены приносила в дома шедевры киноискусства. В программах ее — не только фрагменты фильмов, которые режиссерски или актерски содеяли Стивен Спилберг, Фрэнсис Коппола, Стенли Крамер, Барбара Страйзенд, Роберт Рэдфорд, Де Ниро, Сильвестр Сталлоне, Софи Лорен, Никита Михалков, Арнольд Шварценеггер, Людмила Гурченко, Элизабет Тэйлор, Катрин Денев, Генри Фонда, Жан-Клод Ван Дамм, Евгений Миронов (да разве всех перечислишь!) — нет, в тех передачах не одни лишь кадры новых и новейших кинопроизведений и лучших ретрокартин (Чарли Чаплин, Мэрилин Монро, Уолт Дисней), но и сами супермастера, которые хоть и ушли из жизни, как бы беседуют — глаза в глаза — с телезрителями, размышляют, даже делятся с телеэкранов тайнами своего мастерства и своими надеждами. Зрительский «зал» каждой из тех передач насчитывал не менее пятидесяти миллионов «мест».
Алена соединила в себе достоинства русской души с особенностями души американской: русская широта, образованность, страсть к литературе плюс американская — не хочу сказать деловитость — но целеустремленность, скрупулезность в том, чему профессионально отдана жизнь, американское содружество верности дому и верности делу.
«Неужели ваша дочь уж столь безупречна?» — снова улавливаю я придирчивый вопрос за спиной.
296
Безупречных я пока на земле не встречал... Да и пресноваты, я думаю, безупречные, если они существуют.
Аленка, например, постоянно и упорно опаздывает (в буквальном житейском смысле!). Я в связи с этим искренне сострадал поклонникам ее юности. Догадываюсь, что ждали они ее с нетерпением и всякий раз раздирались опаской: а если вовсе не явится? Но на деловые «свидания» она является в срок. Что же касается прошлых романтических встреч, то, полагаю, она рассуждала так: «Если любят, то подождут!» Может, иногда она так размышляла и когда ее, воображая себе разные кошмары, дожидались мама и папа?
Дочь обладает характером сильным. И порой вспыльчивым. Может внезапно взорваться гневом. Но вот особенность: если «взрыв» несправедлив, необоснован, она не только виновато «сменяет гнев на милость», но и настоятельно просит прощения. Не ради соблюдения вежливости, а испытывая потребность в истинном покаянии.
Журналистскую деятельность свою Алена начала... в восьмилетнем или девятилетнем возрасте. Не во многих семьях, я думаю, выпускаются домашние «стенгазеты». А в нашем доме такая газета, где Алена была и автором, и редактором, и художником, пользовалась большой популярностью.
Кто-то из классиков уверял, что женщинам несвойственно чувство юмора. Думаю, что «слабый пол» и в этом смысле не слаб. Та газета состояла в основном из потешных рисунков с предельно краткими подписями.
Вот, помню, изобразила первоклассница маму, изнемогающую возле входной двери под тяжестью хозяйственных сумок и не знающую, где ей отыскать третью руку, чтобы нажать на кнопку звонка. На том же рисунке Алена изобразила и меня, ревниво вопрошающего свою фантазию : «С кем она?!» Или вот еще... В молодые годы Таню часто настигали сердечные приступы. Аленка нарисовала машину «скорой помощи», увозящую маму, и брата, бегущего за той машиной со штанами в руках и кричащего вдогонку: «Мама! Куда ты? Ты же не погладила мои брюки!» Юмор чаще всего был устремлен на защиту маминых интересов. И за это тоже я уважаю дочь.
Внучке моей Анисии чувство юмора, по-видимому, досталось генетически. Но тут она, буду справедливым, превзошла свою маму. До такой степени превзошла, что я... Но об этом немного позже.
Когда мы с Татьяной приходим на встречи с моими читателями, многие спрашивают жену:
297
— Вы мама Алены Зандер?
До того они схожи! Если бы на тех встречах появилась внучка Анисия, ее бы тоже донимали вопросом:
— Вы, случайно, не дочка Алены Зандер?
Три женских лица — три столь родственных друг другу женских и человеческих очарования! Не потому что они, банально говоря, «члены моей семьи», а потому что это, действительно, так.
В общем, американка, русская дворянка по происхождению, Алена Зандер, повествуя о «звездах», сама почти пять лет была «российской телезвездой из США». Так ее не раз именовали средства массовой информации в разных странах и на далеких друг от друга континентах. Как не ликовать тщеславному отцовскому сердцу! Тем паче, что, как утверждал Генрих Гейне, «писатель без тщеславия обречен». Впрочем, гордость за самых родных и близких, быть может, вовсе и не тщеславие, а одно из естественных проявлений любви.
Была ли наша с Татьяной, почти уже тридцатилетняя, совместная жизнь идиллией? Идиллия — это, думается мне, аналог самообмана. Да и способно ли вообще быть безоблачно-идилличным общение с масштабной личностью? Это я о Татьяне... «Талант — отклонение от нормы», — писал философ. Вероятно, масштабная личность — отклонение еще большее, потому что являть собой подобную личность — значит являть талант, помноженный на характер и свое — совершенно индивидуальное! — восприятие мира.
Утопически бестелесной идиллией наша с Татьяной совместная жизнь быть не могла. Но Счастьем она для меня стала. И быть продолжает... И будет всегда. Не потому ль я так часто, мысленно обращаясь к жене, повторяю строки самой любимой своей романсовой песни:
Ты у меня одна заветная,
Другой не будет никогда...
* * *
Хотя лицом внучка Анисия — повторение мамы и бабушки, на самом же деле она не их повторение, а их продолжение. Унаследовала неукротимую энергию, дворянское ощущение своего достоинства, разнообразные способности. А добавила «уморительное» чувство юмора. Об этом я рассказал в повести «Смешилка» — будто бы легкомысленной по названию, но, если не заблуждаюсь, весьма серьезной по существу. Юмор во-
298
обще бывает кратчайшим расстоянием между нешуточными проблемами и сознанием человека. Особенно юного!
Повесть можно воспринимать как мое единоличное литературное «владение», но это будет не вполне справедливо: черты внучки стали прототипами многих — не всех, разумеется, — черт главной героини. Повествование и ведется словно бы «с голоса» Анисии, хотя это словно бы страницы ее дневника. В нем — ее (подслушанные и подсмотренные мною!) размышления, психологические и даже философские наблюдения за взаимоотношениями людей: юных и взрослых. Словом, первая глава повести «Смешилка» по праву, представляется мне, включена в книгу: сюжет вымышлен — другая история, другие родители! — но характер, даровитость и своеобразие внучки присутствуют на каждой странице. Они и есть самая суть «Смешилки»...
«СМЕШИЛКА»
Из дневника девчонки
Все люди очень смешные. Они похожи друг на друга. И совсем непохожи. Каждый по-своему ходит, и по-своему спит, и по-своему смеется... И по-своему плачет. Не знаю почему, но мне интересно не чем они похожи, а чем отличаются. Я это хочу запомнить. А чтобы получше запомнить, повторяю всякие непохожие движения, фразы, гримасы, которые почему-то называют «выражением лиц».
— Ты очень точно всех «показываешь». Изображаешь! У тебя есть такая способность. Совершенно особая! — сказала мне мама. — Но, к сожалению, ты подмечаешь только смешные стороны...
— А что же мне подмечать скучные?
— Получается, что ты людей передразниваешь. Даже взрослых!
— Я не передразниваю... Я их запоминаю.
— Взрослые этого не поймут!
— Пусть поймут только дети.
— Ну, если взрослые не поймут, то уж дети подавно! Мама убеждена, что взрослые все понимают лучше. Я в этом совсем не уверена.
Когда она слишком уж упрямо со мною не соглашается, я восклицаю: «Устами младенца глаголет истина!» Ни одна пословица и ни одна поговорка не утверждает, что истина «глаголет устами взрослых...»
299
Однажды мама обратилась к моей «особой способности с особой семейной просьбой». Так именно она выразилась.
Ко мне, как и ко всем на свете, с просьбами обращались не раз. Люди, я заметила, предпочитают что-нибудь попросить, чем что-нибудь предложить или выполнить. Но та просьба была не похожа на остальные. А все непохожее не входит, а прямо-таки вламывается ко мне в память. И уходить оттуда не собирается.
— Завтра будет решаться судьба нашего папы! — издалека начала мама. Она любит подбираться к своим заданиям и просьбам издалека.
— Где будет решаться?
— Прямо здесь, у нас дома... К нам в гости пожалует директор банка, в котором папа работает. Вместе с женой. Кстати, она предпочитает называть его не директором, а «главой» банка. Учти!
Обычно гости к нам «приходили», а эти обещали «пожаловать».
— Если мы им... — продолжала мама. — Если мы им — особенно жене! — придемся по вкусу...
— По вкусу? Они собираются нас пробовать?
— Ты уже насмехаешься! А дело о-очень серьезное! Когда мама какую-нибудь букву (чаще всего гласную) тянет, словно не желая с ней расставаться, все мы обязаны напрячься, насторожиться. Я напряглась.
— Так вот... Если мы им понравимся, папа получит высокую должность. Стало быть, и зарплату... — Про зарплату она прошептала. — А чем лучше папе, тем лучше и нам! — Об этом я догадывалась. — Слушай внима-ательно! Я их накормлю...
— Питаться они все все-таки будут продуктами? — с облегчением спросила я.
— Умоляю тебя: перестань... И послушай меня хоть раз в жизни! — Мама часто просит, чтобы я «хоть раз в жизни» сделала то, что я делаю каждый день. — Обед, конечно, обедом... Но этого мало.
— Смотря какой будет обед!
— С тобой невозможно общаться. Ну, не перебива-ай! Они, как мне донесли, любят развлечься. Артистов мы приглашать не можем: это дорого. Да и зачем? Если у нас в семье есть своя актриса.
— Это кто?
— Это ты... Развлеки их! Кого-нибудь «изобрази»... Пусть посмеются. В твоем репертуаре так много разных человеческих
300
типов! Характеров... Только не изображай, пожалуйста, меня, папу и бабушку.
Когда был жив дедушка, она просила и его не трогать. Я не трогала. Но его это, к сожалению, не спасло. Люди всегда предпочитают, чтобы смеялись над кем-то другим.
— А ты нас вообще-то изображаешь? — словно по секрету и с некоторым страхом поинтересовалась мама.
— Нет, — без всякого страха соврала я.
На самом деле я своих близких изображала. Но когда они были далеко или, точней, когда их не было дома. И вообще никого вокруг не было. Изображала просто так, для себя самой. Чтобы навсегда запомнить нашу семью...
— Значит, тебя и папу с бабушкой «показывать» я не буду. А всех остальных можно?
— Остальных? Пожалуйста!
Хозяйкой хозяина банка оказалась его жена. Она все время давала хозяину поручения:
— Пойди посмотри: не прошел ли дождь?
— Иду, я уже иду...
— К окну, а не на улицу. О, как я от него устала!
Минут через десять:
— Принеси-ка мне телепрограмму!
— Несу, я уже несу...
— Мне нужна программа на эту неделю, а не на прошлую...
О, как я от него устала!
Еще минут через пять:
— Налей мне воды!
— Наливаю, уже наливаю...
— Я просила воды, а не пива... О, как я от него устала!
«Он бегает, приносит, протягивает, наливает, а она... устала. Хоть сидит на одном месте!» — недоумевала я. И слегка даже возмущалась. Мне стало жалко «главу» папиного банка: как же он, бедный (хоть и богатый!), устал, если она без конца от него уставала?
Папа тоже пытался выполнять ее непрерывные указания, но за своим боссом не поспевал. Я сочувствовала папе еще сильнее, чем его боссу: в конце концов, тот сам выбрал себе жену!
Обед мама приготовила на таком уровне, что я подумала: если на подобном уровне будет и новая папина зарплата, все проблемы в нашем доме исчезнут!
На десерт же был подан торт с властным названием «Наполеон» (как говорит бабушка). Он по-бонапартистски захватил половину стола. Бабушка, не щадя своих глаз, постоянно чита-
301
ет, и поэтому очень образно мыслит. «Все фантазии твои — от нее!» — уверяет мама.
Мама не против фантазий — она за мою безопасность... которой фантазии угрожают. «Какой зеленый воздух!» — помню, сказала бабушка, когда мы ехали по лесной дороге. «Воздух не имеет цвета, — поправила ее мама, глядя в мою сторону. — И не вздумай сказать что-нибудь подобное в школе!» Она охраняет меня даже от образного мышления.
Торт являл собой коронное бабушкино блюдо, которым короновали наиболее дорогих и нужных гостей.
А еще был подан и мой концерт. «Концерт — на десерт!» — в рифму сказала бабушка. Она, между прочим, и стихи сочиняет.
Ради новой папиной должности я показывала всех подряд: полицейского, садовника, мэра, супругу президента страны (тут жена «главы» банка стала мне хлопать, — и я догадалась, что она не любит жен тех «глав», которые главнее ее супруга).
— Ты слишком быстро обо всем догадываешься, — предупредила меня как-то мама. — Чересчур догадливых опасаются. Ты учти...
Как я могу это учесть? Нарочно не догадываться о том, о чем я догадываюсь? Маме очень хочется, чтобы я во имя безопасности и своего благоденствия все на свете «учла». Заранее все учесть... Хорошо бы, конечно! Но разве это возможно?
Катаясь от хохота, супруга папиного начальника вскрикивала:
— Я умираю! Я умираю...
От мужа она всего только «уставала», а от меня — умирала.
«Если она вдруг скончается по моей вине, папа не получит высокой должности!» — догадалась я. Но остановиться уже не могла.
Сам «глава» смотрел на жену с испугом, точно молил ее не покидать землю.
— Смотрите, он разучился смеяться! — еле протолкнулась она сквозь собственный хохот. — Не реагирует... О, как я от него устала!
«С такой женой разучишься не только смеяться, но и улыбаться... Останется только рыдать!» — подумала я. И все же испытывала к ней некоторую благодарность: артисты всегда благодарны тем, кто на них реагирует. И хохочет на их представлении... Или плачет. А тех, кто не плачет и не смеется, они, мне кажется, должны ненавидеть.
302
— Ты очень помогла папе... И всем нам, — благодарно произнесла мама на ночь, прощаясь со мной до утра. И поцеловала меня так нежно, как никогда прежде. И бабушка поцеловала, шепнув мне в ухо: «Если б не ты, я померла бы с тоски. Но лучше уж скончаться от смеха!» И даже папа, который, всю жизнь окруженный цифрами в банке, был строг, как биржевой справочник, тоже меня погладил. Будто собаку, проявившую верность...
Школьных перемен мои приятели и даже завистливые приятельницы ждали, как ждут спектаклей, если заранее знали, что я буду «изображать».
— Покажи нам что-нибудь! — попросил меня старшеклассник, мнением которого я дорожила больше, чем мнением всех остальных вместе взятых. Он иногда спускался к нам сверху. Но не ради меня, к сожалению, а ради моих спектаклей.
Я принялась изображать банковского начальника и его жену.
— Я уже иду... Я уже несу! Я уже наливаю... — с торопливой услужливостью произносила я, как бы от лица хозяина банка.
— О, как я от него устала! — восклицала я от лица хозяйки хозяина.
Школьный коридор сотрясался. Предстоящий урок, как я догадывалась, был сорван. А старшеклассник, отхохотавшись, пожал мне руку как старший товарищ и сказал, что «видит во мне будущую актрису». Будущей женщины он во мне разглядеть не сумел. Хоть она на самом деле была. Я, по крайней мере, ее в себе ощущала... При его появлении.
Ты погубила папину карьеру... и судьбу всего нашего дома! — из темноты проговорил мамин голос. Она вошла в мою комнату истеричными шагами. Мама даже не зажгла лампу над моей постелью, потому что лишь полный мрак мог соответствовать, как я догадывалась, будущему нашей семьи. Но при чем здесь была я?
— Ты высмеяла сегодня наших вчерашних гостей! На всю школу...
— Но ведь они в нашей школе не учатся!
— Там учится и х дочь... Она на один класс старше тебя.
— Значит, слава Богу, и на один этаж выше.
— Но случайно оказалась на твоем этаже! Где ты разыгрывала эту комедию. В коридоре! Она услышала, увидела...
303
— И узнала своих родителей?
Я негромко, но с удовольствием захихикала.
— Чему ты там радуешься под одеялом? Их дочь убежала с занятий, чтобы поскорей сообщить маме и папе!
— Что же она к ним так плохо относится? Совсем не жалеет!
— Она жалеет своих родителей! В отличие от тебя... Прибежала домой вся в слезах!
— Может, в слезах от смеха? Другие тоже утирались. Хоть и не знали, кого именно я «показываю». Этого я никому не сказала.
— Какое благородство! Но девочка захлебывалась от рыданий... Теперь наша очередь плакать! С папиной карьерой в этом банке покончено.
— В городе много банков! Как я догадываюсь...
— Опять ты «догадываешься»? Директора станут бояться нашего дома. Потому что в нем живешь ты. Кому захочется скрывать от тебя своих жен? И себя самих?
— Но ведь не все жены издеваются над своими мужьями. Вот ты, например... — попробовала я подлизаться к маме.
Ничего, однако, не получилось.
— Ах, ты, значит, задумала указывать взрослым, на ком им жениться? И за кого выходить замуж? Решила их воспитывать?
— Воспитывать их уже поздно.
Мой голос из-под одеяла мама не расслышала.
— Ты, стало быть, вознамерилась тыкать старших носом в их странности... которые есть у всех? «Я странен? А не странен кто ж?» Это сказал великий русский поэт Грибоедов устами своего героя.
Мама процитировала поэта так, словно он был каким-нибудь политиком или вождем, мысли которого должны становиться законом. На самом же деле она вспомнила эти слова, потому что их часто вслух вспоминает бабушка.
— Одни странности не приносят вреда, а другие... — погромче промолвила я из-под одеяла.
— Твоя странность уже принесла не вред, а беду! Мамин голос во тьме появлялся как бы самостоятельно, без ее непосредственного участия. А иногда даже вовсе не напоминал мамин голос.
Но я все же спряталась под одеяло целиком, с головой. И оттуда произнесла:
— Пойми... Я не хочу, чтобы папа зависел от той женщины. Которая очень от всех устала.
304
— Почему?
Мамин голос как-то осел... или присел от раздумья.
— Потому что я люблю папу.
Мама удивленно замолкла. Наверно, предполагала, что папу любит только она одна.
Вскоре меня вызвала к себе директриса нашей школы. Об этом мне сообщила ее секретарша. А сама директриса, встретив меня в своем кабинете, привстала, указала на кресло и произнесла: «Я тебя пригласила...» Между «вызвала» и «пригласила», мне кажется, есть разница.
Я люблю не только догадываться, но и поразмышлять. Маму это пока не тревожит. Хотя мои догадки как раз и появляются в результате моих размышлений. Но об этом тоже следует догадаться.
То, что директриса меня к себе пригласила, было большим событием. Обычно она приглашала не нас, школьников, а наших родителей, чтобы о нас с ними поговорить. Правда, она почти никогда не жаловалась на нас, а обсуждала с мамами и папами «проблемы нашего воспитания». Чаще с папами, так как считала, что нам прежде всего необходимо мужское воспитание. То есть мужественное! Это она объясняла «жестокостью двадцатого века», «необходимостью битвы за выживание» и даже «наступлением терроризма». Пап она, я догадывалась, предпочитала еще и потому, что никогда не была замужем.
Предпочитая пап, директриса за собой очень следила. И платья ее, и костюмы, и кофточки, и тщательно, словно клумба, садовником выложенная прическа, и даже очки в перламутровой, полупрозрачной оправе — все это казалось только что купленным в магазине.
Однажды, я слышала, директриса объяснила свою безукоризненную прибранность тем, что обязана быть образцом и примером. Конечно, для нас, учеников, а не вообще для всех на земле. Лишь одно в качестве образца не присутствовало: женская красота, так как ее нельзя было купить в магазине.
Зачем она меня вызвала? Мама была бы довольна: я не смогла догадаться.
— Я тебя пригласила, чтобы ты помогла мне сплотить учеников, учителей и родителей!
— Я?!
— Твой талант.
«Сплотить» похоже на «сколотить»... Сколачивать нас, как доски, с родителями и учителями?
305
Директриса была очень восторженной и почти всех обожала. А еще она все и всех хотела «постичь».
— Тебя прозвали Смешилкой. Это — милое, доброе прозвище. И я очень хочу постичь твой юмор.
Смотрела же она так пристально, будто вообще всю меня постигала, просвечивала, как чемодан на таможне. И сразу перешла к своим обожаниям:
— Ты знаешь, что я больше всего обожаю таланты! Ничто не сближает так, как искусство. А я хочу всех духовно объединить! Тебе известно, как я обожаю ваших родителей, наших учителей и всех детей, которых они, не жалея сил, растят и воспитывают! — Своих детей у нее, к сожалению, не было. — Каждый месяц будем устраивать «сплачивающие концерты!».
Директриса все время что-то изобретала: дома ее никто не ждал — и торопиться ей было некуда.
— Ты выступишь в заключение... Потому что после тебя, мне сказали, выступать уже невозможно. Создай хорошее настроение. Ты знаешь, как я люблю дарить людям праздники! И как вообще я люблю людей...
Она очень любила, чтобы все знали, как она их любит. Хотя, я догадывалась, любовь лучше проявлять, чем о ней объявлять.
«Как можно любить всё больше всего? И всех больше всех?» — попробовала я немного поразмышлять. Но она прервала мои размышления:
— Постарайся максимально всех рассмешить! Я знаю, ты очень потешно показываешь старушек и полицейского, который на перекрестке. Изобрази кого хочешь! Только старушек не надо... Скажут, что наши ученики не уважают старость! — Директриса перешла на доверительный тон: — Вот свою бабушку, ты бы ведь...
— Она моложе всех у нас в доме!
— Если молодость побеждает возраст, это прекрасно. Но она же не всегда побеждает. Поэтому про старушек не надо... И не показывай полицейского. Он нас охраняет!
— Но он сам однажды смеялся, когда я его...
— Потому что ты, наверное, показывала его... ему самому. А не целому залу! — перебила она. — И тем более не показывай мэра. Говорят, что ты и его... — Она огляделась по сторонам. — А он как раз будет нашим гостем. И если услышит... Ты ведь хочешь, чтобы в школе был сделан ремонт? И чтобы школа наша присутствовала в городском бюджете?
Я о бюджете как-то не размышляла, но ответила, что хочу:
306
наверное, с бюджетом, как и с ремонтом, всегда лучше, чем без них.
— Ну, вот... Я обожаю сообразительность!
— Но ведь каждый чем-то распоряжается или что-то решает. Тогда, значит, показывать вообще никого нельзя? — осмелилась предположить я.
— Почему? Всех остальных можно. Иностранных туристов, к примеру. Или вот — знаменитых гастролеров из-за границы...
— Я их ни разу не видела.
— В общем, поищи в своем багаже. Я слышала, он у тебя — богатый!
Мама говорила про репертуар, а она — про багаж. Но из своего багажа я могла случайно вытащить что-нибудь столь же неподходящее, как вытащила из репертуара.
Лишь одну меня встретили аплодисментами... Хотя важнее не как встречают, а как провожают. Об этом я давно догадалась.
Директриса тут же взлетела на сцену, обняла меня и сказала, что больше всего с самого детства она обожает юмор. Вероятно, отсутствие семьи сберегает могучие физические возможности: директрисе было под пятьдесят, а она взлетала, выскакивала, выпархивала. И признавалась, и признавалась...
— До меня дошло, что наша Смешилка владеет редким даром рождать экспромты! — сообщила она со сцены.
Это директриса сказала на всякий случай: чтобы я все же не вздумала изображать мэра, а показала что-нибудь новенькое.
Мэр, восседавший в первом ряду, растекался такой улыбкой, что она могла бы затопить все ряды, включая самый последний.
— Итак, мы с нетерпением ждем комического экспромта! Но того, что произошло, она не ждала. Тем более с нетерпением!
Обращаясь к залу, директриса заверила:
— Комический экспромт родится у нас на глазах! Рожать экспромты вообще очень трудно. А предупреждать, что они будут комическими, то есть смешными, так же опасно, как о появлении красивой женщины: кому-то она покажется красавицей, а кому-то и нет. Чтобы рукоплескания летели не только мне навстречу, но и вдогонку, я придумала показать в качестве комического экспромта... саму директрису.
«Я люблю тебя больше всех на земле!» — призналась я
307
старой люстре. «Обожаю вас больше всего на свете!..» — объяснилась я голым стенам. А потом принялась страстно обнимать занавес и целовать рояль, стоявший на сцене. Потому что тоже их обожала...
Ученики были от моего экспромта в абсолютном восторге. А учителя — в обмороке. Родители же застыли в растерянности. Все, кроме моих собственных... У них были такие лица, будто я, сперва загубив папину судьбу, теперь самолично загубила свою.
Мои приятели и приятельницы не хохотали, а прямо-таки гоготали — язвительно и злорадно.
Злорадство... «Это же злая радость!» — впервые и неожиданно догадалась я. И прежде я подмечала, что детям свойственно иногда осмеивать тех, кто ни в чем, кроме необычности или ущербности своей неповинен. И ни в чем, кроме жалости, не нуждается.
Громкий успех, однако, заглушает все остальное... Школьники орали мне: «Бис!» И старшеклассник, который мне безответно нравился, тоже мной восхищался.
Со сцены я всем признавалась в любви как бы от имени директрисы, а, дойдя взглядом до него, призналась вроде бы от себя. Но он ничего не понял. Неужели все мужчины так непонятливы? Или они непонятливы, когда им незачем понимать? И нечем ответить? Но все же ладош своих и он не жалел. Когда бы еще он обратил на меня такое внимание?!
Это сыграло огромную роль: я решила и дальше рожать экспромты. Случайно, сам собой взор мой наткнулся на химичку... Она, в отличие от директрисы, имела уже третьего мужа. Согласно профессии, она общалась с формулами, а жила, как я догадалась, лирикой и всем тем, что из-за нее происходит. Я догадалась об этом, поскольку химичка не оставляла без внимания ни одного зеркала на своем пути и даже, вглядываясь в стекла шкафов или окон, прихорашивалась. И обязательно восклицала: «Как я ужасно выгляжу! Как я сегодня кошмарно выгляжу!..» И чем лучше выглядела, тем отчаянней восклицала. Все должны были понять, что это ее очарование — еще не предел. И что она, как спортсменка, способна на побитие собственного рекорда.
Неужели собиралась замуж в четвертый раз? Для своих, уже завоеванных, супругов женщины так не стараются.
Химичку и все свои подозрения я тоже изобразила. Среди учеников это вызвало и восторг и некоторое смятение... Смятение в тех рядах, где расположились уже не мальчишки, но еще не мужчины, которыми старшеклассники пытались казать-
308
ся. Обычно такие не смеются, а посмеиваются. И чувства свои запрятывают так далеко, что и сами потом не могут их отыскать. А тут они принялись отыскивать глазами химичку, которая как раз у них и преподавала. Я бы лично направила ее в младшие классы. Но они до химии еще не добрались...
— В молодых учительниц старшеклассники часто влюбляются. И их папы иногда тоже... Хотя это почему-то не нравится мамам, — сказала бабушка, которой я читала некоторые страницы своего дневника. — Об этом даже написано в какой-то книжке.
— Тогда я вычеркну это из дневника, чтобы не повторяться.
— Зачем? Ты вправе повторить то, что привыкла повторять жизнь. Ну, а я, помню, влюбилась в молодого учителя. Мамы на него тоже поглядывали.
В ответ на поиски старшеклассников химичка прихорашивалась перед кругленьким зеркальцем пудреницы. Не знаю, изменяла ли она мужу, но себе самой оставалась верна!
Мой старшеклассник, однако, ее не выискивал. Он в тот вечер полностью принадлежал мне. И это было гораздо дороже аплодисментов всего остального зала!
За кулисы ворвалась директриса. Признаваться мне в любви она, кажется, не собиралась.
— Ты погубила меня и всю нашу школу!
Губить, похоже, становилось моей профессией.
— Но вы же сами просили не «показывать» старушек, полицейского, мэра... И у меня никого, кроме вас, не осталось.
— Где не осталось?
— В репертуаре, как говорит мама. Или в багаже, как сказали вы. А еще вы хотели экспромтов!
— Более подходящих экспромтов ты найти не смогла?
— Некогда было искать. А тут как раз вы с химичкой и... «Подвернулись» — чуть было не сказала я, но вовремя удержалась.
Химичка на сцене не появилась: ну, показала я, как она прихорашивается перед зеркалами и стеклами... Что такого? Хорошенькая женщина и должна прихорашиваться! А нехорошенькой уже ничто не поможет...
Неожиданно вокруг заголосили мои одноклассники. Как известно, нужно появляться в нужное время и в нужном месте. Они же заголосили совсем не в том месте и совсем уж не в тот момент:
— Мы погибаем от смеха! Мы погибаем...
309
Получалось, что я сгубила папу со всей нашей семьей, директрису со всей ее школой и всех своих одноклассников. Не много ли для девочки по прозвищу Смешилка? Такое ласковое, мирное прозвище... И такое количество жертв!
После, уже дома, бабушка процитировала кого-то из знаменитостей: «Искусство требует жертв». Я с облегчением вздохнула.
— Оно требует жертв от актера! — добавила бабушка. И я вздохнула без облегчения.
— Мы погибаем!.. — продолжали жизнерадостно вопить мои однокашники.
По всему было видно, что до окончательной смерти им далеко.
А директриса была так бледна и у нее так дрожали пальцы, что, казалось, она вот-вот скончается в самом буквальном смысле.
Тут, будто по сигналу, все расступились — и ко мне подошел мэр. Все сразу погибать перестали, а он начал так расхваливать мои артистические способности, словно я уже имела право избирать и могла отдать за него свой голос. Или, поскольку выборы приближались, он налаживал контакты не только со своими избирателями, но и с их детьми?
Мэр сказал, что я напомнила ему Чарли Чаплина... С бюджетом и с ремонтом школы все, таким образом, обстояло благополучно. Директриса, немного воспрянув, тоже сказала, что я далеко пойду. Но я и так уже далеко зашла: в результате директрису слушали как-то не всерьез, иронично.
Позже мама сказала, что я «уронила авторитет директрисы».
— А уронив, можно разбить...
Впервые и она попыталась образно мыслить. Такое я произвела на нее впечатление! В отрицательном смысле...
Некоторые мои приятели, глядя на директрису, прикрывали рот ладошкой и очень заметно в нее прыскали. «С жестокой радостью детей» — как-то процитировала моя бабушка. Этими словами великий русский поэт Лермонтов тогда, помнится, меня удивил. Но вдруг я его слова поняла. Директриса вновь побелела, сжалась — и одежда ее уже не казалась только что купленной.
Тут пора, наконец, сказать, что бабушка моя, которая была родом дворянкой, когда-то эмигрировала с родителями из России, где очень почитают литературу. В ту пору она была не только дворянкой, а и девочкой моего возраста. Но без литературы, по ее словам, «не могла дышать». Маму называли вторым поколением древнего дворянского рода (имея в виду
310
живых!). А я, значит, была третьим поколением... Бабушка очень хочет, чтобы и я тоже «без книг задыхалась». И, может, если бы я от них задыхалась в такой степени, как мечтает моя бабушка, директриса в тот вечер... не задыхалась бы от волнения.
Дети, по неопытности своей, бывают жестоки, но они не так предприимчивы, как взрослые, — и с просьбами к мэру не обращались. А родители напирали со всех сторон. И он всем говорил: «Я вам гарантирую... Я гарантирую!»
— Другие мэры все обещают. А он — гарантирует! — мрачно отметил папа.
И еще мэр зачем-то клялся здоровьем своих близких.
— Интересно узнать, как они себя чувствуют, — сказал папа.
Мне мэр как-то чересчур искренно пожал сразу обе руки и не слишком естественно затрясся, задергался, будто припоминая мои «смешилки».
Мне казалось, что он немного заискивает передо мной. И даже меня побаивается...
Когда я спускалась по лестнице, мне представлялось, что это — лестница славы. Прозвище Смешилка было слишком легкомысленным для столь триумфального шествия. Со всех сторон доносилось: «Ну, ты — актриса!», «Ну, ты была лучше всех...».
Внезапно я заметила свет в кабинете, с которого, по правде говоря, и началось мое шествие. Ноги, не спросив меня, неожиданно побрели туда сами собой. Не очень торопясь, но упрямо.
Директриса сидела одна, уронив голову на свой директорский стол. Она плакала. Нет, не от смеха... И беззвучно. Но слезы смазали буквы и даже целую строчку на какой-то служебной бумаге. Она плакала в кабинете, потому что дома ее никто не ждал и пожаловаться там ей было некому. Кабинет, школа, мы, которые над ней потешались, и были всей ее жизнью.
Она направо и налево раздаривала свои обожания... И что ж тут плохого? Разве лучше раздаривать ненависть? Почему же я ее так... Зачем? Ради забавы?
«Люди это любят!», «Люди этого не любят... Учти!» — втолковывала мне мама. Но я-то уже сама догадалась, что больше всего люди любят самих себя. И очень не любят, чтобы об этом догадывались. А директриса больше всего ценила тот дом, где была вместе с нами. За что ж мы ее?
311
Смех и слезы... Известно, что они рядом. Но я не догадывалась, что в такой мере! И что с юмором следует обращаться осмотрительно.
— Извините меня.
Я обняла ее сверху. Она вздрогнула и приподняла голову.
— За что извинять? Всем было весело.
— Нет, не всем.
— Я обожаю, когда люди смеются.
— Но не за счет чужих слез... — вроде бы возразила я. Голова ее снова зарылась в руки.
Постепенно известность моя увеличивалась... в объеме и качестве. В небольшом городе большая популярность особенно видна и даже чересчур выпирает. Солидная газета соседнего, но огромного города напечатала мои фотографии: я показывала химичку, которая заглядывала во все стеклянное — в шкаф, в буфет, в пустую бутылку. И всякий раз улучшала себя, точно перед свиданием. Ее мне не было жалко: нечего кокетничать при живом муже. Надо что-то выбрать, в конце концов: или зеркала или супруга!
На улицах со мной стали здороваться прохожие. Простые люди... Я их не знала, а они меня знали. Это было приятно. И, здороваясь, все непременно то прикрывали рот, чтобы не расхохотаться словно бы ни с того ни с сего, или потихонечку прыскали, или начинали светиться внезапно, как фары. Грусть я не вызывала ни у кого.
«Это замечательно! Жизнь подкинет людям грусть и без посторонней помощи», говорила бабушка.
Все протягивали мне комплименты. Иногда (не так часто!) мне казалось, что это... взятки: чтобы я в благодарность за похвалы не пополняла ими свой репертуар и багаж. Но багаж тем не менее увеличивался... Когда я входила в помещение, где собирались люди не очень простые, все застывали. Они боялись проявлять свои странности — и не проявляли вообще ничего. Как неживые...
— Ты всех запугала! — сообщила мне мама. И я не догадалась: довольна она мною или возмущена. Или полагает, что я должна бояться тех, кого запугала.
Когда же меня пригласили в огромный соседний город на телевидение, они с папой тоже оцепенели. Но от гордости... Они передавали друг другу то приглашение, разводя руками, словно пытались обнять побольше пространства и воздуха. И так же молча задавали друг другу вопрос: неужели это мы, вдвоем, произвели то существо, которое теперь на официаль-
312
ном бланке именуют талантом? На бланке... С печатью и подписью! И передача-то, в которой меня приглашали «принять участие», называлась, между прочим, — «Знакомьтесь, открытие!» Мама и папа открыли меня давно... как дочь и Смешилку. Но открыть как открытие?!
— Никому пока не рассказывай. А то начнут завидовать... раньше времени. Будь скромной! — тут же принялась оборонять меня от других и от меня самой мама.
У бабушки на все случаи жизни имелись примеры и цитаты из бессмертных творений. Она была русской дворянкой — и потому уважала не только русских знаменитостей, но и остальных знаменитостей тоже. Тут она припомнила слова великого немецкого писателя Гёте: «У скромных, я заметил, почти всегда есть основания быть скромными». Бабушка намекнула, что слишком уж скромничать тоже не следует. И сразу, буквально без передышки, ей на память пришли слова зарубежного мудреца Геродота: «И все же я предпочитаю, чтобы мои недруги завидовали мне, чем я моим недругам».
— Но все-таки... никому не рассказывай! — Мама осталась при своем мнении.
Ведущего этой программы я знала, потому что его знали все. Тем более, что во время передач и в перерывах он очень просил зрителей: «Оставайтесь с нами!» То есть не хотел, чтобы они выключали телевизоры или перескакивали на другие программы.
Мне он для начала предложил изобразить что-нибудь «из жизни телевидения». А сам отправился с микрофоном к зрителям, которые были не только вдали от него, возле экранов, но и в студии, будто в концертном зале.
— Оставайтесь с нами! — произнесла я его же слова, но в форме приказа. Он замер на полдороге. И его микрофон показался мне в ту минуту гранатой.
Робко, стараясь быть незамеченной, приподнялась девочка в последнем ряду: небось приспичило в туалет.
Оставайтесь с нами! — прикрикнула я. И она опустилась на стул — с риском для себя и для стула.
Осветитель полез было на лестницу, чтобы поярче меня осветить.
— Оставайтесь с нами!
И он застыл на второй ступеньке.
Так я всех поставила и усадила на место. Всех, кроме смеха, который перемещался по залу как хотел... Громче всех потешался ведущий, чтобы не подумали, что он напрасно меня
313
«открыл». Необоснованный смех всегда чрезмерен, как и необоснованный гнев.
Успех же очень затягивает... С ним не хочется расставаться. На этот раз он затянул меня так глубоко, что я им даже чуть-чуть захлебнулась. Если мне и хотелось вынырнуть из аплодисментов, так только в овацию.
— Покажи что-нибудь из жизни своего города...
Я решила показать мэра, который всем и всё гарантирует... И клянется здоровьем близких, которые, как я показала, в это самое время теряют сознание, корчатся от сердечных приступов и почечных колик. Их, несчастных, увозят в сопровождении врачей и сирен, а мэр клянется их здоровьем, которого уже нет. Здоровьем сестер и братьев, родной тети и двоюродного дяди...
— А почему вы не клянетесь своим здоровьем? — спросила я.
И ответила голосом мэра:
— Потому что чужое здоровье для меня дороже, чем свое собственное!
Зал задергался, как от щекотки. Он не поверил мэру. И, кажется, вообще не поверил, что чужое может быть дороже, чем собственное.
Это было вершиной или, как выразился ведущий, «эпицентром» моего успеха. С эпицентрами, как известно, неразлучны вулканы и землетрясения... Поэтому я догадалась, что ведущий, ожидая от меня извержений, предпочел, чтобы лава затопила кого-то в моем городе, а не в его передаче.
Номер я показала дважды, что вообще-то на телевидении делать не полагается. Но я же была «открытием» и чувствовала потребность открытия совершать! Тем более что многие в студии хватались не только за животы, но и за сердца, как родственники мэра, которых я в то время изображала.
Потом выступали другие таланты, талантливость которых я от волнения не заметила. Потому что внезапно, задним числом, сообразила, что меня видела вся страна. И другие страны тоже могли увидеть... Если бы я об этом подумала раньше, то от страха ничего остроумного у меня бы не получилось: когда внутрь «входит» страх, наружу «выходит» оцепенение. Это бабушка мне давно объяснила. И добавила: «Люди, образно говоря, умирают от смеха, а смех умирает от страха...» Она всегда очень образно мыслила.
Потом дверь осторожно, как бы на цыпочках приоткрылась и в нее, тоже на цыпочках, просунулось мамино лицо... Она поманила меня пальцем.
314
В вестибюле же ко мне не кинулся, а прямо-таки ринулся человек, состоявший в основном как бы из двух шаров: один, поменьше, был головой, а другой, побольше, — туловищем. Я незаметно училась у бабушки образно мыслить. Как известно, легко перенимается все плохое, а я старалась перенимать у бабушки все хорошее. Или хоть что-нибудь...
Оба шара накатились на меня одновременно:
— Я о тебе мечтал!
Это напомнило мне директрису... Но она обожала или, в крайнем случае, любила почти всех. А он, как вскоре выяснилось, мечтал исключительно обо мне. И я ощутила, что гораздо приятнее, когда тебя обожают или мечтают о тебе не в числе других, а, как говорят, «персонально» или «в порядке исключения».
— Приглашаю тебя сниматься в фильме «Смешилка»! Я давно грезил такой картиной. Но был на краю пропасти: не мог отыскать девочку, которая сыграла бы главную роль. А вернее — саму себя... — Он вынул крошечную и тоже, как шарик, пилюльку. Играючи забросил ее себе в рот и, ничем не запив, проглотил. Он все делал как бы играючи. — Теперь я спасен!.. Спасен, потому что увидел тебя на телеэкране и успел домчаться сюда. Домчался до своего заветного фильма!
Он был из тех людей, которые, впадая в азарт, не могут остановиться:
— Не обращайте внимания, что я в трусах... Их можно принять за шорты. Если бы я стал натягивать брюки, я бы к вам не успел! Раньше я хотел дать картине имя «Дразнилка». Это было ошибкой. Заблуждением! Я был на краю пропасти: название — это визитная карточка. Я бы вручил зрителям чужую визитку. Зачем кого-то дразнить? Даже зверей не рекомендуется... А уж людей! Дразнить — это значит раздражать, а раздраженный ничего не в состоянии здраво оценить. — Он взял еще один шарик, вновь закинул его и проглотил, ничем не запив. — Ты спасла меня... Тем, что никого не дразнишь, не издеваешься над людьми. Нельзя врачевать злостью. Ты делаешь это с улыбкой... хоть на лице ее нет. Это и есть искусство! Ты подарила мне образ...
«С улыбкой, но радости это иногда не приносит», — отметила я. Отметила молча, но он услышал или, подобно мне, догадался:
— Я где-то читал, что хорошо должно быть не всем подряд, что хорошо должно быть хорошим. Совершенно согласен! Но все равно... Ты не «дразнилка», ты — Смешилка. Очень точное прозвище! Смехом ты обнажаешь людские сла-
315
бости, дурные привычки... А обнажить — это почти исправить! Прозвище Смешилка я и делаю названием фильма. Давай выпьем по этому поводу!
Он вытащил из пухлых карманов куртки флягу с коньяком и походные рюмочки.
Ох, пардон! — Он обратился к маме, о которой вроде забыл, но которая уже успела при виде фляги вытаращить глаза так, что ничего другого на лице не было видно. — Только что я был на краю пропасти...
Он то и дело находился на краю пропасти, но ни разу туда не свалился.
— Пардон! — продолжал режиссер. — Извините! Но ребенок, да еще женского пола, будет у меня в главной роли впервые... Я часто имею дело с актерами пьющими. Или сильно пьющими... Или запойно пьющими... Так что — пардон.
Верхний шар повернулся ко мне. Все в этом человеке было круглым и мягким — без порогов, без острых и даже тупых углов. Не обо что было споткнуться и ушибиться.
— Теперь ты, сознайся, и меня будешь показывать?
— Что... показывать?
— Ну, как я в трусах предложил тебе «выпить по этому поводу»!
— А вы вообще-то... кем работаете? — наконец, решила выяснить я: мало ли кто имеет отношение к фильмам!
— Кем работаю? Режиссером... Прости, я думал, что всем известен. Кошмарное самомнение! Я на краю пропасти...
Он назвал свою фамилию — и маминым глазам не хватило лица.
— О, как ты проехалась со своей улыбкой по телевидению. — Оба шара завалились на диван и стали по нему перекатываться. Я знала, что хорошие люди навсегда остаются детьми, но не представляла, что можно выглядеть ребенком больше, чем сами дети. — Вспомнил, как ты проехалась... — еле пробился ко мне его голос.
Он вспомнил... Значит, у меня был юмор длительного действия, как бывают лекарства.
— Вы очень смешно смеетесь, — сказала я.
— Смешно смеяться нельзя, — поправила мама. — Получается тавтология. Учти!
Что такое «тавтология», я не знала. Режиссер это понял — и примчался мне на выручку (он привык мчаться!):
— Все можно делать необычно. Даже смеяться... Тот, кто делает всё, как все, неинтересен. Простите меня за нескромность! Но Смешилка это имела в виду.
316
Только бабушка защищала меня от непонимания взрослых. А теперь защитил он. Правда, от мамы... в защите от которой я вряд ли нуждалась.
Мама так заизвинялась, что ее стало жалко. И режиссер опять резко крутанул верхний шар в моем направлении, чтобы переменить тему:
— Твой юмор меня завалил на диван. А мэра он завалил совсем... Окончательно! Он может уже не выдвигать себя. Как только выдвинет, избиратели вспомнят тебя... И конец! Ох, как ты его прокатила! — Он сам опять начал перекатываться вдоль дивана. — И все-таки юмор был добрым! По отношению к избирателям. То есть к простым людям... которых так легко одурачить!
Внезапно режиссер, который был известен всем, кроме меня (что, кстати, его ничуть не обидело), деловито спросил:
— А ты действительно сумеешь изобразить меня? Вот прямо сейчас!
Его знали все, но я догадалась, что как-то иначе, чем ведущего телепрограммы. «Он — не популярный, он — прославленный! — разъяснила мне позже бабушка. — А это — не одно и то же».
«Учти!» — добавила бы мама. Но бабушка не добавила.
— Так что же? Изобразишь?
Все хотели, чтоб я изображала других, а он — чтобы его самого.
Я увидела умоляющий мамин взгляд. Она надеялась на меня. Говорят, любовь к матери творит чудеса... Чаще, конечно, это делает любовь самой матери. Что-то я очень часто употребляю слово «любовь». Не подражаю ли я директрисе? Нет, мне самой теперь кажется, что это — самое главное слово...
Я подтрунивала над мамой, но не догадывалась, а знала: все ее странности возникают оттого, что она боится за меня и за наш дом. Все время чего-то страшится... Любила я маму не за ее любовь, не «в ответ» («в ответ» любить, кажется мне, нельзя). Просто она была моей мамой. Другой мамы быть не могло... И мне так захотелось выполнить ее просьбу, как вроде никогда еще ничего не хотелось. Сколько моих просьб выполнила она! Можно ли сосчитать?
Я сразу, не очень толком задумавшись и «не догадавшись», созналась с интонацией и ужимками режиссера, что «находилась на краю пропасти, потому что загубила папину карьеру, судьбу своей школы и судьбу всей нашей семьи».
Словно заглянув в ту жуткую бездну, я отпрянула... И
317
вскричала по-режиссерски: «Но мы спасены, потому что я домчалась до своего фильма. Выпьем по этому поводу!» Я схватила таблетку, которой, как и улыбки на лице, у меня не было, по-режиссерски закинула ее в рот и из воображаемой фляги, которой тоже у меня не было, запила то лекарство алкоголем, что врачами делать не рекомендуется.
— Ты воссоздала меня через себя! — отбиваясь от смеха и пробиваясь сквозь него, провозгласил режиссер. — Я окончательно утверждаю тебя на главную роль. Ты станешь богатой!
«И папе не нужна будет новая должность», — подумала я.
Премьера фильма «Смешилка» состоялась не в каком-нибудь огромном городе, выпячивающим себя небоскребами. Небоскребы... «Неточное слово, — как-то сказала бабушка. — Они же не скребут небо, а как бы в него втыкаются. Но и не в небо... а просто ввысь, потому что на небеса можно уйти, только расставшись с жизнью. Одновременно быть на земле и на небе нельзя!»
— Небоскребы есть небоскребы, — заметила мама, так и не овладевшая образным мышлением.
Премьера состоялась в нашем небольшом городке. Режиссер, выступая перед началом, сказал, что я свой город прославила. Его все почитали — и сразу, еще не увидев фильма, ему абсолютно поверили. Зрители почувствовали, что живут в том же, но уже и в совсем другом — знаменитом! — городе: все как-то вытянулись, выпрямились в своих креслах. Режиссер заявил также, что вскоре я «нравственно дисциплинирую» (именно так он сказал!) многие города: быть может, завистники станут чуть-чуть меньше завидовать, сплетники — сплетничать, лгуны — лгать... А полицейские, регулируя уличное движение, не будут изображать из себя балерин, отвлекать водителей — и превращать обыкновенные пробки в непробиваемые.
— И разные другие «движения» — к примеру, движения душ и характеров, — я надеюсь, немного наладятся.
Так говорил режиссер — и мне чудилось, что он вот-вот воскликнет: «Давайте выпьем по этому поводу!»
В фильме обнаружился один недостаток: режиссер не рассчитывал, что зрители будут хохотать непрерывно, без промежутков и, таким образом, станут кое-где заглушать звук. Когда я ему об этом сказала, он ответил:
— Дай Бог всем моим фильмам такие пороки!
318
А после премьеры жители уже прославленного города подняли меня на руки. И понесли...
Меня несли бережно, боясь уронить. Разве можно ронять свою гордость? И славу?!
Неожиданно для самой себя я скрестила руки на груди и замерла. А меня продолжали нести, но уже как бы в мир иной. Я, однако, поспешно ожила, давая понять, что мне — в новом качестве! — неплохо остаться и в прежнем мире.
Сверху я видела лица тех, кто меня так осторожно и торжественно нес среди приветствий и всеобщего ликования, передавая с рук на руки: свою директрису, и учительницу химии, и главу банка, и жену его, которая от него так устала, и полицейского с перекрестка... И даже мэра, которого из-за меня уже не избрали. «Завалили», как предсказывал режиссер. Никто не желал сознаться, что сердится на меня. И все, подобно директрисе, стремились показать, что меня обожают. А если они действительно не сердились и обожали? И мама была... Были и папа, и бабушка, которая единственная в той процессии мне по-девчачьи подмигивала.
Я же сверху стала изображать, как меня несут и как прославляют. И как у всех по-разному вскинуты вверх руки и как по-разному устремлены ко мне лица. Потому что все люди разные.
Где это произошло? В какой стране? И какое у нашего города имя? Что за разница! Люди везде смешные...
«ДЬЯВОЛУ СЛУЖИТЬ ИЛИ ПРОРОКУ...»
Из блокнота
Это стало расхожим анекдотом, но происходило у меня на глазах. Седовласые классики грузинской литературы превратили тем вечером ресторанное возлияние в изысканное излияние откровений и остроумия. Лихой московский стихотворец из гагринского Дома творчества, захмелев от коньяка и престижного общения, стал неуправляемо бряцать посудой, рюмками и соцоптимизмом.
— Ты оптимист? — с аппетитным акцентом и еле уловимым аристократичным пренебрежением спросил один из классиков.
— А как же! В своих стихах я...
— Ты когда-нибудь слышал о поэте Байроне? — перебил классик.
319
— Еще бы! В своих стихах я...
— Знаю, читал. У тебя есть удачные строчки. Но он был гений! Ты вполне недурен собой... Но он был красавец! Ты, кажется, член правления Московской писательской организации... Но он был лорд! Ты, я полагаю, прилично зарабатываешь... Но он был миллионер! И он был пессимист. Так что же ты, дурак, оптимист?
Оптимистом я никогда не слыл. Но и в мрачных жизнененавистниках как будто не числился. В постсталинскую эпоху гонений не ощущал. И о своем «пятом пункте», честно говоря, не задумывался. Я не выбирал друзей по национальному признаку. Среди них, любимых друзей моих, были не только прославленные мастера русской словесности, но и аварец Расул Гамзатов, и кабардинец Кайсын Кулиев, и грузины Ираклий Андроников, Нодар Думбадзе, и калмык Давид Кугультинов, и Всеволод Нестайко из Украины, и Ицхак Мерас из Литвы... Всех, конечно, не перечислишь! И вдруг черносотенцы напомнили мне, кто я есть (об этом рассказано выше). В ответ я написал роман «Сага о Певзнерах» и цикл тель-авивских рассказов.
Нужен ли здесь, в Израиле, русский писатель? Этот вопрос возникает не так уж редко. Ну, во-первых, место физического пребывания художника (в данный момент, в данную пору!) вовсе не полностью определяет ценность и направленность его творчества. Можно служить земле, где родился, находясь и вдали от нее. «Где вы живете?» — спросил я замечательного немецкого поэта, которого прежде никак не мог застать в Берлине. «Мои стихи живут на этой земле. И еще там, где ими интересуются, где их переводят, — ответил поэт. — А о том, где я сам в то или иное время живу, спрашивать так же неделикатно, как спрашивать, с кем я живу».
Да, Декларация прав человека провозглашает: каждый волен отправиться, куда пожелает, вернуться в страну, где обрел жизнь, и снова уехать. А, во-вторых, насчет «ненужности» здесь, на Святой земле, русского писателя... Менее чем за четыре года изданы четыре моих книги. О них писали в газетах, журналах, говорили по радио и телевидению. Не перестаю утверждать: писатель живет ради читателей. И те, ради кого я живу, отвечают взаимностью и в России, и тут: присылают письма, приглашают на литературные встречи, где я общаюсь (подчеркиваю!) не только с израильтянами, но и с гостями из Москвы, Петербурга, Киева... Как те встречи проходят? Весьма не склонная к преувеличениям журналистка Виктория Мунблит пишет об этом так: «Читатели Алексина по-прежнему
320
любят. Их по-прежнему интересуют его книги, а сам факт его присутствия в этой стране каким-то образом легитимирует их собственную тутошнюю жизнь. Русскоязычный читатель в Израиле вообще благодарный: здесь на дворе вечные российские восьмидесятые, когда сенсацией мог стать философский очерк, когда из прессы что-то вырезалось и пряталось в папки и горячо обсуждалось — на тех же кухнях. Читатели Алексина любят: попробуйте пробиться на его встречи с ними, когда нет мест, когда стоят в проходах, висят на люстрах и требуют автографа — истово, задыхаясь и держа за пуговицу испуганного писателя».
Расхвастался? Нескромно такое цитировать? Согласен. И никогда б не посмел, если бы не предположение, что русский писатель здесь «никому не нужен». А нужен ли он, живущий тут, там, где родился? Могу ответить лишь примерами из своей жизни... Не потому, что «своя рубашка ближе к телу», а потому, что факты своей биографии точнее известны. Почти все новеллы тель-авивского цикла, посвященные отнюдь не специфически еврейским проблемам, опубликованы и в Москве. Трогательное внимание проявили ко мне на своих авторитетных страницах «Аргументы и факты», «Московский комсомолец», «Московские новости», журналы «Знамя», «Обозреватель», «Детская литература»... Это для меня бесценно. Потому что я — русский писатель. И буду им до последнего часа. Не обделяют меня вниманием и господа шовинисты. Бог с ними... А впрочем, пусть Бог будет с нами, их презирающими!
В день, когда Таня вынесла сложнейшую операцию на позвоночнике, нам позвонили сорок два друга. «Никому не нужны?»
Как бы продолжая отвечать и на этот вопрос, исписываю новые страницы своего блокнота...
Недавно, совсем недавно он сидел вот здесь, на этом диване... Размышлял о жизни, не сосредоточиваясь на себе. Хотя тяжкое дыхание, словно пробивавшееся сквозь преграду, свидетельствовало о том, что на физическом здоровье своем он был обязан сосредоточиться. Был обязан, но только отмахивался от наших тревог. Быть может, они казались ему чрезмерными, назойливыми. Однако мы с женой вынудили его смириться с мыслью об операции. И непременно на Святой земле. Председатель Федерации писателей государства Израиль Ефрем Баух вскоре начал действовать... Но Юра Левитанский не дождался. «И от судеб защиты нет...» Часто
321
обращался он к этой пушкинской мудрости, не думая, полагаю, что она так поспешно и ему явит свою неотвратимость. А ведь, кажется, позавчера сидел на этом диване... И был обеспокоен судьбою поэзии, интеллигенции и даже судьбою века, всего человечества. Но не было ни в одной его фразе возвышенной нарочитости. «Искусство — это чувство меры», — как-то сказал Пастернак.
Каждый выбирает для себя
женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку
каждый выбирает для себя.
Кажется, строки эти могли бы стать эпиграфом к посмертной книге Юрия Левитанского. Но выбрать такой всеохватывающий эпиграф — если он вообще нужен! — вправе был только сам выдающийся автор стихотворений, собранных в книге «Меж двух небес». То, что выдающийся, — для меня несомненно. «Потерявши плачем...» Однако и точнее осознаем!
На вечере в тель-авивском клубе писателей Юрий Левитанский не «взошел в президиум», а устало преодолевая ступени, поднялся на сцену и сел в последнем, кажется, третьем ряду. Иные несут свою скромность впереди, словно транспарант: «Смотрите, завидуйте: я...» Он ничего не демонстрировал, а всюду и всегда был таким, каким был. Так ведут себя не все — даже выдающиеся! — мастера слова. Случается, они в жизни вовсе не следуют тому, что исповедуют в сочинениях. Главное — это, безусловно, сочинения: именно они приходят к читателям, переживают своих творцов (если те творцы!), пересекают рубежи, а сами мастера общаются прежде всего с членами семьи, со знакомыми и друзьями. Да и вообще «пока не требует поэта к священной жертве Аполлон»... Но если поэт и без требований Аполлона являет собой личность масштабную, это достойно преклонения. Я восхищался Юрием Левитанским. Хотя на том, посвященном ему вечере в клубе писателей старательно избегал велеречивости, пышных прилагательных: не то, чтобы он их продуманно не терпел, но они причиняли ему страдания — не только душевные, но и, казалось, физические. Достоинства, если они подлинные, не нуждаются в словесном, а тем более высокопарном утверждении. Повторюсь: на сцену он поднялся утомленно. Да, он устал. Но все же в один из дней нашел силы приехать к нам с Таней в гости.
Когда мы «перелистывали» давние и недавние годы у нас на кухне (традиционное место самых значительных встреч!),
322
Юра дал понять, что, хоть, по слову другого поэта, «душа обязана трудиться и день и ночь», но столь же непрерывные борения с несправедливостью людской очень трудны: надрывается сердце.
Поздним — и будто позавчерашним! — вечером мы с Юрой вышли на улицу, поймали такси. Обнялись и простились до скорой встречи. Но тоже оказалось, что навсегда...
На том же диване — для самых любимых гостей, для тех, которые «служат пророку»! — тоже не восседал, а по-домашнему с нами обедал Евгений Евтушенко. А потом — спрашивал, отвечал, чуть-чуть, как и Юрий Левитанский, пригнувшись под грузом размышлений и проблем.
По планете шествует, обволакивая земной шар гениальной музыкой, Год Шостаковича. И повсюду звучит, сотрясая души, Тринадцатая симфония на стихи Евгения Евтушенко. Вкус у Дмитрия Дмитриевича, естественно, был безупречный — он мог соединить свое искусство только с поэзией подлинной.
...Многие — ох, многие! — воспринимают чужой успех, как большое личное горе (в который раз талдычу об этом!). Гельвеций был убежден, что из всех человеческих страстей зависть есть страсть самая низкая: «под ее знаменем шествуют коварство, предательство и интриги». Зависть — пусть на время, не навсегда! — перекрывала дорогу открытиям, опережавшим века, освистывала бессмертные творения, доводила до отчаяния, а то и укладывала в могилу гениев... И она же, возбуждая осатанелостью своей непримиримый протест, лишь укрепляла — как ни поразительно! — ненавидимые ею пьедесталы.
Нет, я ни в коем случае не считаю, что произведениям Евтушенко все обязаны рукоплескать: они могут лечь на душу, а могут — вовсе не лечь (даже, допустим, Иосифу Бродскому!). Ну и что? Вспомним неприятие Гончаровым Тургенева... Не признать, однако, Евтушенко непреходящим явлением, мне кажется, тоже нельзя. Хоть любое явление каждый волен оценивать и толковать по-своему. Великий критик говорил: «Писатель, который всем нравится, вызывает у меня подозрение».
...В жизни Евгения Евтушенко был период, который (поначалу!) весьма напоминал самый отчаянный период жизни Пастернака. Опубликованная во Франции «Автобиография» вызвала почти такой же девятый (если не десятый!) вал властного негодования, как и «Доктор Живаго». Помню стройного, внешне уже немного иссушенного нервными пере-
323
напряжениями Евтушенко, стоявшего на трибуне Центрального Дома литераторов... «Родину надо любить, Евгений Александрович!..» — полуразвалившись в кресле, давал поэту поучительные советы из президиума Александр Корнейчук, всегда путавший верноподданность с верностью Отечеству. А у меня уже тогда не возникало сомнений, что, родись Женя раньше, он был бы на передовой линии фронтовых битв с фашизмом, Корнейчук же — на «передовой» пропагандистских восклицаний или в арьергарде генеральских штабов. Я уже знал, как достойно вел себя поэт в схватке с «сопливым неофашизмом» (сопливым по своей «идейной» сути и своим возможностям, но все же весьма опасным и агрессивным). Случилось это в Скандинавии... «Сопливый фашизм» — так и назвал поэт свое стихотворение, которое для антифашистов прозвучало предупредительным гласом.
Итак, Корнейчук поучал, а сотни завистников параноидально-бешеными аплодисментами, даже вскочив со своих мест, пытались в тот день «прихлопнуть» талант, казавшийся в зале беззащитно одиноким. Выдающийся дар «выдается» из общего ряда — и потому одинок... Тем более что читателей на той идеологической «проработке» не было, а были, главным образом, неудачливые коллеги. И вдруг талант безоглядно пошел в контратаку. Один на один... Но он был один в буквальном смысле, а зал — в переносном. На барские поучения «от имени и по поручению трудящихся» (о чем последние, разумеется, и не ведали!), на остервенение буйно прорвавшейся зависти Евтушенко ответил... стихами. Они были его единственным оружием. В мирных ситуациях он, мне кажется, не считал возможным приравнивать перо «к штыку». Тогда же только стихи способны были опровергнуть и отвратить. И потому он буквально пронзил «штыком» зал. Продолжая бессильно рычать, огрызаться, зависть, выдававшая себя за патриотизм и ортодоксальность, поджала хвост.
Конечно, «Автобиография» — не роман... Поэтому никто все же не орал в лицо творцу: «Вон из страны!», не сравнивал его со свиньей в пользу свиньи, как это происходило с Пастернаком. Но бунт непризнанных, спровоцированный тоталитарными идеологами, был подобен расправе, учиненной над лауреатом Нобелевской премии.
Почему я пишу о личности Евгения Евтушенко, о его человеческих мытарствах, столь, к несчастью, традиционных для «властителей дум», о его противостоянии серости подробнее, чем о самой поэзии? Поэзия его в представлении не нуждается.
324
...Много бесценных для меня и Тани автографов — на обороте обложек и на титульных листах подаренных нам книг. Но этот автограф — из самых приятных: «Дорогому Толе Алексину, поддерживавшему меня с ранней юности... Евгений Евтушенко». Один из героев давней моей повести, нахлебавшись людской неблагодарности, говорит: «Мне не надо благодарности, но и неблагодарности мне тоже не надо...» Не надо благодарности... Но если она все же звучит, в ответ порой наворачиваются слезы. Значит, не так уж «не надо...» Некоторые почему-то раздражены тем, что, как они считают, владыки обращались с Евтушенко недостаточно жестко. Им, «некоторым», хотелось бы, чтоб и сам поэт вообще никак и ни при каких обстоятельствах не контактировал с властью. Но как бы он тогда защищал (в государственном масштабе!) поэзию, как бы сражался с цензурной дикостью, с официальным шовинизмом, который в те годы разъедал мораль общества?! И как бы могли быть опубликованы газетами «Бабий яр», «Наследники Сталина», да и многие другие стихи, принадлежащие его перу и его смелости? Общение писателя с властью и даже вторжение во властные сферы (лишенное лизоблюдства!) иногда весьма благотворны для литературы и ее создателей. Если только «вторгаются» те, которые, благодаря авторитету своему, способны прогрессивно на власть влиять. Позже я еще раз позволю себе высказаться на эту тему...
Евтушенко сделался «представителем власти» лишь однажды: был избран в горбачевский Верховный Совет. Избиратели (знаю это от харьковчан!) с нежностью вспоминают о своем депутате и с печалью о том, что депутатство его было недолгим. «Наш депутат — Евтушенко!» Звучит? Можно даже похвастаться? Можно. Как бы это ни распаляло господ неудачников... Они, раздраженные, не желают признать и никогда не признают очевидную истину: Евгений Евтушенко наступательно дискутирует с «сильными мира сего», заставляя их порой менять заскорузлые точки зрения; он собирал на встречи с читателями гигантские залы и стадионы не как эстрадник, а как служитель поэзии и исключительно с ее помощью; вот уже десятилетия известен он каждому читающему человеку в России и очень многим за ее границами — да, все это по одной-единственной причине: он большой поэт и большая личность. В 1968 году Евгений Евтушенко выступил против вторжения советских танков в Чехословакию и превращения «Пражской весны» в лютую политическую непогоду. И даже послал телеграмму протеста Брежневу. Комментарии к этому мужественному поступку поэта и гражда-
325
нина не требуются... Сколько таких поступков, обходящихся без комментариев ?!
А разве не подвижничество — антология «Строфы века»? Любить в литературе не только себя, но и всех тех коллег, кои заслуживают почитания и любви, — это ли не драгоценное качество? И разве не такое же редкое, как всякая драгоценность? «Поэт в России — больше, чем поэт», — эти слова Евтушенко порой подвергаются насмешкам: «А тусовки в России — больше, чем тусовки?», «А метро в России — больше, чем метро?» Нет, они — не больше... А поэт — больше! Жизнь и судьба Евгения Евтушенко это доказывают.
...Звучит Тринадцатая симфония Шостаковича на стихи Евгения Евтушенко. Гений выбрал себе в соавторы именно этого поэта!
Красный диван... «Красное» место... Эпитет в данном случае — не от цвета, а от духовной значимости, от красоты («красное» — это значит в русском языке и самое красивое, самое главное: «красно солнышко», «красный угол» в избе, «красна девица»...). Так вот, на этом главном месте мы с женой видели совсем недавно и Аркадия Вайнера с Соней. А вскоре после того, в Нью-Йорке, мы обнимали Георгия Вайнера, оставшегося, естественно, прекрасным писателем, но ставшим к тому же и прекрасным редактором газеты «Новое русское слово».
Братья Вайнеры... Мысленно — а то и вслух! — не соглашаюсь, когда их называют «детективщиками». Романы «Визит к Минотавру», «Эра милосердия», «Лекарство против страха», «Петля и камень в зеленой траве», «Евангелие от палача», фильм «Место встречи изменить нельзя» — это не детективы, а глубоко психологические произведения с напряженным сюжетом. Когда говорю о братьях Вайнерах, сразу же вспоминаю праздничные дни своей жизни (они искусные мастера застолий!). Но вспоминаю и дни горестные... Потому что именно в те дни они оказывались рядом: проповедовать, призывать «эру милосердия» — это замечательно, но еще замечательней утверждать ее собственными поступками. Что же касается Сони Дарьяловой, жены Аркадия, то она (не упущу случая повторить!) — выдающийся целитель: лечила мою маму, а мне психологически спасла жизнь.
Мамы, отцы... Отношение к родителям — это пробный камень всех человеческих достоинств. Аркадий и Георгий были Сыновьями с заглавной буквы! Я это видел и не могу об этом писать без трепетного уважения...
326
Во всем удивительно неординарны эти братья: водят ли они машину, «ведут» ли хлебосольно и остроумно праздничный стол... Вот и я, хоть жизнь, на мой взгляд, определяется не длиною, а качеством, мысленно провозглашаю тост за долгую их дорогу. И за очень счастливую...
Среди самых желанных гостей в нашей квартире, на «красном диване», были Павел Хомский и его жена Наталья Киндинова. Он — главный режиссер Московского академического театра имени Моссовета, а она — актриса Московского ТЮЗа. Он ставил мои пьесы (к примеру, «Мой брат играет на кларнете» с открытой им и великолепной Лией Ахеджаковой в главной роли), а Наташа играла в моих спектаклях. Семейственности не было... Но именно с понятием «семья» ассоциировались мои и Танины отношения с Хомскими-Киндиновыми. И еще с праздниками (об этом я уж писал): премьеры, цветы, победы на театральных конкурсах и фестивалях.
Благодарю, Наташа и Паша, за спектакли, что всегда выглядели премьерами. Хоть праздник тот не «всегда со мной»...
Когда-то, в дни, кажущиеся уже незапамятными, я предварил своим предисловием первый сборник рассказов и повестей Андрея Яхонтова — писателя в то время начинающего, но и многообещающего. К радости, все обещания его литературного дара были исполнены... Сколько я понаписал предисловий и послесловий к «первым книгам»! И отнюдь не хочу, чтобы авторы их об этом помнили. Но Андрей Яхонтов помнит. И на его «памятливость» я отвечаю своей.
«И эту дуру я любил...» — пьеса Андрея Яхонтова со столь экстравагантным названием блестяще поставлена в Московском театре имени Гоголя. Не случайно, думаю, именно в этом театре: Николай Васильевич «припечатывал» дураков как никто!
Спектакль по пьесе Андрея, можно сказать, триумфально пропутешествовал и по сценам Израиля. А кроме того, здесь, как и в Москве, с большим интересом отнеслись к новой — я бы сказал, оригинальнейшей! — книге Андрея Яхонтова «Учебник для дураков». Не много ли дураков? Но великая и гуманнейшая русская литература никогда дураков вниманием не обделяла: одни писатели их презирают, другие им сочувствуют, а в сказках нередко оказывается, что Иван-дурак вовсе никакой не дурак, а самый что ни на есть умный и благород-
327
ный. Пристальное отношение к «дуракам» вообще традиционно (вспомним фильм Стенли Крамера «Корабль дураков», роман Григория Кановича «Слезы и молитвы дураков»).
Так или иначе на нашем с Татьяной «красном месте» мы имели счастье (не приятность, а счастье!) не раз видеть Андрюшу, с ним разговаривать. И вспоминать, вспоминать...
«Первого марта, вечером, ни о чем не подозревая, мы сидели с писателем Анатолием Алексиным в Тель-Авиве за ресторанным столиком. Алексин рассказывал анекдоты, я смеялся. И Алексин вдруг сказал: «Вам смешно, Петя. Но стены смеха на свете нет. А Стена плача пролегла от Иерусалима по всей земле». Так завершил свое эссе «Последнее интервью», посвященное Владу Листьеву, его друг Петр Спектор — в то время главный редактор московского журнала «Обозреватель», а ныне первый заместитель главного редактора столь популярного в России, да и за ее рубежами, «Московского комсомольца».
«Московский комсомолец»... Там публиковались полвека назад мои литературные опыты, а несколько месяцев назад были напечатаны мой новый рассказ и моя беседа с интервьюером. Ну, а 1 марта 1995 года, в день убийства Влада Листьева, Петр Спектор, одареннейший журналист и редактор, был гостем Израиля. И мы с ним действительно смеялись, шутили, ничего страшного не предвидя. Кто вообще способен предвидеть хитросплетения судеб?
...Дочь наша Алена училась вместе с Владом на факультете журналистики Московского университета. Не раз уж, в связи с трагическим событием, вспоминаю об этом. Влад был на два курса старше, но у них сложились очень добрые отношения. Они даже вместе ездили «на картошку»...
Наш дом открыт для хороших людей!
А тем паче — для семьи Дементьевых! Снова о ней... Недавние встречи опять вернули меня в юность и в «Юность». Глава о журнале уже поведала, сколь щедро одарен Андрей не только поэтическим талантом, но и талантом быть Человеком, быть Другом. «Я живу открыто, как мишень на поле...» Так и живет. Не дай Господь, чтоб в «мишень» эту угодила пуля зависти, сведения счетов. Пусть в ту «мишень» попадут слова и чувства верности и добра. Андрей подарил нам только что изданный в Москве однотомник «Аварийное время любви». Три стихотворения посвящены мне. Не буду скрывать: польщен...
328
До сих пор я в этой главе повествовал о встречах на «красном месте» с теми, что гостями приезжали на Обетованную землю с земли московской. Перейду к рассказу о гражданах Святой земли, общение с которыми для нас свято.
Начну с того, кто первым открыл для нас с Таней эту самую Обетованную землю. То был Эфраим Баух, которого мы именуем менее торжественно и с благодарной нежностью: Ефрем.
Недавно, как я уже писал, Ефрема Бауха представители всех разноязычных писательских «коллективов» — на второй срок и единогласно! — избрали председателем Федерации Союзов писателей государства Израиль. Я горжусь этим не только потому, что истинный мастер русской литературы избран на этот, что уж и говорить, весьма почетный пост, но и потому, что избран заслуженно. Ни один (ни один!) из известных мне литераторов не проник так глубинно в суть культуры, религии и истории этой земли, никто так блестяще не владеет ивритом, как языком разговорным и литературным одновременно. Только обладая всеми этими знаниями и, конечно, самобытнейшим писательским даром, можно было создать романы, составляющие семилогию, благодаря которой, я убежден, поколения будут приобщаться к судьбе израильского народа. Будут восхищаться этим народом, сострадать ему и осознавать великую его правоту.
С того часа, когда мы с женой, по приглашению министерства иностранных дел, в июне 1993 года, впервые приземлились в аэропорту имени Бен-Гуриона, Ефрем Баух начал влюблять нас в Израиль. Как влюблял (и влюбил в него!), знаю, многих и многих, коих опекал так же, как нас.
Без помпезности и восклицаний Ефрем помогает своим коллегам. Он творит это добро изо дня в день и буквально из часа в час...
Идешь... А солнышко печет.
Все вдоль ограды, мимо дома...
А в жилах медленно течет
Кровь униженья и погрома.
Чтобы так воссоздать страдания, как их воссоздал в своих романах, да и стихах Ефрем Баух, надо было — ничего не попишешь! — те страдания испытать самому. Разумеется, можно себе их представить, вообразить... Но, погружаясь в книги Бауха, непрестанно чувствуешь: нет, испытал. Испытал сам!
Александр Межиров, прочитавший романы Бауха, сказал мне в Нью-Йорке: «Теперь я знаю еврейский народ, как не
329
знал его раньше... Романы Ефрема Бауха и его стихи — это литература!» Слово «литература» Межиров произнес медленно, с расстановкой, делая ударение на каждом слоге.
Эфраим Баух неразрывно соединил в себе замечательного писателя с замечательным человеком. Не столь уж банальное сочетание...
Есть писатели, которые неодолимо верны не «теме», конечно, а одной (подчас глобального значения!) сфере жизни. Такой «сферой» стала для Григория Кановича судьба еврейского народа. Иные литераторы (подчеркиваю: иные!), жившие или живущие в бывшем Советском Союзе, создают сейчас «еврейские повести», «еврейские рассказы», будто бы проявляя бесстрашие. Иногда это выглядит конъюнктурой: вроде «запретная зона». Но — «запретная» в прошлом, а ныне та запретность — кажущаяся. И смелость взяться за еврейский сюжет тоже призрачная. Хотя литературные достоинства таких книг бывают отнюдь не призрачными! Словно бы время написания не имеет значения. Но, вновь вернувшись к Твардовскому, скажу: «все же, все же, все же...» Те тоталитарно-шовинистические (хоть и неписаные!) правила и законы, в железном кольце которых творил Григорий Канович, превращали его литературный труд в геройство. «Свечи на ветру», «Козленок за два гроша», «Еврейская ромашка», «Слезы и молитвы дураков»... Я бы не назвал это еврейской литературой, ибо она общечеловечна. Шолом-Алейхем писал о близких ему местечках, Фолкнер — о своем городке, но книги их с одинаковым — и неугасающим! — интересом читают в России, и в Германии, и во Франции, и в Японии... Проза Григория Кановича не знает границ. Хотя, прочитав его романы и увидев его пьесы, многие люди, далекие от иудейских проблем, тоже воспримут их как свои собственные. Или, по крайней мере, как проблемы, которые не будут оставлять в покое их думы, их совесть. В последние годы сцены многих стран мира уверенно завоевала и драматургия Кановича... А прессу завоевала его публицистика.
Григорий Канович живет в Израиле. Но произведения его не имеют стиснутого пространством гражданства — они принадлежат всем, кто постигает жизнь, сообразуясь и с мудростью литературы.
...Звоню Григорию Кановичу в Кфар-Сабу, чтобы сказать, что потрясен его публицистическим словом о бесценности мира и взаимопонимания между людьми, прозвучавшим в радиопере-
330
даче Игоря Мушкатина. Канович осаживает мою пылкость: «Это чересчур, это слишком...» А я настаиваю на своем.
Вот передо мной два номера столь почитаемого московского журнала «Октябрь». Там — новый роман Кановича. Радуюсь, когда мои коллеги публикуются и в Москве!
И снова автограф на подаренной книге... «Татьяне Евсеевне — милой и вечно молодой и Анатолию Георгиевичу, под влиянием прозы которого я выросла и «сформировалась». С любовью и благодарностью! Дина Рубина». Диночка, родная, прости, что не удержался — и процитировал.
...Горжусь этими строками, потому что они принадлежат перу писательницы воистину прекрасной. Конечно, она сформировалась «под влиянием» своим собственным. И потому — именно потому! — не считает для себя унизительным приметить и запомнить еще чью-то роль в своей творческой дороге. «Писатель должен быть известным... Такая профессия!» — утверждал классик. Дина любима читателями!
Лев Толстой считал, что самое главное в литературе — это искусство воссоздания человеческих характеров, ибо только через характеры могут быть воссозданы Время, Эпоха. Манекены ничего воссоздать не в состоянии... Высшими художественными «достижениями» стали образы нарицательные. «Смотрите, живой Хлестаков!», «Это же настоящий Обломов!», «Она — просто копия Наташи Ростовой!» — говорим мы о реально существующих людях.
Читая книги Дины Рубиной, я встречаюсь с живыми людьми, которых, кажется, узнаю, если встречу на улице. С характерами, кои способны стать нарицательными.
Мой первый редактор Константин Паустовский, да и Маршак тоже, не уставали повторять, что писатель без индивидуального стиля, без своей (неповторимой!) интонации — это не писатель. Право, я могу по одному абзацу определить: это Дина Рубина или тот, кто ей подражает.
Один из знаменитых мастеров слова сказал, что «людей, лишенных чувства юмора, следует уничтожать при рождении», но добавил: «это невозможно, поскольку вся прекрасная половина человечества к юмору не тяготеет». Как же он заблуждался! Дина Рубина и юмором обладает своим. Я видел, как она в переполненных залах читала рассказы, главы из повестей и романов, а залы то сотрясались от хохота, то согревались доброжелательным смехом, то становились колючими от сарказма.
Нелегко пройти испытание толстыми по объему и масштаб-
331
ными по сути московскими журналами «Новый мир», «Юность», «Дружба народов» или в элитарном «Искусстве кино»... Все, что Дина Рубина создала в Советском Союзе, в России и здесь, прежде чем войти в книги, сперва обретало жизнь на страницах тех самых — столь почитаемых! — журналов.
Читаю интервью с Игорем Губерманом, которого Булат Окуджава назвал «автором, хорошо известным своими превосходными краткостишиями (гариками), своим уменьем посмеяться над окружающими нас несовершенствами и нелепостями», но умением и в прозе «выразить себя, излить душу». Вот уж кто доказал, что краткость не просто «сестра таланта», а его родная сестра. В четырех строках становятся неразрывными феерическая афористичность и глубокая мысль, лишенная глубокомыслия. Восторженность, как всякая чрезмерность, антиподна этому поэту и прозаику. Однако в высказываниях о Дине Рубиной — письменных и устных — он отклоняется от своей сдержанности: благодарность звучит благодарностью, а восхищение — восхищением. Даже Губерман оценивает ее «без шуток».
Последний роман Дины Рубиной называется «Вот идет Мессия...». В нем философская проникновенность неотъединима от юмора, сатиры. Языком разных жанров можно служить пророку, перекрывая дорогу самозванцам — псевдопророкам. Был бы этот язык ярко самобытен, как у Дины Рубиной...
Мне было лет двенадцать или тринадцать, но я уже сознавал, что оказался рядом с очень красивой женщиной (это я понял сразу!) и очень красивым мужчиной (это я сообразил позже!). Он был поэтом Перецем Маркишем, а она — его супругой Эстер. Так уж получилось, совпало, что по соседству с моим скромным домом расположился первый кооперативный писательский корпус — и учился я в школе вместе с детьми известностей. В одной из квартир того дома я и увидел чету красавцев. А после, через полвека...
В мае 1989 года Эстер Маркиш написала в предисловии к своей книге «Столь долгое возвращение»: «С того времени, как эта книжка вышла впервые — по-французски — прошло пятнадцать лет. Немало воды утекло с тех пор — мутной и кровавой, соленой и пресной — но никак не прозрачной и не сладкой. Многое изменилось в мире — и в Советском Союзе, откуда я уехала, и в Израиле, куда я вернулась. Но вряд ли человек или, если угодно, Человек стал за эти годы лучше, совестливей и добрей. Поэтому те страшные времена, которые я
332
описала в этой книге, хоть и ушли в историю, но не окаменели, не омертвели...»
В страдальческой памяти переживших дьявольскую эпоху, когда многим, «служившим дьяволу», казалось, что они «служат пророку», — те времена не омертвеют никогда. Не забудем и мы, пережившие ужасы сталинизма уже в мальчишеском возрасте. Доказательство тому — пронзительно достоверный роман Давида Маркиша «Присказка». Как сын «врага народа» свидетельствую: каждая страница романа — это правда, воплощенная в слове. Кто-кто, а уж писатель, как я утомительно повторяю, обязан обладать «лица не общим выраженьем». У Давида Маркиша — особая ипостась: он — мастер исторического романа, главными действующими лицами которого почти непременно выступают соплеменники автора. «Шуты», «Полюшко-поле»... На многие языки переведены романы «Пес» и «Чисто поле»... Думаю, Перец Маркиш был бы горд тем, какое место занимает на литературном «полюшке-поле» его сын.
«Каневских на переправе не меняют» — так нью-йоркская газета «Новое русское слово» озаглавила свое интервью с Александром Каневским. Подобных личностей не меняют, хоть в советские времена нам внушали, что «незаменимых нет». Братья в самом деле незаменимы: Леонид — на театральной сцене, а Александр — в дефицитнейшем сатирико-юмористическом литературном жанре.
Леонид почти ежедневно — и заслуженно — принимает аплодисменты в свой адрес, а потому сейчас хочу обратить свои аплодисменты главным образом к Александру. Да и так сложилось, что я чаще общаюсь с Сашей.
Давно знал я его блестяще остроумные (острые и умные в равной степени!) повести, рассказы и фельетоны. Но здесь, в Израиле, прочитал и те Сашины произведения, коих раньше не знал. Удовольствие получил большое! Вроде он «подмечает» негативное, а то и драматично неприемлемое для людской жизни, вроде осуждает и обличает, а настроение преподносит оптимистичное. Смех сквозь слезы, сквозь жизнь...
Если вечный двигатель в науке еще не изобретен, то в жизни человеческой на Обетованной земле он существует: это Александр Каневский. Создал сатирический журнал «Балаган», а тот родил сына по имени «Балагаша». Но для энергии Александра этого было недостаточно. Ее вполне хватило и на создание в Тель-Авиве Международного центра юмора. Однако и это не исчерпало возможности той энергии: Александр Ка-
333
невский стал организатором Международных фестивалей смеха, которые «просмеялись» по всему Израилю. Неуемен этот дар. А значит, еще посмеемся «над тем, что кажется смешно», и даже над тем, что кажется грустным... Я всегда рад встречам и телефонным разговорам с Александром Каневским: заряжаюсь оптимизмом.
Рассказывают, что во время одной из встреч со студентами Джон Кеннеди устроил нежданный экзамен: поинтересовался, кто в таком-то году (уж не помню в каком!) был президентом Франции, кто королевствовал в Великобритании, а кто царствовал в России... Студенты принялись напряженно тормошить свою память, но почти ничего точного извлечь из нее не смогли. Тогда Кеннеди спросил, кто в том же году и в тех же государствах олицетворял собою пиршество музыки, литературы, живописи. Чуть ли не все были «в курсе».
— Теперь вам ясно, какая разница между ними и нами, политиками? — так примерно сказал президент. Или даже воскликнул. Хотя и среди политиков есть, разумеется, личности выдающиеся.
Накануне визита Булата Окуджавы в Израиль было объявлено, что на Святую землю прибывает «Его Величество». Это не выглядело преувеличением: я тоже ощущал приезд Окуджавы не гастролями, а уникальным визитом. И не просто российского поэта, а именно — короля поэтов России. Полагаю, что истинное положение Окуджавы в русской культуре привела на Обетованной земле в соответствие с его неофициальным «званием» и Лариса Герштейн. Обычных королей можно без короны не опознать, а королей в науке, культуре, искусстве коронует талант, который утаить невозможно.
На концерте, в перерыве, мы с Таней встретились с Булатом и женой его Олей. Бурно возрадовались... Тоже простились до скорой встречи. И тоже оказалось, что навсегда.
Бывает и так, что большой художник приобщается не только к власти над мыслями и сердцами, а к власти самой что ни на есть буквальной. Однажды Булат Окуджава размечтался, как бы ему стали распахивать объятия начальственные кабинеты, если бы в них воцарились поэты и ближайшие его друзья. Среди них первой он назвал Беллу Ахмадулину. Женщину, красавицу, поэта.
Художник у власти, женщина-художник у власти... Случается, что это к добру. Однако не все — далеко не все! — со мной солидарны. И среди оппонентов — даже гений прошлого. Хрестоматийно известна фраза Людвига ван Бетховена, об-
334
ращенная к Иоганну Вольфгангу Гёте: «Я думал, вы король поэтов, а вы, оказывается, поэт королей». Бетховен не мог быть не прав в музыке, но в воззрениях своих («пока не требует поэта к священной жертве Аполлон»!), как и все смертные, вполне мог ошибаться. Близость великого творца и мыслителя ко двору, его служебное премьерство в правительстве веймаровского — пусть маленького! — государства были на большую пользу той стране и ее гражданам. Фридрих Шиллер, к примеру, мог когда угодно и без малейшего спроса вторгаться в премьерский кабинет, как Булат мечтал входить в начальственные апартаменты Беллы. Ну, а литературный и философский гётевский гений, не признававший, как всякий гений, ограниченного пространства, принадлежал всей планете. Право же, коль осуждать мастеров культуры (не разобравшись и, так сказать, скопом!) за причастность к власти, надо немедля выразить недовольство не только поведением Гёте, но и Жуковского, а заодно и Грибоедова с Тютчевым (верноподданных царских послов!). В этом случае, безусловно, надо бы осудить Салтыкова-Щедрина за его губернаторство и Гончарова, который в литературе победно выдержал испытание временем, однако сочинял не только «Обломова», «Обрыв» и «Обыкновенную историю», но и цензорские демарши.
Много на белом свете муниципалитетов и мэрий. Но муниципалитет города городов другой мэрии не подобен. И служащим его надлежит быть служителями. Среди их голосов один голос может исполнять и исполняет исключительно сольную партию. То голос Ларисы Герштейн. Ныне стало принято совмещать профессии певца и поэта. Мало ли что может смешать, обесцветить и размыть «массовая культура»! В России, мне думается, для подобного «совмещения» были рождены Булат Окуджава, Владимир Высоцкий и Александр Галич. Может, еще несколько (всего несколько!) поэтов и бардов... Смеет ли войти в операционную не хирург и дерзнуть произвести операцию? Смеет ли не пилот взять в руки штурвал и попытаться посадить авиалайнер? Не могут, не смеют... А разве поэт — это не призвание, не профессия избранных? Да простится, что повторяюсь...
Лариса Герштейн соединяет мудрость и очарование поэзии с мудростью и очарованием музыки.
Если бы меня спросили, что позволило Ларисе Герштейн войти, по воле избирателей, в «главные структуры» (да простится заодно уж и казенный термин!) муниципалитета, я бы ответил: голос певицы. Голос этот воплощает в себе то, чего люди ждут от проповедника, проводника и от лидера: проник-
335
новения, понимания. Голос этот обнажает строгую доброту и сильный характер, способный не только провозглашать человечность, но и действенно ее утверждать.
Бог, как известно, предоставил людям свободу выбора. В этом высшая (небесная!) демократия... Город городов по собственному выбору дозволил художнику служить своей эстетической судьбе. И гражданской, человеческой тоже.
Песни Ларисы Герштейн конкретны, но и общечеловечны, как всякая подлинная культура. А житейская помощь людям, благодаря которой и искусству к ним проще пробиться, для Ларисы конкретна всегда: крыша над головой, возможность не разлучиться с профессией, сберечь или спасти здоровье, подарить людям свет не в конце тоннеля, а в самом начале бытия, в его юную пору. Нередко приходится не одну лишь сердечность, но и «власть употребить». В таком единении художника, озабоченного душой человеческой, и государственного деятеля, озабоченного повседневной людской судьбой, я вижу образ Ларисы Герштейн.
В Москве мы жили в одном доме, поднимались вверх и спускались вниз в одном лифте: я знал, что это чета «кукольников» с мировым именем — муж режиссер, а жена актриса. Он — Леонид Хаит, а она — Ася Левина... Обе наши семьи как бы готовились к взаимной откровенности и даже к братству. Это угадывалось в мимолетных взглядах и в том, как мы здоровались и желали друг другу добра. Но главное произнесено не было, точно чего-то ждали... Главное было произнесено в Тель-Авиве.
— Пора уж как следует познакомиться, — сказала Ася, встретив нас возле супермаркета.
И вдруг выяснилось, что мы всё друг о друге знали.
Мы с Таней видели в образцовском театре поставленные Леонидом Хаитом спектакли, а после — в Московском кукольном, где он сделался главным режиссером. Оказалось, что я помнил почти слово в слово хвалебные слова Василия Аксенова о спектакле Хаита, сотворенном в Харькове. (И там он тоже был главным режиссером, но ТЮЗа. Редкостного ТЮЗа!) Асино искусство долгие годы неотделимо от искусства мужа.
А еще я вспомнил, сколь хвалебными аттестациями награждал Леню Сергей Образцов. Леня же вспомнил о том, что намеревался (и даже мечтал!) создать представление по моей юмористической повести «Под чужим именем». Получилось, что в прежнем нашем общении каждый действовал как бы
336
«под чужим именем», а на Святой земле мы, наконец, представились друг другу, назвав имена настоящие. И раскрыли чувства, кои давно тяготели друг к другу.
И вот мы опять живем на одной улице. Сколько на свете улиц! А поди ж ты... Неисповедимы пути Господни! В Москве мы обитали на улице Черняховского (полководца беспримерных сражений с фашизмом!). А тут, не так уж далеко от нас, улица Черниховского (прославленного еврейского писателя). Разница лишь в одной букве. Здесь мы живем на улице Рубинштейна (не композитора, не автора оперы «Демон», и не брата его — легендарного директора Московской консерватории, и не пианиста-виртуоза, но все же — на улице Рубинштейна!). Все перемешалось и словно бы непересекаемое пересеклось. Неисповедимы пути...
Когда-то папа, не знавший и слова ни на идиш, ни на иврите, почему-то привел меня в еврейский театр. И там, в одном спектакле с Вениамином Зускиным, играла совсем юная актриса Этель Ковенская. А потом я встретил ее на сцене Театра имени Моссовета в «Маскараде» — вместе с Мордвиновым (он был Арбениным, а она — Ниной), затем с Мордвиновым же увидел ее в «Отелло» — он был венецианским мавром, а она Дездемоной. Теперь и Этель живет по соседству. Нас — не на сцене, а в жизни — познакомили и сдружили Хаиты.
О брате Аркадия Райкина — искуснейшем отоларингологе, благодетеле оперных певцов — с восторгом отзывались в семье Собиновых-Кассилей. Ныне и Ральф — в одном из соседних домов... Там же, в святом для меня доме Собиновых-Кассилей, я слышал о виртуозе-скрипаче Александре Поволоцком (одном из лучших скрипачей оркестра Большого театра). Он и тут — одна из самых завораживающих скрипок. И тоже сосед...
А самое дорогое для нас место в общении с Хаитами принадлежит их искусству. Великолепным спектаклям... Их театру «Люди и куклы». Если люди все же не куклы, перед таким искусством на Обетованной земле должен открыться обетованный путь...
Не так уж много на свете людей, для коих культура — в изначальном и главном смысле — это кислород, необходимый ежеминутно. Бенцион Томер без духовного кислорода жизни себе не мыслит. Однако в нашей семье, как мне поначалу казалось, его в первую очередь увлекали не мои спо-
337
собности собеседника (если таковые вообще есть!), а борщи, готовить которые моя жена превеликая мастерица. Это плюс к ее другим мастерствам.
Есть люди, которые все делают талантливо и как бы все дегустируют с позиций искусства. Бенцион Томер именно так общался с борщами.
Но все же не только кулинарное творчество было в центре тех наших взаимоотношений. Я тогда уже прочитал его пьесу и прозу, безукоризненно переведенную на русский язык прежде всего Валентином Тублиным. И сразу понял: такой прозаик, драматург и мыслитель, как Бенцион, может сделать честь любой литературе мира.
После обеда рекомендуется испытывать легкое ощущение недоедания. Это благой признак, а переедание — признак скверный. Беседа тоже имеет цену в том случае, если не ощущаешь «переговоренности», а наоборот: слушал и говорил бы еще и еще! Главным образом — слушал... Такая неутоленность — свидетельство нравственного удовольствия, которое, сколько бы ни испытывал, всегда хочется испытать вновь и вновь.
Подобными были и наши беседы. Образованности Бенциона следует соответствовать. В одной из моих повестей персонаж-мужчина сетует на то, что женский ум иногда (подчеркиваю: иногда!) бывает настырным: уж коль она умна, извольте не забывать об этом ни на секунду. Такое случается порой и с образованным человеком: он давит на вас своим интеллектом, мощью которого вы как бы обязаны непрерывно (хотя бы про себя!) восхищаться. Интеллект Бенциона Томера естественен, а потому не обременителен для собеседников — напротив, Томер с интеллигентной ненавязчивостью дарит вам встречи с умом и познанием. Хотя порою, сознаюсь, мне — чтоб соответствовать! — хотелось сбегать за энциклопедическим словарем. Иногда я пытался «пришибить» его малоизвестными цитатами, но оказывалось, что он их знал. Не случайно, совсем не случайно Бенцион в столь неразрывных дружеских отношениях с Ефремом Бау-хом. Двум интеллектуалам есть о чем поговорить.
Даже столь закованный в политическую ортодоксальность любитель «литературы» ужасов и призраков — прежде всего «призрака коммунизма» — каковым являлся Маркс, однажды сознался, что, по его разумению, «Три мушкетера» и «Граф Монте-Кристо» переживут все книги мира. Наша дочь Алена
338
читала те книги более сорока раз (не только читала, но и подсчитала!).
Роман Иосифа Шагала «КГБ в смокинге» — это как бы продолжение литературной традиции Дюма-отца. И весьма достойное продолжение! Роман о политике? А разве внешне не о политике романы Дюма: Наполеон, король, королева, кардинал Ришелье... Однако на самом деле политика та — лишь повод для создания характеров, таких, что пленяют нас и многие поколения отвагой, верностью — всем тем, что именуется рыцарством, мушкетерством, и таких, что побуждают нас самих, хотя бы мысленно, порой схватиться за шпагу.
Я не сравниваю французского романиста с русским писателем, творящим в Израиле. Но как только прочел «КГБ в смокинге» и как только запоем прочла все четыре тома моя взыскательная жена, так сразу возрадовался уверенности: роман будут запоем читать и все другие. Кстати, в Москве он уже объявлен бестселлером. Произведение это — о событиях, связанных с определенным режимом, но оно теми событиями не зажато в тиски. Напротив, идеалы непримиримого противостояния смелости и благородной находчивости коварству и политической бесцеремонности, характеры, которые узнаваемы сейчас и будут узнаваемы завтра, делают роман не зависящим от эпох и режимов.
Иногда о книжке говорят: «Хорошая, но скучная». Как может быть хорошей книга, которую невозможно читать, сквозь которую продираешься будто через тягостное испытание? Как не вспомнить Вольтера: «Хороши все жанры, кроме скучного». А тут — увлекательнейшее чтение. Не оторвешься!
Есть в романе еще один, так сказать, побочный, детективный сюжет... Обложка и титульный лист оповещают нас о том, что автором произведения выступает сама главная героиня романа Валентина Мальцева. И в это можно поверить: женская психология воспроизведена с удивительной точностью. Это как бы история Жорж Санд, но только наоборот. «КГБ в смокинге» написал Иосиф Шагал... И наша читательская признательность — ему.
В Израиле немало тех, что слагают стихи на «великом и могучем» русском языке. Говорю «великом и могучем» без малейшей иронии, хотя, увы, в последнее время об эти святые для меня эпитеты то и дело оттачивают свое остроумие, а верней, острословие сатирики разного калибра. Тот, кто «хорошо понимает о том», или ничтоже сумняшеся произ-
339
носит: «в районе ста тысяч», или делит мастеров слова на «поэтов и писателей», говорит не на русском языке, а на языке дремучей безграмотности. Так что не надо обвинять в искажении языка сам язык. А уж писатели — прозаики и поэты — обязаны уметь пользоваться царственными благами того языка, который действительно могуч.
Дарования не бродят толпами по земле, но все-таки желание Маяковского, чтобы поэтов было «побольше» тут, в Израиле, осуществилось. А сбылась ли его мечта, чтобы те стихотворцы были «хорошими и разными»? Самуил Маршак уверял, что к слову «поэт» не требуется добавлять эпитеты, поскольку само это слово — уже знак признания. Не обязательно следовать этой точке зрения с неукоснительностью и буквально, но и не прислушаться к Мастеру тоже нельзя. Все же скажу: и прекрасные поэтические перья здесь есть!
Пусть простят меня те поэты, любовь к которым я на сей раз вынужден оставить лишь в душе, лишь внутри себя. «Все еще впереди...» Сказать о любви то, что хочешь, сразу, в один присест не всегда получается.
Как известно, «краткость — сестра таланта». Но краткость моих высказываний — не столько «сестра таланта», сколько сестра обстоятельств: объем книги не ограничивает моих чувств, но ограничивает количество слов и строк, коими они могут быть выражены.
«Что это он превращает книгу воспоминаний в книгу благодарностей?» — опять доносится из-за спины занудливый голос. Как вновь не напомнить: в девятом круге Дантова ада мучаются не помнящие добра... Повторюсь: не желаю быть среди них.
«Частенько вы повторяетесь!» — зудит тот же голос. Повторение — не только «мать учения», как говорят на Руси, но и «мать убеждения». В том числе самого себя... И «мать утверждения» тех истин, которые упрямо следует утверждать, если ими пренебрегают.
Свою потрясшую меня книгу воспоминаний Сомерсет Моэм назвал «Подводя итоги». Подводя свои итоги, хочу сказать спасибо всем, кому обязан сказать. А если чье-то добро подзабыл, говорю: виноват...
В первом издании своих воспоминаний, опубликованном на земле Обетованной, я постарался воздать должное всем коллегам по перу, с коими, к счастью, свела меня там судьба.
340
И журналистам, которые писали обо мне и моих книгах. Десятки интервью предложили мне дать за эти три с лишним года. И чаще всего я откликался согласием. То была возможность поделиться с читателями думами, намереньями, сомнениями... А размышлений в сложные времена жизни возникает куда больше, чем в годы относительно простые (вовсе несложных времен не бывает!).
Интервьюеры тоже были хорошими и разными... Но один вопрос, в той или иной форме, задавал каждый: «А почему вы здесь?» Всякий раз отвечал, что я — русский писатель, а писатель более всего принадлежит той культуре, на языке которой он пишет. Жить же, повторюсь, люди вправе там, где хотят. И приезжать в страну, откуда началась их дорога, и припадать там к «отеческим гробам», и вправе опять уезжать... Это самое «вправе» провозглашает Декларация прав человека.
Слишком уж часто и упрямо, а может, и утомительно я повторяюсь. Что поделаешь... Моя книга хоть и не поток сознания, но «поток воспоминаний», не введенный в берега претензией на художественность.
В Израиль мы с женой влюбились. Но душа моя, конечно, с Россией и Москвой не расстается. Израильские врачи мешают неизлечимому моему недугу победить окончательно. А Татьяна геройски вынесла операцию, от которой даже опытнейшие хирурги ее отговаривали: «Это крайне рискованно. Да и вряд ли поможет...» Нейрохирург Иоанна Шифер превратила невозможность в реальность. Спасибо!
«Я встретил вас...» Эта тютчевская строка — на обложке книги. Не только встретил, но и молю судьбу, чтобы Таня всегда была рядом. Целительница услышала... Но до нее услышал Господь.
ЗАПОМНИ ЕГО ЛИЦО...
Из блокнота
Высоко, на том Кавказском перевале, где была остановлена, отброшена и разгромлена отборная эсэсовская дивизия с сентиментальным именем «Эдельвейс», павшим героям воздвигнут памятник. А на нем — фраза из моей повести: «Люди не должны жить минувшим горем... Но тех, кто спас их от горя, они обязаны помнить...» Не сотни, а тысячи читательских писем получил я за долгую жизнь. Но письмо, сообщившее о памятнике в кавказских горах, мне дорого, пожалуй, как ни одно другое. «Обязаны помнить...»
341
— Главное, надо быть вместе, — сказала мама в одно обманчиво мягкое утро. Сказала потому, что война, которая началась ровно месяц и один день назад, грозила нам скорой разлукой.
Чтобы продолжить «мирную» жизнь, мы с мамой решили пойти в кино. Пишу так, хоть моя любимая учительница литературы, Мария Федоровна, не раз объясняла (вновь вспоминаю!):
— Нельзя «ходить» в кино, как нельзя «ходить» в литературу или живопись: это обозначение вида искусства. Можно ходить в кинотеатр. Остерегайтесь неточностей речи, даже общепринятых. Не говорите, к примеру, «март месяц», ибо март ничем, кроме месяца, быть не может. Неточности речи, даже вроде бы узаконенные, ведут к неточности мыслей, а значит — поступков.
Она говорила много такого, чего не было в учебниках и программах.
В кинотеатре шла комедия.
— Как раз то, что надо! — сказала мама.
Здание кинотеатра было одним из домов, окаймлявших просторную, круглую площадь. Она виделась мне огромной поляной, которую по ошибке залили асфальтом... Кинотеатр был очень популярен у школьников: зрителей там после сеанса выпускали не во двор, а в фойе. Можно было уйти, а можно остаться на второй сеанс и на третий. Случалось, я, смотавшись с уроков, не покидал дома на площади до того часа, когда мама возвращалась с работы. «Неужели все это было?» — думал я, слушая сводки Совинформбюро и не веря уже, что изобретательные детские шалости когда-то существовали.
Мама решила развеселить меня — и повела на комедию. Но до кассы мы не дошли... Нас остановил вой воздушной тревоги. Она немого замешкалась, опоздала — и мы услышали зловещее бряцанье «зажигалок». Они ударялись об асфальт посреди круглой площади. Сперва они казались мне ненастоящими. Потому что было светло. Бомбежки в моем сознании со светом не сочетались. Я боялся приближения ночей: они могли оглушать взрывами, вонзаться сиренами. А тут... летний вечер еще только начинал обволакивать город. Быть может, тревога учебная?
Я взглянул на маму — и понял, что время учебных тревог миновало. Днем явилось вдруг то, что раньше отваживалось являться лишь в темноте.
Мама стиснула мой локоть и потащила за собой в переулок.
342
Тогда еще молодая, не познавшая стенокардии и удушающих приступов, она действовала уверенно.
Полпереулка занимал серый массивный дом. Все в нем было основательным, неколебимым. И барельефы на темы каких-то древних сказаний подчеркивали, что дом построен хоть и давно, но на столетия. Над приоткрытой дверью, обитой железом, было написано: «Бомбоубежище». Вход закрывал собой гренадерского вида дворник, очень почитавший свою профессию. Встречались в ту пору такие... На нем был тщательно, до белоснежности выстиранный фартук с начищенной бляхой. Бляха поменьше сияла и на фуражке. Парадно пышные усы были цвета фартука — такие же белые, словно старательно выстиранные.
— Пускаем только женщин с детьми, — не шевельнувшись, предупредил он.
— Но я с мальчиком! — сказала мама.
— Где мальчик? — осведомился дворник. Мама подтолкнула меня вперед.
Ее характер перестал быть похожим на себя самого — она заметалась:
— Вы не можете... не пустить!
Переведя на меня невозмутимый, неподкупно оценивающий взгляд, дворник немного отпрянул от двери — и за его спиной в бомбоубежище прошмыгнула женщина с девочкой на руках. Потом еще отпрянул... Еще... Наконец повторил:
— А где мальчик?
— Его пустить... вы обязаны! Если у вас есть дети... Мамин голос уже не был требовательным, повелительным.
Она умоляла.
Где-то далеко, разлетаясь во все стороны бесстрастно-неотвратимым эхом, обрушилась фугаска. Мама накрыла руками мою голову. На крышах надрывались зенитки.
— Пустите... Вы обязаны...
— Детям не хватает места, — спокойно ответил дворник. И опять отпрянул от двери. — А он у вас... Какой же это ребенок?
— Послушайте... Я прошу вас!
— Не могу.
— Вы человек?!
В мамином голосе была ненависть. И мольба... Но дворник не обратил на это внимания.
Мама вновь стиснула мой локоть и потащила вдоль переулка. Гильзы от зенитных снарядов звякали возле нас. Мама все
343
время пыталась прикрыть меня — руками, плащом, даже сумкой. Гильзы сыпались с крыш...
Тогда она решила спрятать меня в первом попавшемся подвале, не приспособленном под бомбоубежище. В сырой темноте мы наугад нащупывали ступени. Они были выщерблены, до скользкости отшлифованы. Мама шла впереди, прокладывая дорогу.
— Осторожно! — просила она.
В подвале мы присели на какие-то холодные, влажные трубы. И в ту же минуту дом вздрогнул, сотрясся от громового удара. С потолка что-то полетело, посыпалось. Мама прижала мою голову к своим коленям и накрыла ее собой.
— Что это? Что это?.. — послышалось совсем рядом и донеслось из сырой глубины.
Мы поняли, что подвал не только нас одних защитил и спрятал как мог.
Потом все затихли, точно боялись обнаружить себя. А над городом по-хозяйски, нагло перемещался, кружил тупой рокот. И зенитки били по нему исступленно, безостановочно.
Часа через три объявили отбой.
Снова на ощупь обнаруживая ступени, мы поднялись наверх. Наши соседи по подвалу и мокроватой трубе тоже поднялись и, не прощаясь, исчезли, будто растворились в уже наступившем позднем вечере. Мы так и не разглядели их лиц.
Вдоль массивного дома со старинными барельефами выстроились кареты «скорой помощи». Из подвала, на котором было написано «Бомбоубежище», выносили детей и женщин. Они были с головой укрыты байковыми одеялами, хотя вечер выдался теплый. «Прямое попадание!» — услышали мы.
Дворник с пышными седыми усами лежал на носилках возле двери, обитой железом. Здесь был его пост... Он не пустил тех, кому не положено было спускаться в бомбоубежище. И сам не спустился, не спрятался. Разве он знал, что бомбоубежище превратится в могилу? Фартук был смят и забрызган кровью. Фуражка валялась возле носилок... Не пустил меня, не ребенка, в бомбоубежище... Но и сам не спустился.
— Запомни его лицо, — тихо и потрясенно сказала мама. — Он спас нам жизнь.
Банкиров среди моих друзей не было. Но был председатель правления Государственного банка СССР Владимир Сергеевич Алхимов.
В пору почти всеобщей необязательности, когда обещания давались легко и быстро, потому что их редко собирались вы-
344
поднять, Владимир Сергеевич являл собой уникальность: если он говорил, что постарается помочь, можно было считать, что уже помог. А с просьбами к нему обращались разнообразными и разнокалиберными: чтобы из какой-нибудь делегации, направлявшейся за рубеж, не вычеркнули фамилии людей «неарийского» происхождения; чтобы проложить дорогу молодому специалисту, способности которого по той же причине наталкивались на плотины; чтобы устроить в хорошую больницу хорошего человека; восстановить справедливость в солидном конфликте (по мелочам его не тревожили)... Помню, как мать моей жены Мария Георгиевна погибала от инфаркта — обширного, словно бы вместившего в себя все ее беды «по линии» мужа-еврея, погибшего в Магадане, о чем я уже писал, и «по линии» ее дворянской семьи: кого утопили в Неве, дабы «не тратить патронов», а кого «приставили к стенке». Профессор Сыркин, прославленный кардиолог, сказал:
— Достать бы вот это лекарство... Но его нет даже в кремлевской аптеке. У вас в ФРГ нет связей?
В ФРГ у меня связей не было. Но имелась неразрывная связь с Володей Алхимовым. И через день ящик с лекарствами мне доставили. Но уже было поздно... Потом то лекарство пригодилось любимому нашему другу — Льву Эммануиловичу Разгону.
Авторитетные финансисты разных континентов и стран считали Владимира Алхимова крупным, а то и единственным «советским банкиром». Безупречно владел языками. Происходил же из бедняцкой крестьянской семьи. «Есть женщины в русских селеньях...» — провозгласил великий поэт. Но и мужчины в тех селениях были и есть замечательные! Володя Алхимов устранял сомнения по этому поводу.
Он был вернейшим отцом, мужем, другом... И Героем был не только по официальному званию, но и по сути характера своего: во время битвы за Ленинград, изматывающей артобстрелами, бомбометанием, голодом, он вызвал огонь на себя — и спас дивизию. Его с трудом обнаружили, откопали... Отечеству он служил верой и правдой. Но отечество (в лице высокопоставленных «представителей») это не оценило... Или не захотело помнить, стоило лишь Володиной дочери Наташе и ее молодому, но знаменитому супругу, пианисту с мировым именем, Андрею Гаврилову задержаться в зарубежных гастролях дольше, чем наметило министерство культуры, Премьер-министр Николай Рыжков (а было это уже в эпоху «перестройки») враз позабыл о таланте, о воинском и гражданском героизме Владимира Сергеевича Алхимова. А его душевные качест-
345
ва политиков не интересовали. Они не могли понять того, на что сами способны не были. Золотая звезда Героя Советского Союза в расчет тоже взята не была. Владимира Сергеевича отправили на «заслуженный отдых». Хотя отдыхать он не хотел, не любил. И оказался бы столь полезен! Но дочь с супругом за рубежом задержались. И это перевесило все.
Владимир Сергеевич умер... Но я навсегда запомнил лицо своего друга: открытое, бескорыстное, доброе.
...Это случилось на заседании коллегии Министерства культуры СССР. Обсуждались меры порицания «за идеологические вывихи». Я вошел в зал, когда дискуссия (впрочем, весьма единодушная) завершалась. Голосование было почти единогласным. Почти... Так как в ответ на вопрос «Кто против?» поднялась одна рука. Она выглядела одинокой, но не беззащитной, уверенной в своей правоте. То была рука драматурга Афанасия Салынского.
«Когда нечего терять, геройствовать не так страшно», — уверяет один из моих персонажей. Салынскому было что терять: главный редактор журнала «Театр», которым он отечески дорожил, председатель Совета по драматургии Союза писателей СССР, что позволяло ему противостоять драмоделам. Одного он не мог потерять ни при каких обстоятельствах: своего драматургического дара. И потому никогда не слыл человеком официальным. «Летние прогулки», «Молва», «Барабанщица», «Камешки на ладони», «Опасный спутник»... Сам он не был опасным спутником ни для одного порядочного человека, а был «спутником» рыцарски надежным. Опасались его — незабвенного моего Афона — лишь конъюнктурщики, прохиндеи и интриганы. «Я против!» — говорил Афанасий и поднимал руку, как бы призывая всех вспомнить о Боге.
Афон, мы с Таней помним ту руку и лицо твое, открытое навстречу справедливому «за» и бесстрашному «против». А рядом — лицо Раечки, вдохновительницы твоей и вернейшей подруги (на фронте — в дни битвы и в прекрасном вашем доме — в дни мира)...
Двоюродный брат мой — по имени тоже Анатолий — в годы войны был летчиком-торпедоносцем на Крайнем Севере.
Торпедоносцев втихую именовали «смертниками»: их повседневной обязанностью было топить фашистские транспорты. Топить любой ценой: бомбить, таранить, а в крайнем случае — «падать» на ощетинившиеся зенитным огнем корабли.
346
Под «художественным руководством» Алексея Германа был создан фильм «Торпедоносцы», до того, как свидетельствовал брат мой, достоверный, правдивый, что порою казался документальным. Там воссозданы доблесть и ужас тех дней...
— Были у нас на Севере и писатели, — рассказывал брат. — Даже знаменитые! К примеру, Лев Кассиль, Константин Симонов... Бесстрашно себя вели. Хотя это было трудно...
А уже после войны мне доводилось читать всякие пасквили про одного и другого. Лев Абрамович кому-то не угодил своим «пятым пунктом», а Константин Михайлович — вероятно, своей знаменитостью и, как считали, удачливостью. Читал я и думал: неужто забыли их храбрость, забыли кассилевские повести и романы, симоновские стихи, которые мы из газет вырезали и наизусть знали? Неужели забыли?!
Важно, конечно, чтобы читатели помнили... А завистники и пасквилянты? Иногда говорят: «Не обращайте на них внимания!» Взор и разум способны «не обращать», но сердца не выдерживают. Клеветников иногда можно приравнять и к убийцам: они укоротили многие жизни.
Помню страшную двухподвальную статью на страницах «Правды»: «Выше революционную бдительность!..» В ней литературовед Евгения Александровна Таратута, посвятившая свое перо литературе для детей и подростков, обвинялась не в чем-нибудь, а в... шпионаже. Автором лжесенсации, размноженной многомиллионным тиражом, был ответственный секретарь, а позже первый заместитель главного редактора по фамилии Козев.
— Пошла «коза рогатая»! — с безнадежностью произнес Кассиль. — Какими «шпионскими сведениями» располагала Женя? Разве что нашими книжками?
Время было погромное. Казалось, в канун кончины «вождь и мучитель» боялся, что не успеет... кого-то заточить, кого-то отправить на тот свет. Палач торопился, громоздил одно злодеяние на другое. И вот в те годы Лев Кассиль и Агния Барто регулярно отправляли посылки в концлагерь Евгении Таратуте. И не потому, что она была биографом их творчества, а потому, что была человеком высокой порядочности. Они верили ей — и не собирались от нее «отпираться», чем бы это им ни грозило. Повсюду защищали ее...
— Как она там, бедная? Как?! — вопрошал Лев Абрамович, не надеясь на чей-то ответ. — Я вижу ее лицо.
А я вижу и их лица... Лица тех, которые в любых обстоятельствах, порой в нечеловеческих условиях оставались людьми.
347
Много раз писал я о мраморных досках возле двух входов в Центральный Дом литераторов — с улицы Герцена и с Поварской. Я всегда помню тот камень, те вросшие в него имена московских писателей, что сложили головы на полях Отечественной. Разные национальности, разные дарования... Но они навсегда вместе. Их навечно побратали, соединили подвиг и ненависть к фашизму. А если ненависть ко злу и стремление к братству объединят вообще всех честных, хороших людей (к ужасу плохих!). Об этом мечтал Толстой... Несбыточные грезы? Вероятно. Но вдруг когда-нибудь сбудутся?
СОДЕРЖАНИЕ
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ.......................... 3
РЕНТГЕН. С голоса.................................... 5
ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА... Из блокнота........... 23
СКВОЗЬ РЕШЕТКУ. Из блокнота........................ 28
ЗАБРОШЕННЫЙ ПАМЯТНИК. С голоса................... 31
КАК СОЗДАВАЛИСЬ ЛЕГЕНДЫ... Из блокнота............ 38
«ФИНИТА ЛЯ КОМЕДИА». Из блокнота.................. 44
ОТЕЦ И ДЕТИ. С голоса............................... 48
ЗАПОЗДАЛЫЕ ПОКАЯНИЯ. Из блокнота................. 59
ПОЭТОМ ДОЛЖЕН «ТЫ НЕ БЫТЬ». Из блокнота .. 67
МОЯ БАБУШКА АНИСИЯ ИВАНОВНА. С голоса.......... 69
ПОЦЕЛУЙ НИКИТЫ СЕРГЕЕВИЧА. Из блокнота........... 101
КУЛЬТ... «ПРОТИВ КУЛЬТА». Из блокнота............... 104
«НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ...» Гоже из жизни........ 107
ИВ МОНТАН, СЕРГЕЙ ОБРАЗЦОВ, ДЖОН СТЕЙНБЕК
И ИХ «БОЕВЫЕ ПОДРУГИ». Из блокнота............... 117
ПОД КЛИЧКОЙ «ЧАН КАЙШИ». Из блокнота............ 125
ДВАДЦАТЬ ОДНА МИНУТА. С голоса.................... 130
ПЕРВАЯ ЛЕДИ И ОМОН. Из блокнота.................. 143
СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. Из блокнота....................... 146
ПРО ЕГОРА ГАЙДАРА, ЕГО ОТЦА ТИМУРА И ЕГО БАБУШКУ ЛИЮ. Из блокнота......... 152
ВИКТОРИЯ. С голоса................................... 155
ОТЕЛЬ «ЕСЕНИА», НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ СВИДАНИЕ И ПРОГУЛКИ С КОСЫГИНЫМ. Из блокнота................ 164
ИСТОРИИ С ВАЗАМИ, САМОЛЕТАМИ И СЛУЧАЙНОСТЬЮ. Из блокнота........................................... 172
ТРИУМФЫ И ТРАГЕДИИ. Из блокнота.................. 176
ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ. С голоса..................... 182
МАРК ШАГАЛ, ПИКАССО, ФЕЛЛИНИ, ЛАНДАУ,
АНДРОНИКОВ, ГАГАРИН... ЧТО ОБЩЕГО? Из блокнота . . 209
НЕЗАБВЕННЫЙ ЛЕВ АБРАМОВИЧ... Из блокнота......... 214
ХОЛОСТЯК. Тоже из жизни............................. 219
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ГОРКОМА КПСС, ГРЕЙС КЕЛЛИ И ВЕЛИКИЕ РЕЖИССЕРЫ. Из блокнота...... 230
ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТ — СЕРЫЙ. Из блокнота..............237
«А КСТАТИ...» Из блокнота............................. 241
МЕРТВОЕ МОРЕ. С голоса............................. 244
ДИРИЖЕРСКАЯ ПАЛОЧКА. Из блокнота..................251
«УМЕРЕТЬ НА СЦЕНЕ...» Из блокнота..................255
ЛЁВЧИК ШЕЙНИН И ДРУГИЕ... Из блокнота............ 258
МОЙ БЛОКНОТ И МОИ ЧИТАТЕЛИ. Из блокнота........263
«ЮНОСТЬ» И МОЯ ЮНОСТЬ. Из блокнота............. 266
«МАЛЫШ». Тоже из жизни..............................271
ДИАЛОГ С ПРЕЗИДЕНТОМ. Из блокнота................277
НЕВОЛЬНИК ЧЕСТИ. Из блокнота....................... 280
НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ, ЦЕЛИТЕЛИ... Из блокнота.......281
«УЖЕЛЬ ТА САМАЯ ТАТЬЯНА?..».......................286
ПРО АЛЕНУ............................................ 293
«СМЕШИЛКА». Из дневника девчонки....................299
«ДЬЯВОЛУ СЛУЖИТЬ ИЛИ ПРОРОКУ...» Из блокнота.... 319
ЗАПОМНИ ЕГО ЛИЦО... Из блокнота.................... 341