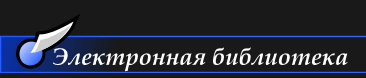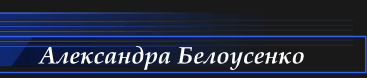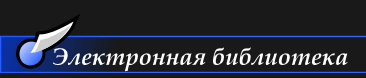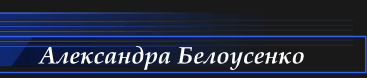|
|

Исаак Моисеевич ФИЛЬШТИНСКИЙ
(1918-2013)
18 октября 2013 г. в Москве на 96-м году скончался легендарный отечественный арабист Исаак Моисеевич Фильштинский.
Он прожил долгую и сложную жизнь, вместившую в себя, кажется, всё, что человек вообще способен вынести: необыкновенную дружбу, предательства (не одно!), беззаветную любовь, войну, лагерь, признание, учеников, одиночество.
Детство было почти счастливым: Чистые пруды, мама и папа, папина библиотека и тома Моммзена, немецкая спецшкола, учительница-немка и на всю жизнь вызубренная статья об итальянском вторжении в Эфиопию. Похороны Ленина. Коллективизация – длинные обозы несчастных людей. «Чемберлен – старый хрен!..» – детские речёвки на Красной площади. Ночью перед сном шёпот родителей: «Слышал, такого-то забрали…»
Все думали, станет математиком, сам мечтал об искусствоведении, но отделение не открыли, и пришлось пойти на археологию. Учёба в легендарном ИФЛИ: Павел Коган, Давид Самойлов, Григорий Померанц, Лилианна Лунгина. Дружба с некоторыми из них будет длиться более полувека.
Госэкзамен – 22 июня 1941 года. «Я не знал, что началась война, правда, потом уже вспоминал очень возбужденную толпу японцев перед посольством. Когда отвечал, комиссия меня совсем не слушала, спросили только: "Вы военнообязанный?"»
На фронт не взяли. Сначала отправили на специальные курсы (где-то в далёком Подмосковье) для прохождения военной подготовки, но офицер, обязанный доставить туда их группу, по дороге напился, что-то перепутал, и всех завернули обратно. В Москве же, когда выяснилось, что Фильштинский владеет несколькими европейскими языками, его откомандировали в Военный институт иностранных языков – учить китайский. Через две недели перевели на арабский («Я готов его учить, если в нём есть алфавит!») – в группу под руководством выдающегося арабиста Харлампия Карповича Баранова. Составленный им арабско-русский словарь Фильштинский несколько раз перепишет от руки.
Была война, учёба в институте, какие-то разведывательные задания в Турции, потом – преподавание и аспирантура. Диссертацию, посвящённую Египту времён экспедиции Бонапарта, полвека спустя профессор Института стран Азии и Африки МГУ Ф. М. Ацамба назовёт научным подвигом и «ремеслом историка, доведённым до степени искусства». Приложение к той работе – перевод труднейшей хроники ал-Джабарти и сегодня читает каждый историк-арабист в студенческие годы.
И вдруг – арест. Статья 58-10 УК СССР с формулировкой «молча солидаризовался». Дали десять лет, отпустили через шесть. Это время, проведённое в Каргопольлаге, Исаак Моисеевич спустя десятилетия опишет в очень светлой, очень доброй (несмотря на все ужасы) книге «Мы шагаем под конвоем». Он будет вспоминать о нём в последние годы и в последние дни своей жизни.
Два человека, прошедшие с ним через лагерь, останутся его ближайшими друзьями на долгие, долгие годы – фольклорист Елеазар Моисеевич Мелетинский и философ Григорий Соломонович Померанц.
За шесть лет лагерей всё так изменилось! Умерла мать, ушла жена, научной степени лишили: «Когда я узнал, что меня отпускают, первое, что испытал, – безумную, неимоверную злобу», – рассказывал он потом.
И всё же постепенно жизнь входила в своё русло: Исааку Моисеевичу было 37 лет, он был почти свободен и почти здоров. С работой помогли Маргарита Рудомино и директор Института восточных языков Александр Ковалёв. Потом восстановили в степени и взяли в Институт востоковедения Академии наук младшим научным сотрудником.
А потом появилась Асенька – Анна Соломоновна Рапопорт, ставшая его возлюбленной, другом, соратником и всем главным содержанием жизни на следующие полвека. Я много общался с ними уже в начале 2000-х – не знаю ни одной пары, которую связывали бы такие любовь и нежность.
Столько всего было сделано в следующие годы! Переводы классической арабской прозы, работы по истории культуры и искусства, народный арабский роман, исследование которого, к сожалению, сейчас практически сведено на нет. И конечно, огромное количество переведённой средневековой поэзии.
А параллельно с этим – активное участие в диссидентском движении. Фильштинский организует квартирники Галича и первые публичные чтения лагерной прозы Солженицына, участвует в самиздате, знакомится с Бродским, Анна Соломоновна занимается английским едва ли не со всеми деятелями нашего диссидентского движения, все они собираются у них дома. Сюда же приходят Юрий Михайлович Лотман (когда бывает в Москве), Юрий Александрович Левада, Арон Яковлевич Гуревич, Веничка Ерофеев, Андрей Амальрик и многие-многие другие.
В 1968 году Исаак Моисеевич с Анной Соломоновной пишут письмо Косыгину в защиту Гинзбурга. Начинаются обыски. На работе сначала защищает директор Института востоковедения Бободжан Гафуров, но после его ухода защитить становится некому, да и давление сверху растёт, и в 1978 году новый директор, Евгений Максимович Примаков, Фильштинского увольняет: «Под мельканье пропащих лет, в ожиданье всё новых бед, я тянул свой пустой билет, с той поры, как увидел свет», – напишет Исаак Моисеевич потом.
Тогда спасло издательство «Наука», вдруг заказавшее опальному учёному историю средневековой арабской литературы. Двухтомник «История арабской литературы V–X вв.» и «История арабской литературы X–XVIII вв.», равного которому по охвату материала никогда не было и нет до сих пор, станет, пожалуй, если не главным, то самым известным трудом Фильштинского.
В начале 1990-х Исаак Моисеевич вернётся к преподаванию – в ИСАА МГУ. Здесь на его лекции по арабской литературе и по суфизму будут сбегаться и студенты, и преподаватели. Здесь в 75 лет он получит давно заслуженную докторскую степень и профессорское звание. Здесь, наконец, он напишет свои последние большие работы «История арабов и Халифата 750–1517 гг.» и «Халифат под властью династии Омейядов». Эти необыкновенные книги не просто выдержат множество переизданий, но для некоторых арабистов (в том числе для меня) фактически определят выбор профессии.
Он очень любил преподавать, общаться со студентами. Входил в аудиторию, доставал из чёрной сумочки карточки и начинал рассказывать. И тогда всё вокруг умирало – не было ни аудитории, ни мира вовне, был только его голос, только рассказ, только мерное покачивание его головы и полуприкрытые глаза.
Он преподавал до последнего. Даже после сломившей его смерти Анны Соломоновны в 2008 году. До последнего же мечтал написать «Историю арабов времён пророка Мухаммада и праведных халифов».
У него было много учеников – среди них едва ли не все сегодняшние крупные наши арабисты, включая акад. А. Б. Куделина, чл.-корр. РАН В. В. Наумкина, д.и.н. И. М. Смилянскую, д.и.н. Д. В. Микульского.
Я тоже его ученик, последний.
Я научился у него двум, мне кажется, главным вещам: тому, что самое интересное в жизни и в науке, – это человек, и только о нём имеет смысл писать; и тому, что писать нужно обязательно хорошо.
Я очень постараюсь, Исаак Моисеевич.
Я люблю Вас. Простите за всё.
Василий Кузнецов
(Из проекта "Лехаим")
Произведения:
Книга "История арабов и Халифата (750-1517 гг.)" (1999, 384 стр.) (pdf 11 mb)
(издание любезно предоставил Яков Клейнер (Нацрат-Илит, Израиль);

OCR: Давид Титиевский (Хайфа, Израиль))
В книге излагается история арабов и Халифата с момента прихода к власти династии Аббасидов в 750 г. и до завоевания стран Ближнего и Среднего Востока турками-османами в 1517 г. На широком историческом фоне рассматривается развитие исламской догматики и эволюция исламских институтов, образование в исламе различных сект и направлений, а также появление в исламе рационалистического течения. Особое внимание уделяется арабо-мусульманской средневековой культуре, освоению арабами древнегреческого и эллинистического
наследия, деятельности арабских переводчиков, развитию арабской научной и философской мысли, а также арабскому словесному искусству.
Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся историей и культурой стран Востока, а также в качестве учебного пособия для студентов историко-филологических и восточных факультетов университетов и педагогических институтов.
(Аннотация издательства)
Книга "История арабской литературы V – начало X века" (1985, 531 стр.) (pdf 20,3 mb)
– копия из библиотеки "ZLibrary"

В книге систематически излагается история арабской литературы с момента появления первых памятников словесного искусства в V веке и до начала X века. На широком историко-культурном фоне рассматриваются поэзия доисламской Аравии, а также поэзия и проза развитого арабо-мусульманского средневекового государства (Халифата). Специальное внимание уделяется творчеству таких выдающихся арабских поэтов и прозаиков, как Башшар ибн Бурд, Абу Нувас, Абу-ль-Атахия, Ибн аль-Мукаффа, Абу Таммам, Ибн ар-Руми, Ибн аль-Мутазз, аль-Джахиз и другие. Отдельные главы книги посвящены истории возникновения ислама и Корану как литературному памятнику, арабской средневековой культуре и науке, арабо-мусульманской философской и религиозной мысли, а также зарождению средневековой арабской литературной критики.
(Аннотация издательства)
Книга "Мы шагаем под конвоем. Рассказы из лагерной жизни" (1994, 192 стр.) (pdf 5,8 kb) – июль 2025
– OCR: Александр Белоусенко (Сиэтл, США)

И. М. Фильштинский – известный учёный-востоковед, автор многих трудов по арабской истории и литературе. На склоне лет он рассказывает о том, что пережито им самим в годы репрессий, когда по доносу он был отправлен в сталинские лагеря. От большинства опубликованных ранее лагерных воспоминаний "Мы шагаем под конвоем" отличаются отсутствием разоблачительного пафоса. Он рисует лагерь как царство трагического абсурда, в котором, однако, есть место любви и состраданию. Фильштинский повествует не столько о себе, сколько о людях, с которыми судьба сталкивала молодого учёного в ГУЛАГе. Каждая глава книги в сущности – это целый роман, сжатый до объёма новеллы.
(Аннотация издательства)
Фрагменты из книги:
"– Я из-под Харькова, в ломовиках был. Возили за деньги что ни попадя, разную кладь. Потом, как стали прижимать частный промысел, – продал лошадь и пошёл в артель работать. Ну, как известно, пьянство, драки. Я там одного шкодника ножом колонул. Пошёл за хулиганство. Отправили на Дальний Восток строить Комсомольск-на Амуре. Твои б... и писатели что пишут? Комсомольцы, комсомольцы! Хрен им. Яшка Желтухин Комсомольск строил, а когда дома и судостроительный завод построили – комсомольцы приехали, а нас дальше погнали, в тайгу. Первый срок был детский – два года. Там дальше пошло. Пять судимостей у меня, все драки по пьянке. Словом, хулиган. А как война началась, меня из лагеря взяли и на фронт. Попал я в плен к финнам, батрачил там у одного. Я ведь из деревни, в тех делах понимаю. Полол, косил, делал, что придётся. Ничего, на хозяина не жалуюсь. Как война кончилась, финны нас всех сдали Советам, я получил десятку за измену родине. Попал в политики. Так-то.
Яша был человек хозяйственный. Он нашёл место близ запретки на территории завода и развёл небольшой огород. Заводское начальство и надзор делали вид, что этого не замечают, – его крестьянская деловитость вызывала уважение.
Но что создавало Яше особую известность в зоне, а среди уголовников вызывало неприязнь и презрение, так это его специфический промысел. Яшка был золотарём и занимался в жилой зоне очисткой выгребных ям. Разумеется, никакой канализации в зоне не было, ямы под стоящими по углам зоны деревянными домиками быстро наполнялись, и от вредных запахов нас спасало лишь то, что лагерные бараки были выстроены на холме, овеваемом постоянно дующими с Ледовитого океана и создававшими естественную вентиляцию ветрами. Когда ямы наполнялись, Яшка, которого для этого освобождали от работы на заводе на целый день, получал телегу с лошадью, большой ковш и вывозил нечистоты в посёлок, где у него их охотно покупали местные огородники из числа вольнонаёмных и надзирателей. Лагерная администрация также платила ему отдельно за эту работу. Всё это Яшка делал не из жадности, деньги нужны были ему для совсем особой цели."
* * *
"– В колониях я три раза побывал. Да нет, ничего, жить можно. Зависит от того, как себя поставишь. Меня там не трогали, боялись. А вообще-то народ там отпетый. Помню, как-то начальство решило немного разгрузить нашу колонию. Уж больно много нас там набралось, и решили часть послать на стройку учениками. Было это в Сибири. Отобрали тех, у кого срок остался небольшой и «кто стал на путь исправления». – Последнюю фразу Витёк произнёс с иронической интонацией в голосе. – Погрузили нас в несколько теплушек и отправили. Конвоя нам не дали, а сказали: «Вы теперь вольные и сами доберётесь». Только в классном вагоне ехали двое сопровождающих, которые должны были доставить нас до места.
Как-то вечером поезд остановился на небольшой станции. Дело было вскоре после войны, достать билет на поезд было трудно. Подходит к вагону один старичок и говорит: «Ребятушки, доехать с вами нельзя ли? Здесь всего один перегон. Утром я на месте буду».
– Залезай,– сказали мы.
Старичок отошёл, а потом вернулся и говорит:
– Нас тут двое, со мной внучка, нам бы двоим сесть.
– Да двоим-то, пожалуй, и места не будет.
– А я тут в соседнем вагоне договорился, меня там посадят. А девочку уж к вам, если можно.
– Сажай.
Девочка была невысокого росточка, на вид ей можно было дать лет четырнадцать-пятнадцать. Ей помогли подняться в теплушку и поместили на нарах. Старик ушёл, и вскоре поезд тронулся. Все устроились спать. Ночью меня кто-то разбудил: «Вставай, Витёк, твоя очередь!» Я сперва спросонья не понял, они, оказывается, девку всем хором драли. Я-то вообще не люблю коллективок, но на этот раз полез. А потом лежим и думаем, что дальше делать, отвечать ведь придётся, она чуть жива. Обратно в колонию неохота. Кто-то предложил выбросить из вагона – и концы в воду. Девку поставили у открытых дверей. «Что, наелась, сука!» – крикнул один, шарахнул её ногой в живот и выбросил из вагона. Утром прибежал старичок: «Где внучка?» – «Какая тебе внучка, ты что, охуел?» Старик туда, сюда. А поезд в это время пошёл. Ну и всё.
Стало тихо в курилке.
Здоровенного роста детина, шофёр на лесовозе, сидящий за бандитизм, изрёк:
– Ну и гад же ты, Витёк. Таких, как ты, убивать надо при рождении!
– Да ведь убивать-то нас трудно, мы сами кого хочешь... – как-то очень спокойно и даже безразлично сказал Витёк.
Помолчали. Потом Витёк добавил:
– А что ей, она же девка конченая, дырявая, как жить бы дальше стала. Ей же лучше так."
* * *
"Я слышу, как мой приятель, голубоглазый великан из Белоруссии, с которым я часто беседую на разные исторические темы, насмешливо произносит по-английски «вел дан!» (хорошо сделано!). Накануне я рассказал ему, что именно этой краткой формулой в сражении при Абукире в 1798 году по приказу английского адмирала Нельсона сигнальщик поздравил команды кораблей, в считанные минуты потопивших французскую флотилию. Видно, парень запомнил мой рассказ. Теперь и я удостоился комплимента. Судьба парня сложилась трагически: он родился в сельской местности где-то под Гродно, во время войны, подростком, оказался с родителями в Германии, после войны перебрался в Соединённые Штаты и служил там в торговом флоте механиком. Ему захотелось повидаться с оставшимися в Белоруссии родными. Он списался с ними и поступил на корабль, который возил грузы в рижский порт. Туда же приехали и старики родители. В Риге он сошёл на берег, был арестован и после полутора лет Лефортовской тюрьмы получил двадцать пять лет за измену родине, которую он видел только ребёнком. С родителями он сумел увидеться только во время свидания в лагере."
* * *
"Бытует мнение, что бежать из советского лагеря крайне трудно или даже практически невозможно. Тем не менее история лагерей знает немало подобных попыток, иногда успешных, а иногда окончившихся для участников трагически. Существовало правило, согласно которому всех тех, кого оперативникам удавалось изловить, возвращали в тот же самый лагерь, чтобы убедить заключённых в безнадёжности такого рода предприятий. Часто тела тех, кто при побеге был убит, привозили к воротам лагеря и на некоторое время оставляли там лежать в назидание другим. Впрочем, неудачи предшественников не останавливали новых смельчаков, и всегда находились предприимчивые или отчаявшиеся зека, готовые пойти на риск в поисках желанной свободы. За время моего пребывания в лагере с 1949 по 1955 год было несколько попыток побега, и некоторые из них увенчались успехом.
Я помню, как лагерь облетела весть о том, что с одного из соседних ОЛПов, где содержались в основном железнодорожники – строители ветки и обслуга действующей её части, бежал шестидесятилетний инженер, осужденный по 58-й статье. Это был опытный путеец, которого вскоре после прибытия в лагерь расконвоировали и назначили на работу по прокладке новой трассы. Однажды утром он, как всегда, отправился на свой участок и более не возвратился. Позднее в лесу нашли брошенные им геодезические инструменты. Одновременно с ним из Ленинграда исчезла его жена, ранее неоднократно приезжавшая на свидания к мужу. Выяснилось, что в прошлом инженер участвовал в строительстве железной дороги Ленинград – Петрозаводск и хорошо знал пограничный с Финляндией район. Высказывалось предположение, что он ушёл в Финляндию. Так или иначе, но, несмотря на все усилия, оперативникам на след его напасть не удалось и к нам в лагерь его не вернули."
Страничка создана 21 августа 2020.
Последнее обновление 5 июля 2025.
|